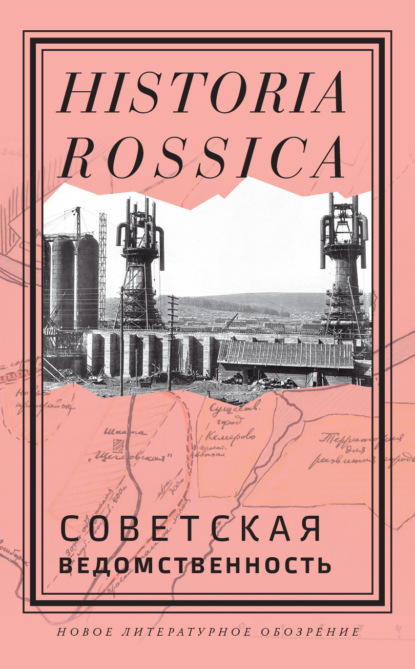
Полная версия:
Советская ведомственность
Сюжеты этих глав показывают ведомственность как социальную практику управления и контроля над обществом. Анализ жилищной, образовательной и музейной деятельности ведомств и предприятий приводит нас к мысли о том, что ведомственность – это социальность. Иначе говоря, это феномен, который глубоко погружен в будничные и частные отношения между людьми и во многом фреймирует их. Однако, как уже было сказано, ведомственность – это еще и практика бюрократических формальных и неформальных отношений внутри и за пределами административных и экономических институтов. В перспективе социальной антропологии особенно актуально объяснение того, как низовое чиновничество в лице уличных бюрократов непосредственно взаимодействовало с обычными гражданами в СССР8. Громоздкие советские ведомства не были просто институциональными абстракциями, а выражались в действиях и практиках своих низовых представителей, которых я называю ведомственными агентами. К сожалению, этот бюрократический фокус ведомственности не был достаточно представлен в данной монографии. Вместе с тем, кажется, авторам книги удалось обозначить направление исследований практик советских бюрократов, которые можно интерпретировать через призму ведомственного подхода.
ДискурсВедомственный подход как теория среднего уровня основывается на языке самих современников. Для советских администраторов и политиков ведомственность являлась важным понятием, которое ярко описывало институциональную действительность Советского государства. Но оно не было статичным и универсальным, скорее наоборот – оно менялось в зависимости от контекста его использования. Советская ведомственность хоть и имела разные формы своего воплощения – система, материальность, практика, но она всегда определялась дискурсивно. Поэтому в рамках ведомственного подхода я предлагаю рассматривать это явление и связанные с ним отношения прежде всего как дискурс. Причем эта дискурсивная категория может быть зафиксирована с двух точек зрения: с одной стороны, как дискурс о ведомственности, а с другой – как дискурс, порожденный ведомствами. В первом случае ведомственность проявлялась только там, где о ней говорили участники событий, а акцент делается на том, каким образом осмыслялось и означивалось понятие «ведомственность» в конкретно-историческом контексте. Во втором случае ведомственность становилась рецепцией риторики, мифов и нарративов, которые воспроизводили ведомственные институты и предприятия.
Во второй главе монографии я смотрю на дискурс ведомственности через фукианскую концепцию гувернаментальности, которая обозначала артикулированную рационализацию в публичном дискурсе самых разных практик (у)правления. В этой интерпретации ведомственность была элементом двух параллельных дискурсивных процессов в Советском Союзе – гувернаментализации государства и государственных интересов, то есть их дискурсивного осмысления, а также гувернаментализации советской бюрократии. В обоих контекстах ведомственность выступала в качестве отрицательной противоположности либо Советскому государству, либо его бюрократическому аппарату. Когда советские управленцы декларировали о проблеме ведомственности, то они всегда определяли и рационализировали сущность Советского государства. Таким образом, дискурс о ведомственности говорит не просто об истории отношения к своего рода паллиативам в решении политических, экономических, социальных и административных проблем, конфликтов или задач, он дает нам намного большую перспективу – антропологически замеряет, как разные социальные группы воспринимали и описывали Советское государство.
Материалы второй главы показывают, что советская риторика о ведомственности в 1920‑х – начале 1950‑х годов находилась в постоянном изменении. Сначала именно в период нэпа и режима экономии понятие «ведомственности» стало частью гувернаментализации государства, когда ведомственные интересы рассматривались как прямая оппозиция государственным интересам. В конце 1920‑х – середине 1930‑х годов использование этого понятия практически всегда было связано с административным бюрократическим контекстом или проявлялось в описаниях конфликтов в процессе коллективизации. Во второй половине 1930‑х – начале 1940‑х годов «ведомственность» превратилась в политическую категорию, часто артикулируемую в языке Большого террора и идеологии дисциплинарного общества. В период Великой Отечественной войны проблема ведомственности была как бы вымыта из публичного дискурса, поскольку существование подобных явлений не признавалось в условиях военного времени. В позднем сталинизме советские газеты активно возвращали понятие «ведомственности» в язык передовых и репортажей. Однако теперь оно серьезно поменяло свое основное означаемое – выступило главной оппозицией городской власти, а ведомства заняли в публичном дискурсе место противников горсоветов и их политики восстановления и развития городов после войны.
Монография не описывает перипетии феномена ведомственности в публичном дискурсе позднесоветской эпохи. Однако из глав А. Иванова и А. Сметанина видно, что в период хрущевской реформы ведомственность понималась как перманентный конфликт и несогласованность между различными институциями – совнархозами, министерствами, главками, предприятиями. Вероятно, такое отношение к этому явлению сохранялось во времена косыгинских реформ. В то же время очевидно, что в 1970–1980‑х годах публичный дискурс на первый план выдвигал формулирование социального аспекта в феномене ведомственности, следствием которой признавались проблемы в жилищном обеспечении, экологии, благоустройстве и строительстве учреждений соцкультбыта. Одновременно с этим на закате Советского Союза ведомственность нередко называлась вообще основной бедой советской экономической и административной системы, но, правда, и ее свойством, обеспечивающим устойчивость. Так, Е. Т. Гайдар писал в 1990 году, что формирование ведомственных систем было важнейшим стабилизирующим фактором в иерархической экономике, но вместе с тем вело к инерционности системы и ограничению возможности перераспределения ресурсов9. В целом, вероятно, в 1980‑х – начале 1990‑х годов, особенно в среде экономистов, доминирующей была антиведомственная риторика. В условиях перестройки ведомственность рассматривалась как «неприкрытый отраслевой монополизм» и бюрократизм, который перерос рамки канцелярии и получил «корпоративное сознание». Экономисты были склонны считать, что «ведомственность губительна для общества», когда «по ведомствам растаскивается экономическое, экологическое и, в конечном счете, моральное здоровье нации»10. Именно эволюция этой антиведомственной риторики в позднесоветский период остается наиболее перспективной для использования ведомственного подхода и требует отдельного исследования.
Дискурс о ведомственности мог фиксироваться не только в прямой вербальной артикуляции этого понятия и его всевозможных предикатов. Критика ведомственных отношений и советской бюрократической системы могла проявиться во всевозможных формах, в том числе в художественных образах кино, литературы, театра или изобразительного искусства. Так, в одиннадцатой главе М. Клинова и А. Трофимов анализируют карикатуру и сатирические представления о советских хозяйственных руководителях на материалах журнала «Крокодил» в период оттепели. Авторы приходят к выводу, что комический образ хозяйственника как очевидного ведомственного агента отражал контекст административно-управленческой реформы Хрущева. С одной стороны, этот образ обладал нормативными качествами эффективного советского управленца, но с другой – нередко изображался через гротескное искажение определенных черт. По мнению историков, рисунки «Крокодила» хорошо свидетельствуют о том, что во время хрущевской кампании против ведомственности вина за бюрократизацию административного аппарата и экономического сектора дискурсивно возлагалась преимущественно на местных хозяйственников, в то время как руководители центрального и даже регионального уровней оставались вне критики. При этом такое карикатурное обличение местных начальников также легко вписывалось в процесс гувернаментализации государства, поскольку основным объектом сатиры становились практики, наносившие ущерб государственным интересам, – бесхозяйственность, бюрократизм, очковтирательство.
Помимо дискурса о ведомственности, не менее значимой научной проблемой является осмысление феномена самого ведомственного дискурса, то есть позиций, мнений, риторики и нарративов, которые поддерживались и воспроизводились непосредственно ведомственными структурами. Министерства, главки и предприятия выпускали корпуса всякой разной информации и литературы о деятельности своих организаций – книги, воспоминания, газеты, брошюры, справочники. Ведомственные агенты – министры, начальники главков, руководители организаций разного уровня, инженеры, обычные рабочие и служащие предприятий, а иногда и нанятые писатели и журналисты – давали интервью, писали статьи, очерки или заметки, готовили репортажи о деятельности своих подразделений и предприятий. Как правило, эти тексты рассказывали о корпоративной истории, наполнялись сюжетами героического труда, отражали производственную идентичность, оправдывали решения ведомств по разным вопросам или защищали себя и обвиняли другие организации в провалах на производстве. Нередко эти агенты представляли и репрезентировали ведомственную точку зрения как позицию государственную, что часто приводило к риторической борьбе между ведомствами за право отражать государственные интересы. В этом контексте ведомственный дискурс не стоит рассматривать как что-то случайное и несистемное, наоборот, министерства и главки вели целенаправленную пропаганду своей деятельности, воплощенную в идеологии ведомственного бустеризма и лоббизма.
Бустеристский эффект ведомств прекрасно раскрыт в двенадцатой главе, в которой Е. Чечкина описывает соотношение ведомственного дискурса и артикуляции проблем ведомственности на страницах литературного журнала «Сибирские огни». С точки зрения исследовательницы, в художественной и публицистической периодике освоение Сибири в 1950–1970‑х годах сопровождалось устойчивой критикой ведомственности. Но в то же время Чечкина фиксирует в этой литературе наличие ведомственного текста, то есть произведений о ведомственности, но главное о ведомствах. В них ведомства, как правило, показывались положительно, а их авторами были не только непосредственные ведомственные агенты, но и, например, писатели, далекие от апологетической риторики ведомств. Однако такие очеркисты посредством своих репортажей с места событий – промышленных строек и общения с работниками предприятий все же транслировали в своих работах ведомственный нарратив. Тем не менее авторы, которые генерировали ведомственные тексты, не выдавали типичный литературный продукт, а по-разному погружались в ведомственный дискурс: кто-то работал более независимо и творчески, а кто-то прямолинейно выполнял заказ. Таким образом, феномен ведомственности в публичной художественной реальности существовал не только в негативных формах, но в значительной степени был частью позитивной идеологии о промышленном строительстве, поддерживающейся разветвленной писательской и журналистской индустрией.
Одной из важнейших исследовательских проблем в реконструкции ведомственного дискурса является выяснение его включенности в общий авторитетный дискурс Советского государства. Множественность и разнообразие ведомственных текстов скорее свидетельствует о широкой палитре государственной идеологии, которая преломлялась в риторике самых разных институтов, организаций или профессиональных сообществ. Антрополог А. Юрчак указывает, что в позднесоветский период происходил процесс стандартизации авторитетного дискурса, в ходе которого он утратил задачу верного описания реальности11. Ведомственный подход предлагает контекстуализировать этот феномен: советская идеология, какой бы клишированной ни была, не просто встраивалась в местные и институциональные нарративы, но в большей степени воспроизводилась через них. В этом отношении авторитетный дискурс был частью процесса гувернаментализации государства, в котором сталкивались разные ведомственные дискурсы и критические топосы о ведомственности, где ведомственные агенты формулировали собственный смысл государственной идеологии, государственных интересов и Советского государства в целом.
***Таким образом, данная книга ставит вопрос о необходимости взглянуть на историю СССР через определенную институциональную проблематику, которая в той или иной степени осознавалась самими советскими гражданами и функционерами и которая получила собственное контекстуальное обозначение – ведомственность. Несмотря на разность тем и интерпретаций, представленные в монографии авторские тексты связаны друг с другом исследовательской оптикой, рассматривающей советское общество как сложную и запутанную иерархию отношений ведомственных структур. Я называю эту оптику ведомственным подходом. Его реализация требует от исследователя не просто пересказа истории предприятия или бюрократических перипетий, но и настройки определенного фокуса на историю ведомств и ведомственности, контекстуализирующего ее в аналитических категориях. В данной монографии авторы раскрывают феномен ведомственности в категориях системы, материальности, практики и дискурса. В этом введении было решено разделить исследовательскую оптику в изучении ведомственности, представить ее через эти четыре категории и таким же образом структурировать разделы монографии. Однако хорошее исследование не сводится к такому редуцированию: пожалуй, любой историк или антрополог, политолог или социолог, который соберется анализировать феномен советской ведомственности, вскоре осознает, насколько ведомственность имеет разные измерения: описывать ее как систему сложно без объяснения ее как практики, а видеть в ней материальность невозможно без ее дискурсивных топосов. Поэтому ведомственный подход подразумевает использование всех этих категорий и их переплетение. Без сомнения, это небесспорный взгляд на советскую действительность, однако он дает возможность описать и объяснить нетривиальность Советского государства, его разветвленный административный аппарат, институциональную сеть, инфраструктурное и пространственное воплощение, идеологию и ее корпоративную рецепцию, а также разнообразие социальных и культурных практик, воспроизводившихся бесчисленным количеством ведомственных агентов.
Раздел I. Что такое советская ведомственность?
Александр Иванов
Глава 1. Как историография описывает ведомственность в Советском Союзе?12
Советская ведомственность представляет собой явление всем известное, но трудно поддающееся комплексному исследовательскому описанию. Несмотря на многочисленные отсылки в статьях и монографиях к данной проблематике, сегодня в историографии отсутствуют работы, содержащие систематический разбор различных точек зрения на исторический феномен ведомственности. Более того, в англоязычной литературе артикуляция понятий vedomstvennost’ и vedomstvo не так очевидна по причине сложности перевода их с русского языка.
Ученые чаще используют вариант departmentalism, что в английском языке может отражать несколько иные, скорее юридические и бюрократические значения, как, например, чрезмерную приверженность правилам собственного подразделения, приоритизацию работы одного офиса над общей эффективностью предприятия, равные права учреждений при толковании законов или стремление к функциональному разделению отделов. Именно административное содержание вкладывали в этот термин исследователи, впервые разбиравшие данную проблему на страницах научных журналов 1930‑х годов13. В то время как в советском контексте понятие ведомственности в большинстве случаев фиксировало противопоставление ведомственных интересов государственным, главным образом в сфере экономики и производства. Хотя, как будет показано во второй главе, так было не всегда.
Этот перекос в сторону бюрократического прочтения в зарубежной историографии особенно заметен при переводе на английский язык предиката «ведомственный». Иногда исследователи его переводят просто как bureaucratic, что, конечно, не раскрывает всю семантику этого понятия. Такое во многом канцелярское понимание привело к рассмотрению «ведомственности» преимущественно с позиции бюрократической структуры, административного аппарата или официальных отношений. Одновременно с этим, как указывал политолог Карл Рявец, западная советология вообще мало интересовалась проблемами администрирования и бюрократизма в СССР14. По этой причине многие историки не обращали внимания на «ведомственность», а при анализе неформальных практик в советской политике она зачастую выпадала из поля зрения ученых. То есть эти трудности перевода в значительной степени предопределили историографические направления в смысловых трактовках и аналитическом использовании этого понятия.
В данной главе анализ отечественной и зарубежной историографии основывается на хронологическом нарративе, демонстрирующем эволюцию восприятия феномена ведомственности в исследовательских текстах. Мы выделяем семь подходов, которые либо прямо артикулировали явление ведомственности, либо посредством разной терминологии и концептуализации объясняли институциональные и административные процессы в советской истории: 1) бюрократизм, 2) группы интересов, 3) экономические подходы, 4) патрон-клиентизм, 5) неотрадиционализм, 6) ведомственное направление, 7) постревизионизм. Как правило, эти интеллектуальные направления развивались в конкретные исторические периоды. Но не стоит рассматривать их как замкнутые. Они были генетически связанными, вытекали одно из другого, полемизировали и нередко соединялись в своих тезисах и интерпретациях.
За исключением экономистов и ведомственного направления в историографии, ученые никогда не рассматривали вопрос о ведомственности как ключевой в изучении советской истории. Вместе с тем подробный разбор исследований, проблематизирующих это явление, показывает, что объяснение ведомственности через различные концепты играло серьезную роль в представлениях ученых о советской экономике и политической системе в целом. По большому счету изменения в интерпретации и описании советской ведомственности были индикаторами трансформации основных историографических нарративов об экономическом и политическом развитии СССР.
Спор о рациональных бюрократахИсториография проблемы советской ведомственности уходит корнями во времена противостояния концепций «общественных сил» (сторонники взглядов Троцкого) и «одностороннего организационного подхода» (тоталитарная школа) в конце 1940‑х – начале 1950‑х годов. В основе концепции Троцкого и его приверженцев лежал тезис о том, что именно партаппарат искусственно на волне термидорианской бюрократизации привел Сталина к власти. Еще в начале 1920‑х годов Троцкий напрямую увязывал проблему ведомственности с неизбежной специализацией и бюрократическим перерождением партии15. Эта модель отражала движение общественных (партийно-советских) сил снизу вверх и проповедовала восхождение Сталина благодаря действиям окружавших его переродившихся элит16. Тоталитарная школа, наоборот, оценивала становление советской государственной системы сверху вниз. В основе этого «одностороннего организационного подхода» была идея полной зависимости бюрократических элит от воли поставивших их вождя.
Одной из ключевых работ тоталитарной школы стала монография Баррингтона Мура-младшего. По его мнению, несмотря на большевистскую идею уничтожения бюрократии, именно деятельность централизованного бюрократического аппарата была залогом существования нового государства17. Посредством веберовской идеальной модели бюрократии Мур-младший выстраивал простые линейные top-down схемы экономической (главк/министерство – фабрика, директор – рабочий), партийной (ЦК – региональные комитеты партии) и советской (ВЦИК/Верховный Совет – региональные исполкомы) иерархий управления. Следуя веберовской модели, Мур-младший наделял каждый субъект статусом и рациональностью в этих иерархиях18. При этом он исходил из монолитности правящих кругов и не видел внутренних противоречий элит. Впоследствии в ходе многолетней дискуссии о функционале правящего класса на эти тезисы Мура-младшего о вертикальных рациональных взаимоотношениях будут ссылаться советологи, напрямую интересовавшиеся дисфункциями в управлении СССР.
Вместе с тем как раз в полемике между сторонниками концепции «общественных сил» и представителями тоталитарной школы впервые последовала проблематизация роли конкретных предприятий в экономической системе. Ученые усматривали ее при анализе советской бюрократии и связывали с низовой инициативой. Так на эту задачу посмотрел экономист Дэвид Граник, который изучал имплементацию решений центра на уровне отдельных организаций. Он считал, что во многом рациональная «инициатива персонала предприятий», несмотря на нарушения закона и давление сверху, в реальности определяла силу советской экономической модели19. Хоть данная инициатива и не описывалась Граником как ведомственность, выводы экономиста заложили фундамент для понимания масштабов влияния партикулярных интересов в Советском Союзе.
В дальнейшем этот вопрос был разработан Джозефом Берлинером. На основе интервью с советскими эмигрантами-управленцами Берлинер выявил существование в СССР трех неформальных режимов поведения руководителей предприятий (фактора безопасности/страховки; симуляции/очковтирательства; блата/знакомства и связей), идущих вразрез с «государственными интересами». В отличие от Граника Берлинер негативно оценивал эти явления. Они свидетельствовали о «значительной степени рыхлости и немонолитной гибкости» советской экономики. Для Берлинера они означали симуляцию производительного труда, в то время как Граник видел в них «переговоры» и «рационализацию»20. Тем не менее оба исследователя сходились во мнении, что неформальные связи распространялись повсеместно и обуславливались самой советской системой.
Работы Граника и Берлинера еще напрямую не артикулировали понятие ведомственности в СССР. Первым это сделал американский историк Александр Блок в статье о жилищном строительстве в СССР, опубликованной в 1951 году на страницах журнала Soviet Studies21. Согласно Блоку, основной причиной хаотичной застройки советских городов было отсутствие координации между различными отраслями промышленности, строившими дома для своих ведомственных нужд (departmental needs). Спустя несколько лет редакторы Soviet Studies определили текст Блока как основное исследование, раскрывающее понятие «departmentalism (vedomstvennost’)» в Советском Союзе. Тогда же редакция журнала отнесла ведомственность к проблемам исключительно советской истории22.
Однако эта работа Блока не вписалась в общую дискуссию о лимитах тоталитарной модели, которая развернулась среди советологов в 1950‑х годах. Осознание важности управленцев и структур среднего звена в функционировании советской системы превращало их в очень популярный предмет для изучения. Например, Мур-младший, помимо абстрактных Сталина и Политбюро, ввел в свою исследовательскую пирамиду власти фигуру министра, который обеспечивал «свободу маневра» для «своего» министерства и добивался наилучшего снабжения сырьем «своих» предприятий23. Против веберовской модели Мура-младшего выступал Граник. Анализируя отдельное предприятие тяжелой промышленности, он выделил категории «независимости» и «автономии» управленцев, «мощной инициативы» снизу, «нарушения правил» сверхцентрализованной системы, «вспомогательных функций» и даже «вынужденности»24. По его мнению, директора были обязаны принимать на себя несвойственный им функционал под страхом ухода рабочей силы и невыполнения плана. Таким образом, советские управленцы не действовали как веберовские бюрократы. Инициатива управленца относилась к «полезным элементам», служа одним из условий гибкости и жизнеспособности советской экономической системы25.
Этот спор продолжал Берлинер, который в 1957 году выпустил монографию «Фабрика и управляющий в СССР». Задействовав материалы интервью более тридцати советских граждан, имевших отношение к управленческой деятельности в советской промышленности, ученый представил полноценный взгляд «снизу» на формальные и неформальные отношения между работниками предприятий и министерствами. Берлинер не проговаривал понятие «ведомственность», но использовал предикат «ведомственные» (departmentalistic)26, помещая его, а также описываемые и соотносимые с ним явления («ведомственные стандарты», «блат», «нарушение ассортиментного плана») в разряд неформальных отношений27. Берлинер определял данные явления как способствующие падению производительности труда и замедлению экономики. «Вспомогательные функции» директора на благо плана у Граника оборачивались «получением материалов, противоречащих замыслу плана» в работе Берлинера28.
В 1957 году исследователи впервые артикулировали понятие ведомственности в этом споре о советских практиках управления. Причиной послужило открытое обсуждение экономической реформы 1957 года на страницах центральной советской прессы. В июле 1957 года в журнале Soviet Studies были опубликованы важные документы: пересказы постановления пленумов ЦК КПСС, январская записка Хрущева с выдержками из материалов газеты «Правда» о публичной дискуссии по поводу реформы29. Комментатор документов Джон Миллер был поражен фактом признания советскими властями трудностей в управлении промышленностью. Он отдельно отмечал, что в постановлении от 14 февраля «главным злом нынешней системы назван „департаментализм“ (vedomstvennost’)»30.



