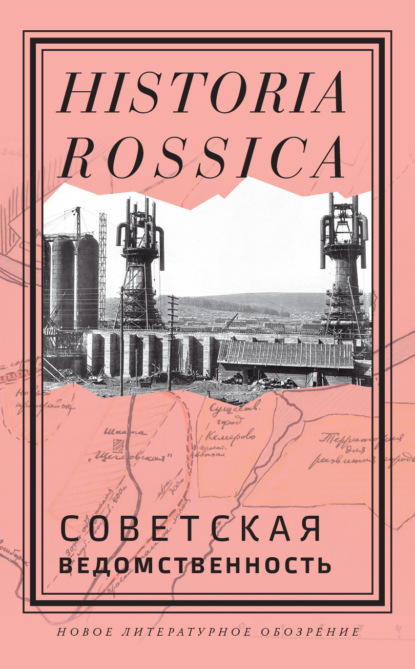
Полная версия:
Советская ведомственность
Антрополог Дэвид Гребер считал, что слияние государственного и частного являлось определяющей тенденцией в процессе тотальной бюрократизации. По сути, государственные и частные интересы сплетались в единую самоподдерживающуюся сеть, что приводило к корпоративизации жизни4. Вероятно, в советских реалиях, в отсутствие рыночной экономики, подобный синтез был еще более заметным, а государственная система представляла собой бесконечную паутину ведомств и канцелярий. Учитывая такую исследовательскую оптику, ведомственность как категория системы означает эту разветвленную сеть государственных организаций, обладающих собственными институциональными интересами и образовывающих различные договоренности между собой, но и нередко переходящих в открытые конфликты. В таком случае ведомственность может рассматриваться как обширная административная иерархия институтов. В рамках вертикальных взаимоотношений исполнительной власти она структурировалась по линии правительство – министерство (наркомат) – главк – предприятие, а на уровне горизонтальных связей проявлялась на местах через более субъектные позиции из разных зон ответственности: партийные комитеты – советы – главки – предприятия – профсоюзы и т. д. Эта системная модель ведомственности поддерживалась множеством практик взаимодействия между ведомственными агентами.
В третьей главе А. Сметанин указывает на конкретизацию понятия «ведомственность» в хрущевское время, когда под ним стало пониматься нарушение связей между различными предприятиями, функционирующими в одном экономическом районе, но действующими исключительно по вертикальной линии, без оформления связанности с другими игроками на горизонтальном уровне. Таким образом, историк рассматривает ведомственность как вертикальную систему среднего звена, которую воспроизводили ведомства – министерства, главки и совнархозы, выступавшие учредителями промышленных предприятий, определявшие их ресурсы, плановые показатели и отчетность. Сметанин исключает из этой системы как высшие органы – Совет министров и Госплан, так и низовые организации – предприятия, тресты и заводы. Однако остается ключевым вопрос: а какова роль директоров предприятий в этой ведомственной системе? Сметанин выводит директорский корпус за пределы ведомственности, наделяя директоров 1950‑х годов субъектностью критиковать и осуждать это явление и одновременно показывая, что директора стремились договориться о границах своей и министерской ответственности. Для директоров ведомственность замыкалась чаще всего на бюрократии главка, и редко выше. В итоге мнение директоров совпадало с риторикой Хрущева, который также критиковал эту министерско-главкскую ведомственность, концентрирующую ресурсы на себе и выстраивающую административные барьеры для горизонтальных взаимодействий.
В четвертой главе М. Пискунов, также рассматривая ведомственность в качестве экономической вертикали советской производственной бюрократии, показал, что эта система вряд ли ограничивалась полем отношений от министра до руководителей главков или директоров предприятий. В позднесоветскую эпоху в эту иерархию полноценно встроился трудовой коллектив предприятия, агентами-медиаторами которого выступали цеховые руководители – мастера, начальники участков и цехов. Сначала воспроизводимый дискурсивно в социальной литературе, трудовой коллектив из концепта превращался в реальную социальную группу на заводах и предприятиях. По мнению Пискунова, трудовые коллективы и их моральная экономика стали во многом предопределять феномен советской ведомственности, или, точнее, ведомственность уже охватывала не только номенклатурные уровни, но и обычных рабочих. В данном случае явление цеховщины выступало как низовая форма ведомственности.
Таким образом, мы видим, что проблематика ведомственности как системного феномена в значительной степени связана с определением масштабов и границ самой системы и выявления конфигурации вертикально-горизонтальных отношений между ее субъектами. Были директора предприятий и трудовые коллективы частью ведомственности? Какая роль Госплана и Совета министров в воспроизводстве ведомственных барьеров? Могли ли региональные партийные и советские структуры противостоять этому явлению или они поддерживали сложившуюся модель ведомственных взаимоотношений? Как в этой системе действовали бесчисленные советские агентства, бюро, инспекции, комиссии, комитеты и управления? В чем разница между проявлениями ведомственности при отраслевом и территориальном управлении? Какая роль личности в ведомственной политике и лоббистском весе ведомств? Эти и другие вопросы относятся к научной проблеме обозначения, какие органы, отрасли, группы и должности были включены в эту систему и как она функционировала как по вертикальной иерархии, так и в горизонтальных отношениях. Такая исследовательская оптика позволяет раскрыть ведомственность в качестве особой советской административно-управленческой системы.
МатериальностьВедомственность была заметна не только в вертикально-горизонтальных коммуникациях административно-политического аппарата, но, может быть, еще ярче проявлялась в реализации экономической политики, связанной с расширением производства и строительства, развитием территорий и эксплуатацией ресурсов, инфраструктурными проектами и социальными объектами. То есть ведомственность практически всегда имела материальную воплощенность в виде масштабных заводов и промышленных ландшафтов, жилых поселков и микрорайонов при производстве, архитектурных и дизайнерских решений, инженерных сетей и транспортных коммуникаций, социальных институтов и культурных учреждений. Иными словами, ведомственная система не ограничивалась социальными и политическими корпоративными отношениями и иерархиями, но и реализовывалась в конкретных структурах, сооружениях, зданиях и машинах.
Этот эффект можно назвать онтологическим принципом ведомственности: ведомство всегда привязано к материальному телу. Из этого следует, что крах ведомственного тела (например, снос завода или социальной инфраструктуры предприятия) с большой долей вероятности вел к размыванию самого феномена ведомственности как системы отношений или социальной практики в каком-нибудь конкретном месте, где ведомственный ландшафт прежде располагался. Фокус на материальности расширяет самое понятие ведомственности. Так, выше было показано, что при интерпретации ее как системы возникают вопросы к тому, а включать ли конкретные предприятия, их трудовые коллективы и директоров в ее структуру. В случае же рассмотрения ведомственности через призму материальности не вызывает больших споров, что предприятие или завод непосредственно отражали всю ведомственную вертикальную систему на земле – через здания, ландшафт и инфраструктуру. Эти материальные объекты принадлежали и ассоциировались не только с конкретным предприятием, но и с определенным министерством и главком, кому также были подведомственны.
Более того, ведомственная материальность определяла для советского человека то, что А. Голубев назвал «стихийным материализмом»: постоянную способность вещей и физического пространства влиять на личность и повседневное производство смыслов5. Ведомства беспрерывно создавали новые формы материальности, которые в какой-то степени программировали обычную жизнь граждан в СССР. Вместе с тем материальная заданность все же создавала разные модели и практики формирования советской личности6. С моей точки зрения, каждое ведомство не просто организовывало инфраструктуру и ландшафт в рамках своей «вотчины», но фактически физически (но одновременно дискурсивно) конструировало поле возможностей для проявления советской субъективности. Границы реализации своего «Я» очерчивались в том числе материальным воплощением ведомственной политики. В итоге субъективностей могло быть столько, сколько это позволяли дискурсы и ландшафты ведомств. Соответственно, ведомственная материальность предопределяла социальные практики населения, проживающего в этом физическом пространстве (об этом в следующем разделе), и дискурсивные контексты, которые будто облагораживали материальный мир советского человека (об этом в последнем разделе).
Ведомственная материальность была наиболее отчетливо заметна в проблеме производства городского пространства. Советская индустриализация привела к развертыванию масштабных производств в пределах старых городов или в новых промышленных центрах. Грандиозное строительство комбинатов и заводов, рудников и шахт, электростанций и машин сопровождалось не менее грандиозным возведением социальной и жилищной инфраструктуры, которая реализовывалась в идеологии идеального и утопического поселения – соцгорода. Однако дискурс о соцгороде чаще всего слабо продуцировался в реальности: разрозненные промышленные стройки разрывали городскую ткань и не давали сформироваться единому городскому пространству. Каждый завод или предприятие имели свою собственную вотчину с жильем, социальными и культурными учреждениями, объектами торговли и быта. Тем самым многие города больше походили на архипелаги промышленных островов с поселками. Эта болезнь поразила практически все города Советского Союза, где велось активное промышленное строительство. Именно ее современники часто называли ведомственностью.
Однако селитебная политика ведомств основывалась на более сложных идеологических принципах, связанных с приходом модерности. В пятой главе К. Бугров вписывает жилищную стратегию советских промышленных предприятий в глобальную перспективу. По его мнению, в начале XX века сформировались две основные траектории, с помощью которых индустриальные корпорации решали жилищную проблему. В капиталистических странах преобладала идея company town – небольшого рационально организованного города с низкой плотностью застройки и малоэтажным жильем, но который вместе с тем создавал структуры неравенства. Вторая траектория ориентировалась на демократическое и дешевое социальное жилье, чьим главным отличием стала многоквартирная высотная застройка. Эта высотная идеология ведомств не только предопределила облик советских городов, но во многом сформировала отношение к такой высотной застройке как истинно «городской», несмотря на разрастание города в том числе за счет индивидуально-жилищного строительства. Высотность хоть и декларировала новую модерную жизнь и устройство города, она в то же время не смогла преодолеть анклавный характер жилищного строительства в промышленных центрах, где производство доминировало и определяло всю городскую социальность. С другой стороны, эти индустриально-ведомственные города воспроизводили посредством многоэтажной жилой застройки коллективистские и эгалитарные социальные отношения. Бугров отмечает, что советским планировщикам удалось экспортировать многоэтажную модель промышленных городов в другие социалистические страны. Там она получила местное своеобразие, но везде создавала некое корпоративистское единство, разрушающее структуры неравенства, характерные для индустриальных городов капиталистического типа.
Тем не менее материальное воплощение советской ведомственности в условиях интенсивной индустриализации также воспроизводило структурное неравенство, которое изначально предопределялось асинхронностью в финансировании и строительстве градообразующих предприятий и обслуживающих их поселений. Историк архитектуры С. Духанов в шестой главе показывает, что концепция соцгорода, разработанная в Госплане СССР, реализовывалась через неучтенный элемент – промышленное предприятие. То есть возведение городов в раннесоветский период финансировалось через сметы на стройку промышленных предприятий. В итоге формировалось только 10–30% города, в то время как остальная городская инфраструктура оставалась на бумаге. Так, новые социалистические центры на практике представляли собой недостроенные города, где застроенная часть полностью была чьим-то ведомственным фрагментом. Основная проблема была в том, что строительство города было намного дороже самих промышленных объектов в нем. По мнению Духанова, выход был в стратегии, основанной на принципе «агломерации», когда новые промышленно-селитебные районы привязывались к существующим городам. В итоге это вело к децентрализации городов и фактически невозможности объединить ведомственные фрагменты в единую городскую ткань. В такой ситуации нередко ведомства «достраивали» социально-культурную инфраструктуру в своих поселках при предприятиях, создавая тем самым как бы «город в городе».
Эта логика ведомственного финансирования и соответственно ведомственного расселения наиболее заметно проявилась в районах строительства БАМа. В седьмой главе Н. Байкалов раскрывает, как ведомственность была структурной основой не только самой железнодорожной стройки, но и вообще социальных отношений и культурного ландшафта населенных пунктов БАМа. Байкалов указывает, что базовые свойства ведомственных городов – неустроенность, разрозненность, дискретность и временность – не порождались ведомственностью через какое-то время, а изначально определялись на этапе проектирования. Вместе с тем историк показывает, что онтология ведомственности шире, чем просто ее материальное воплощение, поскольку включает еще и особый темпоральный режим. Временность – это качество присуще почти всем ведомственным поселениям. Оно выражалось через отношение к ведомственной материальности, в первую очередь к жилью, как к чему-то сменяемому и непостоянному, а сами жители таких поселений нередко ощущали себя «временщиками». В какой-то степени ведомственность была синонимом временности – воспринималась лишь как преходящее явление и вынужденная мера эпохи начального освоения. Для современников бамовской стройки, временные поселки («времянки») – это и есть ведомственные, в то время как инфраструктура в капитальном исполнении («постоянка») ассоциировалась с государством как чем-то вневедомственным. Однако, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное: нерентабельность БАМа в постсоциалистических реалиях привела к отказу от капитального жилищного строительства и консервации «времянок».
Таким образом, анализ ведомственности может подразумевать выявление онтологической сути этого явления. В основе такого понимания лежит реконструкция ведомственной политики через ее материальное измерение: пространства, здания, застройку, ландшафт, заводы, технику. При этом эта ведомственная материальность не была какой-то универсальной, скорее, наоборот, в зависимости от разных советских контекстов она отличалась вариативностью и множественностью. Так, с одной стороны, она могла быть капитальной высотной застройкой, а с другой – временным самостроем. Вместе с тем ведомственная инфраструктура всегда тяготела к промышленному предприятию, что создавало фрагментированную среду в советских индустриальных центрах. Еще одним важным онтологическим свойством ведомственности был особый темпоральный режим. Он выстраивался вокруг графика и процесса работы промышленного предприятия или этапов строительства производственной или социальной инфраструктуры, где обособленно выделялись проектный и пионерный периоды освоения территории, когда, собственно, и формировались основы не только ведомственной материальности, но и ведомственных отношений.
ПрактикаСоветскую ведомственность можно определять как социальную практику. В социальных науках описание практики сводится к человеческой фоновой деятельности, из которой состоит мир повседневности людей7. Кажется, что в контексте ведомственности практику следует рассматривать несколько иначе – не просто как фон, но как действия и отношения, формирующие идентичность с конкретной институцией. В данном случае практика – это занятие и трудовой процесс, должностные инструкции и отношения с коллегами в рамках работы, осуществляемой для организации или предприятия. Феномен ведомственности представлен бесчисленным набором социальных практик, которые проявляются на двух уровнях. На первом они связаны с делопроизводственной и бюрократической конвенциональной работой внутри любого ведомства – заполнение рапортов, следование нормативам, совещания, заседания, протоколы, переписка, распоряжения и решения и т. д. На втором уровне они приобретают формы межведомственной деятельности – горизонтальных или вертикальных отношений и контактов между различными организациями, или ведомственных политик, нацеленных на конкретные социальные группы и институции. В советской истории этот уровень зачастую воспроизводился в конфликтной форме между представителями различных ведомств.
Соответственно, такие практики предполагали наличие ведомственного агента, то есть того, кто представлял ведомство посредством своей должности, действий и риторики. То, что агент отражал точку зрения ведомства, еще не значило, что он не обладал субъектностью в реализации своей работы. С одной стороны, он должен был руководствоваться инструкциями и положениями, но, как правило, реальная активность внутри и за пределами ведомства напрямую связывалась с личностью агента – его харизмой, опытом, образованием, убеждениями и социальным капиталом. Таким образом, он имел право на дискрецию, то есть мог интерпретировать предписания и инструкции и выбирать пути решения бюрократических и административных задач. Зачастую многие конфликты между разными историческими личностями объяснялись именно ведомственной идентификацией, как и наоборот – конфликты ведомств раскрывались в идентичностях ведомственных агентов. Тем самым функционеры и начальники от ведомств не являлись обычными винтиками институциональной системы. Точнее, через их субъектность происходило отстаивание ведомственных интересов, которые определялись и формулировались также этими агентами.
Проблема субъектности ведомственного агента непосредственно сопряжена с вопросом о формальных и неформальных отношениях в ведомственной структуре. Как соотносились предписанные формализованные практики и неформальные патрон-клиентские связи ведомственных работников и руководителей? Насколько нормированные действия и частные клиентские сети очерчивали границы субъектности ведомственных агентов и являлись ресурсом для ведомственной идентичности? Какую роль формальные и неформальные отношения играли в вертикальных и горизонтальных коммуникациях между ведомствами? Эти вопросы позволяют посмотреть на социальную практику в качестве значимого элемента иерархической системы ведомственности, описанной выше в разделе о ведомственности как системе. То есть эта система могла поддерживаться строго в формализированных и нормативных практиках бюрократов, как между институтами, так и между институтами и обычными гражданами. Но она также могла держаться на неформальных практиках, например на кумовстве, протежировании и клиентелизме внутри одной вертикальной исполнительной линии от министерства к конкретному предприятию либо же между разными управлениями и предприятиями, подчиненными различным исполнительным веткам.
Другим аспектом ведомственности являлась ведомственная политика, которая выражалась в виде практики управления и учета обширных групп населения, а также регулирования производственной и частной повседневности граждан – рабочих, служащих и их семей, которые находились под патерналистской опекой бюрократической структуры или промышленного предприятия. Реальное значение ведомств часто проистекало из возможностей осуществлять институциональный повседневный механизм контроля, учета и формирования лояльных групп населения. Так, промышленные предприятия выступали каналами интеграции «маргинализированных» групп (например, спецпереселенцев, индигенных и этнических групп, мигрантов-рабочих, вахтовиков и т. д.) в советское гражданское общество и обеспечивали формирование новых политических агентов и функционеров. В условиях крупных индустриальных преобразований на ведомства возлагались задачи по социально-культурному обеспечению граждан – жилищем, образованием, здравоохранением, общественным питанием, торговым и бытовым обслуживанием, культурным и спортивным досугом. Такая ведомственная социальная политика становилась второй важнейшей деятельностью предприятий и главков, после реализации своей основной производственной задачи. Эта социальная сфера ведомственности насчитывала множество социальных практик, таких как распределение квартир, шефство над школами, самодеятельность в Домах культуры, приписывание к поликлиникам, закрытость точек общепита, курирование спортивных обществ и т. д. Бесчисленное количество подобных ведомственных практик и поддерживающих их правил формировали на локальном уровне мир советского человека и особый социальный порядок.
Этот локальный социальный порядок в значительной степени был связан с жилищной политикой ведомств, через которую государство осуществляло в том числе контроль над большими массами населения и территориально перераспределяло его на новые индустриальные стройки. В восьмой главе С. Баканов и О. Никонова анализируют развитие ведомственного жилищного фонда в позднесоветский период и показывают, каким образом советский человек получал жилые метры от предприятий и главков. По мнению авторов главы, именно квартирный вопрос особенно отчетливо отражал сложившееся в Советском государстве переплетение модерной рациональности с архаичными неформальными практиками. Ведомства рассматривали жилищное строительство для своих рабочих и служащих как вторичную задачу, в силу чего они постоянно не могли освоить капиталовложения в эту сферу и срывали сроки ввода жилья в эксплуатацию. Тем не менее дефицит жилья побуждал ведомства к самым незаурядным, зачастую низовым практикам жилищного строительства. Первая была связана с разрешением самостроя, который реализовывался по большей части в индивидуальной деревянной застройке, но иногда встречался и в виде трущоб. Вторая практика обозначалась как строительство «хозспособом» или «методом народной стройки», когда рабочие предприятия непосредственно перекидывались на домостроительные работы вдобавок к или взамен своих основных трудовых обязанностей. Ведомственное жилье также возводилось за счет кооперативов и различных форм кредитования. Однако ведомства рассматривали такие низовые решения как временную меру: жилищная революция хрущевской эпохи все же означала массовое капитальное домостроение, которое делалось за счет строительных трестов, подчиненных самым разным ведомственным структурам. Следующим наиболее известным социальным проявлением ведомственности в жилищной сфере была практика непосредственного распределения жилья среди рабочих и их семей, обладавшая серьезным конфликтным потенциалом и различной палитрой формальных и неформальных отношений.
В девятой главе Д. Кирилюк описывает, как ведомственная система создавала образовательную инфраструктуру в СССР. Историк сосредоточился на школьных и дошкольных учебных заведениях Министерства путей сообщения, хотя собственные образовательные учреждения имели и иные советские министерства. Первые школы для детей железнодорожников стали появляться еще в дореволюционный период, а советское руководство лишь повторило эту практику. Автор считает это «вынужденной ведомственностью»: сам характер железнодорожной сети, распространявшейся на самые дальние расстояния и неосвоенные территории, изначально требовал создания собственной структуры социального обслуживания рабочих. Она функционировала на принципе целесообразности, то есть железнодорожники не организовывали школы там, где уже были сложившиеся учебные заведения Минпросвещения. Тем не менее Свердловской железной дороге удалось сформировать автономное образовательное пространство, которое находилось в полном подчинении железнодорожного ведомства, обеспечивавшего управление школами, решение кадровой проблемы, разработку и контроль учебно-методического комплекса, организацию внеучебной деятельности. Одновременно с этим педагогические коллективы на железной дороге обладали большей профессиональной автономностью в своей деятельности, чем их коллеги, работавшие в школах Минпросвещения. Они также пользовались различными льготами по ведомственной линии. Поэтому неудивительно, что в таких условиях нередко у педагогов на первый план выходила железнодорожная идентичность, а между железнодорожными и обычными школами очерчивалась условная ведомственная граница.
Социальная практика ведомственности порождала весьма разветвленную, но при этом институционализированную культурную жизнь в пространстве ведомственных поселков или микрорайонов – Дома культуры, клубы, кинотеатры, библиотеки, мемориальные и памятные места, парки культуры и отдыха, гостиницы, спортивные учреждения. В десятой главе М. Ромашова раскрывает этот феномен на примере ведомственных общественных музеев при промышленных предприятиях и заводах, а именно в центре ее внимания находится Музей истории Пермского машиностроительного завода им. В. И. Ленина. Это исследование дает понимание того, что подобные пространства и учреждения культуры балансировали между производственной сферой и общественной активностью. С одной стороны, этот музей был частью общего краеведческого движения позднесоветского периода, а с другой – он организовывался институционально, контролировался и управлялся непосредственно сотрудниками предприятия. Однако такие «культурные места» обеспечивали рецепцию общекультурных советских установок по формированию «нового человека» через конкретные маркеры ведомственной и заводской идентичности. То есть ведомственные культурные институции помогали взращивать общую советскую гражданственность. Музейная и коммеморативная работа, которая поддерживалась руководством и проводилась сотрудниками предприятия, усиливала корпоративную культуру, чувство общности работников и придавала ветеранскому делу смысл. В то же время в глазах других горожан именно культурные практики такого порядка могли выступать наиболее заметным проявлением ведомственности.



