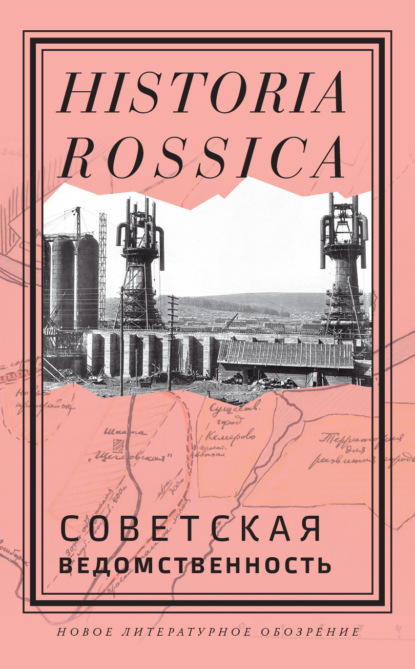
Полная версия:
Советская ведомственность
Аналогичную аналитику советской ведомственной системы предложил экономический историк Пол Грегори. Опираясь на данные опросов полусотни советских эмигрантов – работников советских министерств, ведомств и производственных предприятий предперестроечного десятилетия, он показал, что бюрократы от экономики не составляли единую группу интересов. По его мнению, советская экономическая бюрократия могла сводиться к обобщенной категории «единоначальники» (edinonachal’niki). Однако она делилась на два типа. Хозяйственники (khozyaistvenniki) распределяли ресурсы и несли ответственность за достижение плановых показателей. К ним относились сотрудники «линейных» министерств и ведомств – директора предприятий и главков, руководители промышленных министерств и их заместители. Аппаратчики (apparatchiki) издавали инструкции и правила для хозяйственников. Это были работники «функциональных» министерств и ведомств – Госплана, Госснаба, Минфина и др., но они всегда находились в слабой позиции, поскольку создаваемые ими нормы не несли высоких транзакционных рисков для бюрократов от производства. То есть, в отличие от патрон-клиентской теории, Грегори наделял хозяйственника большей агентностью в организации неформальных сетей. Хороший гибкий хозяйственник добивался результатов путем нарушения правил и законов, но одновременно избегал разоблачения. В интерпретации Грегори он не был связан с линией партии. Он искал ресурсы, предлагал инновационные решения, обладал связями и проникал за пределы профильного министерства, «заручаясь поддержкой могущественных патронов». Однако такая активность вела к «транзакционным издержкам» в форме «автаркических тенденций предприятий и министерств», например при организации самоснабжения148.
Тем не менее, развивая свою теорию, вскоре Грегори пришел к выводу, что в советской экономической системе все же существовало главное ведомство – Госплан, который «сверху» определял реструктурирование и контроль советской бюрократии. Перед плановиками стояли задачи примирения интересов аппаратчиков и хозяйственников и превращения «функциональных» ведомств в сильные институты. Таким образом, Госплан должен был бороться с ведомственностью как «местническими тенденциями»149. Ведомственность проявлялась в двух измерениях: 1) партикуляризме министерств, то есть нежелании работать с другими министерствами и игнорировании региональных потребностей в пользу профильных предприятий; 2) чрезмерной интеграции промышленных министерств, что означало автономную организацию производства, транспорта, добычи сырья, ремонта и строительства150. В работах Пола Грегори был впервые представлен комплексный взгляд на феномен ведомственности: «сверху» – со стороны планового суперведомства и «снизу» – через агентность отдельных хозяйственников.
Австралийский политолог Стивен Фортескью предложил оригинальный подход к изучению ведомственности. Объясняя это явление, ученый выдвинул понятие «секционализма» (sectionalism (vedomstvennost)). По его мнению, советские руководители (начиная с Ленина) были привязаны к «секционным интересам» (sectional interests), которые легитимизировались и сохранялись за счет административных механизмов согласования (soglasovanie/vizirovanie). На практике это приводило к доминированию ведомственных (секционных) интересов над региональными, что позволило Фортескью говорить о советской системе как модели «секционного общества» (the sectional society). Однако без «руководящей роли» партаппарата «секционное общество» было не способно к выживанию, поскольку не имело связующих сил, таких как рынок и верховенство права. Вместе с тем тотальная национализация в экономике способствовала очень высокому контролю со стороны «советских бюрократических структур» (soviet bureaucratic agencies) над промышленностью и их узкой специализации151. Важным фактором таких управленческих взаимоотношений политолог считал «подмену» (podmena), означающую привычку советских учреждений, особенно партийных организаций, чрезмерно вовлекаться в оперативную деятельность других структур. Но при этом региональные парторганы «оказывались на побегушках у министерств и предприятий», принимали роль толкачей, помогая производственным акторам в обеспечении снабжения и сокращении плановых заданий152.
Итак, согласно Фортескью, ведомственность породила «общество», где «не имеющая выбора» слабеющая партия продолжала играть роль арбитра, которому министерские бюрократии навязывали свои правила153. «Ведомственное общество» сочеталось с «руководящей ролью партии» и «командной экономикой». В этой ситуации именно «секционная», а не территориальная дезинтеграция являлась главной угрозой для СССР эпохи Горбачева. Если прежние исследования Д. Хафа и Т. Ригби подчеркивали «ограничение политической деятельности бюрократических учреждений, получавших „лицензию“ от политического руководства», то работа Фортескью показала, что для центральных министерств эта «лицензия» также «включала определенную степень свободы от контроля со стороны регионального партаппарата». По мнению Фортескью, «секционное общество» не было случайным феноменом, а скорее явлением, сознательно лежащим в основе механизмов политического, экономического и социального контроля, безжалостно управляемых политическим руководством154. Вскоре Мэри МакАули подтвердила «находки» Фортескью, заявив о проблеме контроля над полномочиями министерств как главном факторе партийной реформы времен перестройки155.
Актуализация институционального подхода в работах ученых 1980‑х годов, вероятно, подтолкнула известного историка Моше Левина отнестись серьезнее к проблеме департаментализма. Изучая команду реформаторов в книге «Феномен Горбачева» Левин назвал «ловушку ведомственности», в которую попала партия, главным вызовом для нового руководителя страны. Он определил ее как «болезнь департаментализма», лежавшую в основе сбоев экономики и политики и поразившую механизм управления в национальном масштабе156. Детализируя поломки системы, ученый во многом повторял оценки советских газет. Например, Левин фиксировал пагубное воздействие ведомственности в городах, расположенных на территориях нового промышленного освоения (таких, как Братск). В этих районах деятельность различных ведомств вела к разделению населенных пунктов на «разобщенные и плохо управляемые „микрогорода“» (microcities). Журналисты называли их «производственными поселками» (manufacturing villages), в то время как научная литература именовала «ведомственными пятнами» (departmental blurs). В ответ на такую «рассогласованность» (rassoglasovannost’) советские граждане голосовали ногами и уезжали из новых промышленных районов157. Одновременно с этим историк видел в ведомственности причину экологических проблем и катастроф. В конечном итоге он давал неутешительные рекомендации: «Весь механизм экономического надзора неисправен и должен быть заменен», поскольку «проблема не ограничивается экономической системой»158.
После распада Советского Союза многим исследователям стало очевидно, что система советских индустриальных ведомств пережила крах государства и его командной экономики. Этот факт еще больше актуализировал проблематику ведомственности в советской истории. В 1993 году в свет вышла монография английского политолога Стивена Уайтфилда «Промышленная власть и Советское государство», в которой было показано, что Фортескью и другие ученые недооценили силу промышленных министерств в национальном масштабе159. В этой книге Уайтфилд превратил «ведомственность» в полноценную аналитическую категорию. При этом исследователь описывал vedomstvennost’ как сложное явление, которое артикулировалось через понятия департаментализма, министериализма, технократизма и локализма (местничества). Сама ведомственность представляла собой «реальное поведение министерств» и их способность (используя систему госконтроля) переступать через государственные интересы в ходе преследования «реальных» интенций «своего» министерства. Так, ведомственность превращалась в действительную власть / инструмент доминирования ведомств в советской системе160.
Уайтфилд выделил четыре разновидности ведомственности. Организационная (organizational) ведомственность означала полномочия министерств в определении юрисдикции своих собственных предприятий, приводившей к доминированию организационных критериев над рационально-экономическими (экономические реформы 1965 и 1973 годов). Производительная (productive) ведомственность интегрировала сложный комплекс отношений при разделении административных функций министерств и реальных производств. В таком случае она была стремлением к расширению непрофильных производств, монополии на знания о фактической работе филиалов и обретению собственной сети поставок (автаркические тенденции). Технологическая (technological) ведомственность являлась попыткой справиться с усложнением научно-технических процессов путем создания новых министерств, а также противодействием инновациям, ввиду дороговизны внедрения новых технологий. Межминистерская (inter-ministerial) ведомственность проявлялась в условиях неспособности профильного министерства обеспечить контроль за формально подведомственными ему ресурсами и продукцией другого ведомства161. Все это ведомственное разнообразие позволяло министерствам максимизировать свои преимущества, минимизировав возможность доминирования иных (в том числе государственных) интересов. Промышленные субъекты контролировали ключевые ресурсы, а министериализм как практика отстаивания «реальных интересов» ведомств укоренился «в сердце» советской системы162.
Таким образом, в схеме Уайтфилда советские промышленные министерства представляли собой самостоятельные политические институты / акторов-гегемонов (hegemonic actors), определявшие лицо советской политики. По его мнению, доминирование в советской политической «игре» определялось возможностью контроля над министерским аппаратом на уровне министров и их заместителей. При этом критерием их успеха выступала степень реализации ведомственных интересов. В результате была сформирована амбивалентная ситуация. С одной стороны, министерская власть была главным источником стабильности государства, поскольку предоставляла механизм инкорпорации общественных элементов в советскую систему, но с другой – перманентный конфликт министерств со «слабыми» политиками, сдерживающими их деятельность, вел к неустойчивости163.
Уайтфилд описал историю этого противостояния в Советском Союзе. Изначально промышленные министерства были созданы «политиками» как агентства, которые действовали в качестве их инструментов. Однако в ходе «переходного периода» 1921–1938 годов министерства приобрели полномочия самостоятельных политических субъектов. Советские руководители от Сталина до Горбачева организовывали антиминистерские кампании (anti-ministerialism), но последовательно терпели неудачи в своих усилиях подавить ведомственность. Примечательно, что первым поражение в этой борьбе потерпел Сталин, который не смог искоренить ее даже посредством Большого террора и в итоге увеличил число министерств к концу 1930‑х годов. Поражение Сталина привело к установлению «министерского социализма» (ministerial socialism), или «министерского режима» (ministerial regime), существовавшего до конца истории СССР164. В позднесоветский период партийные руководители выработали три основные стратегии в противостоянии власти министерств. Во-первых, упразднение ограничивавших действия политиков институтов в целях получения прямого экономического контроля (Хрущев). Во-вторых, расширение регулятивных полномочий в рамках «игры „принципал-агент“» (Брежнев). В-третьих, поиск новых форм легитимации и новых институтов (Горбачев)165. Таким образом, роль патрон-клиентизма в концепции «министерского режима» была сведена к одной из защитных стратегий находящейся в «слабой» позиции политической элиты. Напротив, Уайтфилд показал феномен ведомственности как фундаментальный фактор создания и распада советской государственности: «Однако, как министериализм скреплял старую политическую и социальную систему, так и следующий виток антиминистериализма разделил перестройку и Советский Союз на части»166.
Наиболее последовательная критика подхода Уайтфилда была высказана английским историком Йорамом Горлицким. Он считал, что практика делегирования власти министерствам не была ключевым основанием системы, а скорее выступала одним из «источников слабости» политической элиты, наряду с отсутствием «общественного пространства». Горлицкий разглядел в «антиминистериализме» комплексную единую стратегию политиков «по решению повторяющейся проблемы узурпации власти министрами»167. Принципиальная разница позиций ученых заключалась в дескрипции истоков этой ведомственной «узурпации». По мнению Горлицкого, подобная активность исходила не от глав ведомств и их заместителей, а от «низших партийных и министерских чиновников, которые считали, что министерская система стала безнадежно сверхцентрализованной при позднем сталинизме»168. В реалиях реформы 1957 года бюрократы среднего и низшего звена представляли самостоятельную самоорганизующуюся силу, обеспечивавшую поддержку политикам (Хрущеву), неспособным найти ее в «общественном пространстве». Трактовка Й. Горлицкого продолжала давний советологический поиск «реальных линий» власти в советской политико-экономической реальности, последовательно уводя его от надзорных суперведомств (Э. Рис, П. Грегори) и массы «индустриальных министерств» (С. Уайтфилд) в недра отдельных ведомственных субъектов. Побочным эффектом такой критики выступало падение роли ведомственности как институционализированного «сверху» явления/инструмента власти в пользу инициатив «снизу» – со стороны «маленьких» бюрократов отдельных ведомств.
Однако в середине 1990‑х годов ведомственное направление получило наибольшее распространение и влияние в историографии. Одним из главных авторов, изучающих советскую историю через ведомственный фокус, оставался Эдвард Рис. В 1995 году ученый опубликовал монографию «Сталинизм и советский железнодорожный транспорт», в которой представил новый институциональный кейс. В этот раз на примере Народного комиссариата путей сообщения (НКПС СССР) историк продолжил анализировать развитие ведомств в разветвленной структуре советской бюрократии. Он указывал, что после 1928 года в СССР сложилась политическая система из «множества внутриведомственных и надведомственных (intra-departmental and extra-departmental) контрольных органов для надзора за государственной бюрократией и обеспечения реализации политики»169. То есть Рис считал, что именно ведомства осуществляли контроль над советскими бюрократами, а не наоборот, следствием чего был повышенный бюрократизм. Тем не менее, по сравнению с прошлым анализом Рабоче-крестьянской инспекции, в новой книге Рис уже не распознавал в ведомствах самодостаточных игроков, хотя у них и сложилась «особая организационная идентичность» (distinct organisational identity).
Теперь историку казалось, что ведомства обладали только некоторой «институциональной автономией», ограниченной государственными задачами в экономической и оборонной сфере. Например, статус НКПС зависел от текущего положения наркома в Политбюро. Это проявилось в Большом терроре, направленном в первую очередь против ведомственного своеволия (так же, как у Уайтфилда), а не на кланы, как считала прежде ревизионистская историография. В такой конфигурации репрессивной машины успешность наркома определялась способностью подавлять существовавшее внутри ведомств противодействие воле Сталина, ограничивавшего «автономию» ведомств, а не умением отстаивать свои ведомственные интересы170. Ведомственность, как способность отдельных хозяйственно-производственных субъектов придерживаться собственных внутренних правил и норм в обход государственному давлению сверху, превращалась в обоснованную «автономию» ведомств, подпитывающую организационную идентичность. В обновленном подходе Риса такая «автономия» инициировала расширение горизонтальных связей. В формате top-down иерархии и отношений клиентелы ведомства взаимодействовали и конфликтовали на равных, чаще всего посредством «межведомственных комиссий». Таким образом, Рис показал, что ведомства выступали организаторами патрон-клиентских сетей, обеспечивая их бюрократической инфраструктурой.
В 1997 году под редакцией Риса вышла коллективная монография «Принятие решений в сталинской командной экономике». Эта книга лучше всего отражала сложившийся институциональный подход ведомственного направления в историографии, поскольку каждая статья в ней была посвящена основным комиссариатам, Политбюро, Совнаркому и Госплану в период второй пятилетки. Авторами книги выступили Роберт Дэвис, Олег Хлевнюк, Винсент Барнетт, Марк Таугер, Дерек Уотсон и Сергей Цакунов, которые в своих работах показали значительную роль ведомственных интересов в определении экономической политики. Во введении книги Рис специально выделил небольшой раздел о феномене ведомственности, обозначая его как идентичность и философию управленческих структур (Departmentalism: agency identity and agency philosophy)171. Эта идентичность и философия ведомств зависели от функций, организации, личного состава и отношений друг с другом, а также с партией и правительством. По мнению ученого, департаментализм был следствием централизованного планирования, установившегося с эпохи сталинской индустриализации. В итоге комиссариаты, отвечавшие за свой сектор экономики, превращались «в крупные централизованные бюрократические учреждения со своими собственными корыстными интересами». Они постоянно спорили между собой за ресурсы и политическое влияние. Однако укоренение департаментализма происходило в условиях стабильности. Но всегда власть стремилась обуздать независимость ведомств посредством проведения чисток, осуществления контрольного надзора, проведения мобилизационных мероприятий и назначения партийных людей на руководство этими органами. В условиях непрерывного давления, «слабости профессиональной этики среди чиновников» и малочисленности «слоя специалистов» внутри ведомств получили «широкое развитие механизмы самозащиты, семейных кругов и клиентских сетей»172. Именно к этому времени можно отнести пик интереса к «ведомственному подходу» в историографии.
Выводы Риса были, правда, впечатляющими. Известный российский историк Олег Хлевнюк определил исследования Риса как пример «перспективности „ведомственного“ направления изучения советской истории»173. Для Хлевнюка принципиальное значение имели описание влияния и контроля вождя и его соратников за деятельностью ведомств и идентификация Рисом их «главной проблемы» – степени участия в разделе «государственного пирога» капиталовложений174. По мнению ученого, вклад Риса в историографию сталинизма заключался в определении понятных критериев оценки автономии ведомств и, следовательно, возможности определения «веса» их руководителей в ближнем кругу Сталина. Таким образом, Хлевнюк точно выделил еще один аспект в «ведомственном направлении» историографии – интерес к личностному фактору в феномене ведомственности. Ярким примером такого фактора была деятельность Орджоникидзе, демонстрировавшего прямо противоположные модели поведения в зависимости от занимаемых им ведомственных руководящих должностей175. В середине 1990‑х годов из-под пера О. Хлевнюка, Ф. Бенвенути и Д. Уотсона вышла серия таких «биографических» работ о ведомственной активности Орджоникидзе, Кагановича и Молотова176. Эти труды показали, что Сталину приходилось считаться с наличием «вотчин», а члены Политбюро настойчиво отстаивали интересы своих ведомств. Развивая идеи Риса про ведомства как властный ресурс и тезисы Фицпатрик о Сталине как арбитре, историки раскрывали конкретные сюжеты поощрения вождем соперничества между ведомствами и учета интересов друг друга177. Это был иной вариант «ведомственного» анализа, который сосредоточивался преимущественно на выявлении персонального фактора в ближнем круге вождя и роли самого Сталина.
Несмотря на дрейф ведомственного направления в сторону просопографического метода, интерес этих историков оставался в реконструкции вертикальных связей и конфликтов. Ученые понимали ведомственность как иерархическую систему, которая пронизывала все уровни экономики и политики. Например, такая аналитика top-down отношений была характерна для работ Пола Грегори и Андрея Маркевича. Они высказали тезис о «гнездовой диктатуре» (nested dictatorship), в которой акторы административно-хозяйственной вертикали всех уровней воспроизводили вышестоящие структуры. В этой системе департаментализм представлял собой «отраслевой патриотизм», подталкивающий межведомственные (между наркоматами) и внутриведомственные (между главками) конфликты. Однако система тактически поощряла горизонтальные неформальные сделки наркоматов и главков, обозначаемые авторами как «оппортунизм» и «игра» ведомств178. В такой конфликтной среде Сталин и Политбюро опасались появления влиятельного суперведомства. Поэтому власть инициировала дробление наркоматов, которые затем испытывали проблемы со снабжением, и ведомствам не оставалось ничего иного, как стремиться к автаркии и к независимости от других ведомств179.
Эта трактовка выделяла особое лоббистское положение промежуточных структур, таких как главки или регионы. По мнению Маркевича, руководители наркоматов всегда считались с позицией главков, поскольку именно от них зависело выполнение плановых показателей всей отраслевой вертикали180. Исследования Грегори и Маркевича заполняли «недостающее звено» в дискуссии о «реальных линиях» власти в СССР. Во главу ведомственной административно-командной цепи были поставлены не надзорные суперведомства (Э. Рис), руководство министерств (С. Уайтфилд) или отдельные предприятия (Д. Граник), а советские главки. С точки зрения Джеймса Харриса, такими лоббистскими возможностями обладали регионы. В союзе с бюрократическими институтами, которые имели глубокое чувство идентичности и собственные интересы, они создавали влиятельный советский регионализм, противопоставлявший себя центральному бюрократическому аппарату. По его мнению, теория патрон-клиентизма преувеличивала потребность региональных лидеров иметь покровителя в центре. Коалиции руководителей регионального уровня как от промышленности, так и от партийно-советских органов играли решающую роль в балансе политических сил между центром и периферией181. Траектория исследовательского поиска демонстрировала волатильность позиций в рамках ведомственного подхода. В то же время в начале 2000‑х годов этот взгляд, раскрывающий потенциал региональных и промышленных институтов, оставался вторичным в исследованиях сталинизма, которые попали под возрастающее влияние неотрадиционалистских трактовок.
Вскоре Эдвард Рис также скорректировал исследовательский фокус, обратив внимание на ведомственных руководителей, которые окружали Сталина. С точки зрения историка, ведомственные начальники обладали существенной властью в пределах своих вотчин, но при этом они все же находились под постоянным контролем Сталина182. Вероятно, именно эти выводы о высокой контролирующей роли вождя привели к смене исследовательского ракурса у историков, которые прежде смотрели на советскую экономику через призму институционального подхода. Хотя они и продолжали считать, что разногласия на основе ведомственных интересов приводили к различиям в политике, а не наоборот183, ведомственный фактор уже не казался им определяющим в анализе экономической системы. Историки видели в Сталине арбитра, но уже не столько между ведомствами, сколько среди конкретных соратников, обладающих министерскими портфелями184. Диктатор нуждался в помощниках, которые управляли бы огромными институтами185. Итак, произошло смещение фокуса с ведомства как института на руководителей ведомств и их роли в ближнем кругу Сталина.
Этот новый исследовательский подход к Сталину и конкретным ведомственным управленцам ярко проявился в работах Олега Хлевнюка. По сравнению с другими учеными историк наиболее продуктивно использовал «ведомственность» в качестве аналитического понятия, под которым понимал централизованную и иерархичную систему управления в СССР. Высшие партийные руководители одновременно управляли государственными и хозяйственными структурами, получая тем самым рычаги политико-административного влияния186. По мнению Хлевнюка, Сталин в значительной мере был составной частью этой «системы советской ведомственности». Однако ведомственность советской властной иерархии позволяла сохранить остатки коллективного руководства при диктатуре. Как писал историк: «Ведомственность, опиравшаяся на позиции членов Политбюро – руководителей ведомств, оставалась последним препятствием на пути единоличной диктатуры»187. В этой системе Сталин являлся особым центром власти, ответственным за соблюдение «общегосударственных интересов» и сдерживание ведомственных влияний. Но вождь не был ярым противником ведомственности, скорее для него было главное, чтобы все решения согласовывались с ним. Поэтому, с точки зрения Хлевнюка, феномен ведомственности правильнее рассматривать как инструмент обеспечения безоговорочной власти вождя. Как отмечал историк: «Борьба с бюрократизмом и ведомственностью оказалась для Сталина удобным методом воздействия на членов Политбюро»188.



