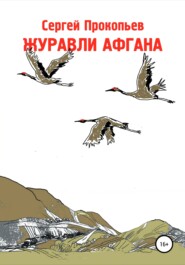 Полная версия
Полная версияЖуравли Афгана
Эмоций в подводной работе прибавляли звуковые мины, щедро подаренные ментам прапорщиком Альбертом. В Червлёной коровы с кабанами не все активировали, оставшиеся забрали в Аргун и поставили по периметру. Понятное дело, под водой растяжки не увидишь, да и не они были целью операции, но стоило задеть ненароком, под ногами начиналось бурление. Пусть не смертельное, да всё равно не по себе: сосредоточенно ищешь ногами монку, вдруг вода ключом закипает…
Нахлебались порядком. Был момент, Николаю казалось всё, сил не хватит добраться до берега. И мину не бросишь на глубине в канале (не найдёшь потом) и полные лёгкие воды…
– Слава Богу, – сказал Николай, вытащив последнюю монку на берег, – обошлось!
– Могло не обойтись? – удивился Дизель.
– Мы с тобой не раков ловили. Даже рак, если неправильно взять в воде, укусит так, что мало не покажется, тут мина, поди, знай, что у неё в голове…
– Знал бы…
– Не пошёл?
– Да нет, почему…
– Вова, я бы с тобой в Афгане в разведку не пошёл…
– А я бы с тобой пошёл.
Дизель говорил не ради красного словца. Обустраивая в Аргуни лагерь, они оградили себя от незваных гостей растяжками с Ф-1. День на третий Николай под вечер, было ещё светло, повёл очередную смену на пост, как раз в сторону Терека. Шли втроём, впереди Николай, за ним боец, замыкающим двигался Дизель. Он и сорвал растяжку, ступив за тропу. Щелчок срабатывания чеки гранаты Николай спутать ни с чем не мог. На всю жизнь этот звук врезался в память в Афгане. Среагировал мгновенно, развернулся, богатырски обхватил в поясе одного бойца правой рукой, другого левой и сделал прыжок с ними. Бойцы не услышали зловещего щелчка, не поняли действий командира, который богатырски обхватил, поднял и ракетой нырнул к складу. Повезло, были рядом с этим внушительным сооружением из кирпича, с архитектурной особенностью, коей были массивные прямоугольные полуколонны. Они стояли на расстоянии друг от друга и выступали из стены сантиметров на семьдесят. Под прикрытие колонны прыгнул Николай с товарищами в охапке. Раздался взрыв, его приняла на себя полуколонна. Позже парни сокрушались, глядя на посечённый металлом кирпич, без малого не приняли на себя веер осколков. В наступившей после взрыва тишине заблажила рация, командир СОМа истошно кричал: «Что случилось? Доложите обстановку! Что случилось?»
Посвящать командира в детали инцидента не стали, свалили гранату на Китайца – кота, который появился на элеваторе с приходом отряда. Это было рыжее, увесистое, вечно голодное существо. Во всяком случае, на счёт поесть мявкал постоянно. Покормят в одном углу, тут же бежал за угощением в другой, громко требуя: дайте жрать. Кот с первого дня стал любимцем отряда, и нарекли его с чьей-то лёгкой руки Китайцем. Николай вовремя вспомнил про него, договорился с бойцами представить случившееся, как задействование гранаты бессловесным Китайцем. Дескать, увязался за ними, и надоел мявкая. Дизель шуганул попрошайку, Китаец брызнул с тропы и зацепил растяжку. Грудью, или башкой своей здоровенной, или хвостом, что как пушистая палка торчал. Кот получил после этой легенды второе прозвище – Подрывник. Кот отзывался и на него, лишь бы жрать давали.
Командир похвалил Николая:
– Ты настоящий герой! Молодец! Спас товарищей! Думать не хочу о последствиях, случись ранение.
Поступок можно расценить как героический, который тянул на награду. Как же – умелыми действиями спас товарищей от увечий, не исключено – от гибели. Ф-1 – серьёзная граната. А с другой стороны – разгильдяйство. Они, командиры, не вбили в мозги бойцов: будьте бдительными – мы на войне, не ловите ворон… Тут не награду – по башке надо бить… Дизель вместо того, чтобы идти шаг в шаг (элементарное правило), ступил с тропы, чтобы идти параллельно с товарищем и болтать.
Какая тут награда…
Само собой, Николай мечтал в Афгане о награде. Все они мечтали: и офицеры, и солдаты. Не за красивые глаза хотел получить. Да и кто ему за красивые глаза даст? Не в штабе служил. Хотел проявить себя, был уверен в своих силах. Не отсиживался, не юлил, не искал, как бы закосить. С Валькой Сошниковым они призывались вместе. Тот попал на точку. Валька рассказывал: «Стратегически важная балда. Горушка, тройное кольцо обороны вокруг, духи и не совались». Ни разу за полтора года службы Вальки в Афгане «на балду» не покушались духи по-настоящему, штурмом не брали. Безвылазно просидел на ней Валька и получил медаль ЗБЗ – «За боевые заслуги». Не участвовал в боях, не ходил на операции в кишлаки, но служил честно и поучил награду.
Николай остался в Афгане до конца. После контузии в госпитале подал рапорт на продолжение службы в Афгане. Почти все в госпитале изъявили желание остаться. Большинству отказали, только десантникам дали положительную резолюцию. Николай после госпиталя служил в Кабуле в роте охранения стратегических объектов. Ровно за месяц до окончательного вывода войск, 15 января 1989 года, улетел в Союз. Восемь месяцев после госпиталя оставался на войне. Только отношение к ней резко изменилось. Логика железная: раз объявлено о выводе войск – значит, о какой войне речь. Хотя были обстрелы, нападения духов, бойцы погибали до последнего дня, до 15 февраля 1989 года. Но какие такие боевые награды, если политики сказали: войны больше нет.
Была думка, когда подписался на Чечню, может, там правда восторжествует. В милиции всегда был в первых рядах, за спины не прятался. Отец как-то сказал: лучше вторым, да живым, чем первым, но мёртвым. Хотя сам всегда был первым. Страшно переживал за развал Советского Союза, предательство партийной верхушки. Плевался, когда телеведущий Кириллов на камеру сжёг партбилет. «Да ты же лез в партию, чтобы торчать в телевизоре! – кричал в экран, будто Кириллов мог его услышать. – Ты лизал задницы, восхвалял всех генсеков, а теперь, трясясь за место, сжигаешь партбилет на всю страну!» Отец окончил заочную Высшую партийную школу. Работал инженером в сельхозтехнике. До этого был в колхозе механизатором, потом поступил в техникум, окончил, это уже в райцентре, и поступил в партшколу. Николай удивлялся, с каким азартом он учился, с каким настроением после работы шёл на занятия. Рвал сердце, глядя на происходящее в девяностые годы. Может, оттого и умер рано, лишившись внутренней опоры, – в шестьдесят один год, за два года до Чечни Николая.
В Аргунь однажды привезли им гуманитарку – консервы, крупы, печенье, сигареты. В Великую Отечественную войну на фронт присылали солдатам посылки из тыла, и тут что-то подобное, только название пошлое – гуманитарная помощь. Доставили её пошло (это позже выяснится), доставили не абы кто, три подполковника из их милицейского управления. Не мелкие клерки, нет, командиры с большими звёздами прибыли в горячую точку подкормить подчинённых, своими глазами убедиться, как они на передовой несут боевую службу.
Время было жаркое. Не по боевой обстановке – по погодной. Солнце палило нещадно. Это не помешало офицерам всю водку, что была в НЗ у отряда, прикончить. На железной дороге частенько возникали ситуации, когда надо было договориться с машинистом маневрового тепловоза, дабы побыстрее перегнал вагон в другое место. Все мы люди, все мы человеки: с дефицитной валютой в кармане, коей является водка, транспортные проблемы решались на раз. Посему решалово всегда держали в запасе. Командир отряда широким жестом показал схрон с «жидкой валютой», высокие командиры за здорово живёшь до последней бутылки ящик употребили, ни разу не поплохело им от дармовщины. Закалка была ещё та. Как в том анекдоте, в котором полковник отчитывал напившегося накануне лейтенанта: «Ну, выпил литр, выпил два, ну зачем же до скотского состояния напиваться, ронять честь офицера?» Не лейтенантами зелёными были гости. Покончив с решаловом, интерес к отряду потеряли, отбыли восвояси. Ещё и запасы воды, тоже дефицитной субстанции на элеваторе, вылили на себя в душе, охлаждая комплексное действие на организм солнечного термояда и водки, пламенеющей в крови.
Уезжая, щедро пообещали награды, звания. Дескать, геройски стоите на защите конституционного порядка. Написали представление, Николаю – майора, всем майорам – подполковников. Дескать, не зря мы вашу водку скушали, в долгу не останемся. Николай дал список лучших бойцов взвода. Управленцы список взяли, железно обещая поощрить передовиков по максимуму.
По возвращении домой сводного отряда, всех вызвали в управление. А там обрадовали обухом по голове. Подполковникам, что приезжали с гуманитаркой и гуманитарно НЗ водки скушали, торжественно вручили медали за восстановление конституционного порядка в Чечне. Отряду вынесли устную благодарность за выполнение долга. После чего скомандовали: офицеры направо, сержантский состав налево.
То бишь, офицеры на банкет, сержанты – свободны. Никаких внеочередных званий, никаких правительственных наград.
Николай, вопреки только что прозвучавшей команде, шагнул к сержантам, ругаясь про себя последними словами. Вот уж действительно: наказать – невиновных, наградить – непричастных.
– Да ладно, парни, – успокаивал себя и сотоварищей по Чечне, – хорошо хоть не наказали!
А ведь зря успокаивал – наказали. Самым подлым образом. Не так, чтобы приказ: ах, вы такие-разэтакие. Хуже. Не оплатили командировку в горячую точку. Первый отряд суд проиграл, хороших адвокатов нашёл, у тех после поражения заиграло ретивое: это дело принципа. Начали работать с двойной силой. Да плетью обуха не одолеть. Всё было схвачено в суде и, надо полагать, оплачено. Дошло до абсурда, появился «убойный» довод у ответчика: дескать, в Ханкале снаряд попал в архив, все документы отряда были утрачены. Нет документов, значит, взятки гладки. Будто бы в Управлении не осталось никаких бумаг на командировку отряда, а бойцам не выдавались командировочные удостоверения. Пять судов бились адвокаты, но правда не восторжествовала ни в одном.
– Прохохотали наши денежки, – сделал для себя вывод Николай. – Кому война, кому поживиться за чужой счёт!
Мать Николая, пока он был в Чечне, телевизор в овраг отвезла. Проводив сына в Чечню, сообщения о тамошней войне стала с мокрыми глазами смотреть. Включала телевизор с замиранием сердца, боясь чёрных новостей с войны, и не могла оторваться от экрана. Показывали разрушенный до основания Грозный, колонны танков на дорогах, захват террористов. Насмотревшись, долга ворочалась без сна, а когда проваливалась в него, начинались мучали кошмарные сновидения.
В первые месяцы, как Николай попал в Афганистан, часто плакала. Особенно, если узнавала – в район пришёл ещё один гроб из Афганистана. В соседях жила работница военкомата, сообщала. Слёзы сами лились, и ничего не могла с собой поделать. Ревёт и ревёт. Однажды муж сорвался, накричал: «Ты что его хоронишь! Думай своей головой. Он же твой сын, он чувствует состояние матери, ему плохо от этого!» Слова мужа отрезвили, перестала через день да каждый пускаться в плач, если только тайком. С мужем было легче сына ждать, из Чечни ждала одна.
В тот раз прилегла после обеда и увидела страшный сон. Чечня, чёрные бородачи в камуфляже схватили Николая, повалили на землю, руки связали за спиной, а потом согнули две большие берёзы, одну ногу к одной привязали, другую к другой и отпустили… Проснулась с бешено колотящимся сердцем. К чему такой сон?
Вечером в церкви служилась всенощная, отправилась в храм. Пошла пораньше, помочь убраться к празднику, на следующий день было Рождество Иоанна Предтечи. В притворе столкнулась со старостой. Мужчина её возраста, в прошлом учитель. Внимательно посмотрел ей в лицо, спросил:
– Константиновна, что такая хмурая? Что с тобой?
Рассказала: из головы не выходят мысли о Николае. Сколько слёз пролила, пока в Афганистане воевал, и вот Чечня. Стреляют, взрывают, убивают. Каждый день, как ни посмотрит телевизор, места себе не находит. А сегодня сон приснился такой, что не дай Бог.
– Знаешь, что я тебе скажу, Константиновна: ты вместо того, чтобы лишний раз встать перед иконами и обратиться к Господу нашему Иисусу Христу, Матушке Пресвятой Богородице в телевизор глаза пялишь! Батюшка едва не на каждой проповеди говорит: меньше смотрите! Как можно меньше! Больше молитесь!
– А что делать? – растерянно спросила.
– Раз на тебя так действует, убери с глаз долой, чтобы соблазна не было. В кладовку унеси… Вернётся, Николай, тогда и достанешь…
Она пошла дальше. Никогда не страдала отсутствием решимости. Когда-то мужу как механизатору-передовику колхоз выделил новенький автомобиль. Выделил – не значит, подогнали: бери. Предоставили возможность купить. Всего несколько машин на весь район. Кой-какие деньги у них были. Да она категорично постановила: нет! Какая машина, надо переезжать в район, покупать дом, дети подрастают, им учиться надо.
В колхозе она работала одно время пояркой, потом в доярки перешла. В тот раз стоит на ферме у своих коров, вдруг заходит делегация: председатель колхоза, председатель райпотребкооперации. Напарница смеётся: «Сваты идут!» Она в ответ, тоже за словом в карман не лезла: «Коров моих сватать?» Товарка: «Не коров, а тебя, Верочка!» – «Как меня?» Оказывается, солидной компанией пришли упрашивать Веру Константиновну занять должность продавца, встать за прилавок. Магазин в деревне, которую неделю был под замком: ни сахара хозяйке не купить, ни папирос механизаторам. «Да вы что?! – испугалась она. – Куда коров моих дену?» Хорошие были коровы, с ними Вера Константиновна постоянно получала красный вымпел передовицы. «Это же иметь дело с деньгами! – ещё один аргумент выдвинула. – А вдруг растрата!» Управляющий отделением засмеялся: «В случай чего, Вера, подберём тебе хорошую партию коров, чтобы заработала и рассчиталась». «Вот спасибо, успокоил, что называется», – парировала она предложение начальника. Она, конечно, была уверена в себе, не простофиля, вокруг пальцев не обведёшь, на счётах считала, как никто другой на ферме, костяшки только отскакивали. Да и так голова хорошо соображала. Решилась. Буквально на следующий день приняла товар, несколько дней деревня ходила на неё смотреть, как справляется за прилавком. Сколько ревизий ни приезжало, ни оной недостачи не нашли. Всегда копеечка в копеечку. Так что не пришлось управляющему давать группу коров для расчёта с долгом.
Лет пять было телевизору. Хороший, цветной «Самсунг». Не плоский, с кинескопом здоровенным, тяжёлый аппарат. Николай спрашивал:
– Мама, как ты его выволокла.
Не любила эту тему. Ответила коротко:
– Захочешь избавиться от греха – справишься.
По темноте (увидят соседи – устанешь на вопросы отвечать) погрузила в тачку, в двухколёсную «тачанку», вывезла за огород и вывалила в овраг. Был за огородами овражек.
– На следующий день, поди, ноги приделали, – спросил Николай.
– Я что, по-твоему, бегала смотреть: взяли, не взяли? Брат Николая сетовал: «Нет бы, отдать кому-то – выбросила! Богачка!» Мать считала: отдать, значит, себя избавить от греха, а другому передать – греши, мил человек, на здоровье.
Николай вернулся из Чечни, на следующий день мать повела в церковь, заказать благодарственный молебен. Жена ворчала, собираясь: «Что теперь-то ходить, ладно, когда уезжал. Вернулся и дело с концом».
Они вошли в церковь и увидели батюшку, выходящего из алтаря. Густое серебро, черный подрясник, золотистый крест на груди. «Крест на мне, крест во мне…» – сами собой пришли в голову Николая слова молитвы. Увидев его, батюшка заулыбался, расставил руки для объятия:
– Николай!
Обнял, три раза прикоснулись щеками. Густая батюшкина борода пахла ладаном.
– Слава Богу, вернулся. Мать изпереживалась за тебя! Слава Богу за всё!
Один из шести
В военный комиссариат сельского района позвонили из облвоенкомата и сообщили: на Андреевку идёт цинковый гроб из Афганистана. Никакой другой уточняющей информацией область не располагала: гроб в Андреевку. Всё. Райвоенком подумал и позвонил председателю Андреевского сельсовета, передал сообщение и попросил не будоражить раньше времени народ, фамилия погибшего пока неизвестна, лишь пункт назначения скорбного груза. Придёт в область борт с цинком, тогда станет ясно – кто в нём. Председателем сельсовета в Андреевке была женщина, она не смогла удержаться – село облетела тревожная весть. К вечеру все матери, сыновья которых служили в Афгане, знали о случившемся.
За год до этого в Андреевке восемь вчерашних одноклассников призвали в армию, шестеро попали в Афганистан: Антон Глебов, Вова Максимов, Коля Урусов, Денис Якименко, Толя Беляк, Женя Кардаш. Кто-то из них возвращался в Андреевку в гробу.
Матери афганцев потянулись к Марии Глебовой. Работала Мария в пошивочной мастерской, с некоторых пор стали её называть по-городскому – ателье. Мария слыла женщиной умной, рассудительной, хорошо кроила и шила. В нарядах от неё щеголяли сельские модницы. Первой к Марии пришла Екатерина Максимова, вместе работали в ателье. Но сегодня Екатерины там не было, второй день сидела на больничном.
– Что скажешь, Маша? – Екатерина долгим взглядом посмотрела в глаза Марии, будто хотела увидеть в них ответ на мучивший её вопрос.
– Что тут, Катя, скажешь.
Екатерина вдруг громко зарыдала.
– Ты что, ты что? – начала успокаивать Мария.
– Да ведь Вова это, Вова! Убили его, чует моё сердце!
– Прекрати! – строго сказала Мария. – Нельзя так! Что ты раньше времени хоронишь!
Екатерина послушалась, углом платка вытерла слёзы.
Стукнула калитка, пришли сразу четверо – Вера Урусова, Татьяна Кардаш, Светлана Якименко и Зина Беляк.
– Ничего не узнала? – спросила Урусова у Марии.
– А у кого?
Снова раздались шаги в сенях, вошла Надюшка Логинова. Невысокая, фигуристая, с круглым лицом. Надюшка была девушкой Володи Максимова. Замерла у порога.
– Что ты как не родная, – сказала Мария, – проходи.
Надюшка взяла табуретку.
– Тётя Катя, – спросила, – Вова писал вам, что в госпитале лежит?
– Как в госпитале? – подскочила Екатерина. – Ничего не писал.
И всплеснула руками после секундной паузы:
– Умер от ран!
– Да погоди ты! – прикрикнула Мария. – Что ты его опять хоронишь! Раз письмо написал, значит, не в тяжёлом состоянии!
– Может, письмо не его почерком? – с трагическими нотками в голосе предположила Екатерина.
– Его почерк, – поняв свою оплошность, зачастила Надюшка. – Пишет: лёгкое ранение в ногу
– Мой Толя пишет, – сказала Зина Беляк, – охраняет аэродром, кормят досыта, фрукты дают. Всё спокойно.
– Они напишут, только уши развешивай. – Вера Урусова сидела с тяжёлым лицом. – Зачитаешься. Пионерский лагерь, а не война. У меня приятельница в кинофикации работает, сын всю дорогу вешал лапшу в письмах – электростанцию охраняет, а пришёл без руки. Мой тоже склады охраняет. Все сторожами там…
– А чё, – воскликнула Татьяна Кардаш. – Женя пишет: шоколад им дают.
Вошёл муж Марии, Андрей. Высокий, сутулый. Он работал в совхозе электриком.
– Вы чё это, бабоньки, такой компанией и без пузыря? Сгонять? Белое? Красное?
– Угомонись, – оборвала шутливый тон мужа Мария, – цинковый гроб в Андреевку идёт.
– А-а-а, – ничего не понял Андрей и прошёл в комнату.
Тут же вернулся:
– Чей гроб? – спросил.
– Неизвестно, – с раздражением ответила Мария, – из Афгана.
– А-а-а, – протянул Андрей.
Прошёл в комнату и снова появился в проёме двери:
– Надо позвонить в военкомат.
– Там ничего не знают.
Повисла тягостное молчание.
– Вчера вспоминала, как Женя в первый класс пошёл, – нарушила его Татьяна Кардаш. – Счастливый. Ему так хотелось в школу. Новые учебники на десять рядов просмотрел.
– А теперь цинк к нам летит! – зло бросила Вера Урусова. – В «Чёрном тюльпане». Ростишь-ростишь… Мой слушает западное радио, нас там оккупантами называют, говорят, сколько сбили самолётов, погибло солдат.
– Может не везде так! – сказала Кардаш и тут же снова вернулась к теме «пионерского лагеря». – Женя писал, у них давал концерт Александр Розенбаум. Дескать, разве когда увидел бы Розенбаума в нашей Андреевке.
Зашла Алина Вересаева, остроглазая, с утиным носиком, волосы до плеч. Девушка Жени Кардаша. Она ещё не успела пройти, Татьяна Кардаш спросила:
– Когда от Женьки в последний раз письмо получала?
– Позавчера, – сказала Алина. – Писал: ходили в горы.
– Склады охранять? – съязвила Вера Урусова.
– Не знаю, – потупилась Алина.
– Мальчишки наши так дружны были, – сказала Екатерина Максимова. – Вечно этот футбол гоняли. Вова мой если видел – ребята пошли с мячом, всё бросал: мама, потом сделаю. Бежал на луг.
Село стояло на высоком месте. Одним краем оно упиралось в смешанный лес, огороды другого опускались к широкому лугу, границу которого очерчивала река. До неё метров четыреста шагать. На лугу мальчишки нашли ровную площадку и обустроили футбольное поле. Поставили ворота, сделали разметку. Стадион имелся в центре села, у школы, но мальчишкам, что жили на этом краю, удобнее было играть на лугу. Это было их поле, у школы собиралась своя компания. Чем ещё удобен луг – рядом река, пять минут и ныряй да плавай. Летом в погожий день стадо пройдёт, небо за рекой украсится закатом, футбольное поле оживает голосами мальчишек. Марии Глебовой понадобиться в огород за огурцами или зеленью, откроет калитку, пройдёт к грядкам и обязательно посмотрит туда, откуда доносятся звуки ударов по мячу, крики азартных футболистов. Найдёт Антона. Полюбуется сыном.
Друзья тянулись к Антону. Он после седьмого класса сагитировал сделать на лугу поле. Мальчишки нашли брёвна на ворота, сделали разметку. Одно бревно на перекладину для ворот Антон выпросил у отца. Тот поначалу заартачился, приготовил для сеновала, Мария встала на сторону сына. Вдвоём уговорили.
После матча школьные друзья Антона частенько шли в село через огород Глебовых. Так было удобнее, не надо делать крюк. У Глебовых устраивали водопой. Рядом через дорогу жили Урусовы, но утоляли жажду у Глебовых. Антон большим ковшиком черпал воду из фляги, и все по очереди жадно пили. Мария, если была дома, останавливала:
– Подождите, не наливайтесь пустой водой! Морс сделаю!
Щедро лила варенье в трёхлитровую банку, наполняла её из той же фляги колодезной водой, размешивала.
Мальчишки первую жажду утоляли из ковша, затем, не торопясь, уговаривали до последней капли банку морса.
Возбуждённые футболом, они были ещё там, на поле – перебивая друг друга, спорили. Проигравшие не соглашались с поражением. Им, дескать, забивали голы из положения вне игры, не назначали вернейшие пенальти в их пользу.
В разгар лета, увлекаясь, играли до глубоких сумерек. Останавливали матч, когда и мяч-то было еле видать. А потом шли купаться. Дневные ветры стихали к вечеру, река текла ровно, ни морщинки на глади, только если рыба плеснёт, оставив после себя живые круги. На ходу, сбрасывая футболки и трико, мальчишки вбегали в воду. Разгорячённые тела жадно вбирали в себя речную прохладу. Два-три часа футбола не утомили, наперегонки плыли на другой берег. Пусть река метров сорок-пятьдесят шириной, да тоже надо поработать. Выплывали к песчаной косе. Купаясь жарким днём, падали на горячий песок, к вечеру он остывал, не поваляешься, сразу плыли обратно.
В старших классах вечером к футбольному полю приходили девчонки. Принаряженные. Мальчишки играли при них с повышенным азартом. Старались показать себя.
Девочки не заходили к Глебовым испить воды после игры, стеснялись. Одна Валя Троян шла на равных. Валя была не только девочкой, а и футболистом. Крепко сбитая, среднего роста, с короткой стрижкой, скуластым лицом, она активно занималась спортом: бегала за школу на районных соревнованиях, хорошо играла в волейбол. И на футбольное поле приходила не в юбке, а в кедах и трико. Мальчишки ставили её в защиту. Валя не подводила – цепкая, скоростная – всегда оказывалась в нужном месте перед противником, вставала преградой к воротам.
– Вы с Валей осторожно играйте, она ведь девочка, – наказывала Мария на «водопое» мальчишкам, если футболистки не было рядом.
– Тётя Маша, ей это скажите! Иду с мячом, она не в мяч, а по ноге как шарахнет.
– Волоха, ты сам часто в кость играешь!
– Валька молодец! – хвалил Коля Урусов. – Ей бы ещё удар посильнее! Как рванёт по краю, фиг догонишь. И в защиту вовремя вернётся! Моторная! Не зря чемпион района по стометровке!
Марии нравилось, что мальчишки с восхищением говорили о девочке. Валей она любовалась. Такие девчонки вырастают в хороших жён и матерей. Антону бы такую.
Валя ещё и потому ходила играть в футбол, а может, только по этой причине – ей очень нравился Денис Якименко. Втихушку тренировалась дома с мячом. Мать Валик как-то пожаловалась Марии: «Валька всю стену сарая обстукала футболом!»
Мария однажды спросила сына:
– Кто у вас лучше всех играет?
– Денис. Мы-то что – техника садово-огородная, а он с третьего класса занимался футболом в Баку. И обводка, и удар поставлен, и поле видит, пасы точные отдаёт.

