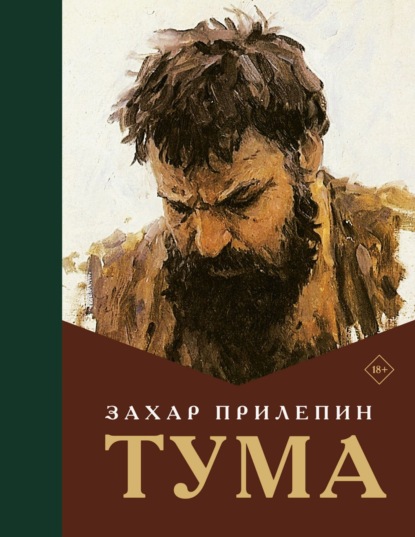
Полная версия:
Тума
Степан же, по давно уж возникшей повадке, подслушивал разговоры торговцев, вникая в речь. Если кого из торговой прислуги знал – заговаривал сам, всякий раз стараясь услышать новое слово.
Поздоровался со старым сечевиком, который таскал выносной короб горилки, предлагая казакам праздновать всякую покупку, а купцам – продажу. Сечевик был весёлый, умел пошутить и на ляшском, и на армянском, и на кизилбашском, а на Стенькин интерес – «О чём ты сказал ему, дедка?» – не сердился, но, напротив, подмигнув, отвечал:
– Кто допытывается – не заблудится. А гуторю я вот за что, хлопчик…
Больше всего на торге водилось русских купцов. Торговали они мёдом, пенькой, янтарём, воском, льняными холстами. Рябили в глазах скатки кручёного, с золотой ниткой, шёлка, материи шерстяные и суконные, златотканые и шёлковые пояса. Трепетно было прикоснуться к шкурам соболиным, горностаевым, песцовым. Чудно пахла русская лавка, где продавали сёдла и узды, и прочую конскую справу.
Имели здесь свои лавки крымские татары, персы, жиды, болгары, сербы, нахичеванские армяне, прочие многие.
Греки торговали кофе и лавашами, и кофейный дух перебивал даже терпкий вкус кож. Грузины выставляли огромные бурдюки с вином.
Иной раз до Черкасска добирался даже китайский фарфор.
Из сирийской страны везли ладан и миро.
Турки из Тамани и Керчи доставляли на базар киндяки и сафьяны, рыбные снасти, всякие ягоды, и сладости, и любимые отцовские орехи – те, что казаки прозвали азовскими, а московские купцы именовали грецкими.
Мать же искала цитварное семя для сыновей.
Оглянувшись – пред глазами мелькали красные тюрбаны турок и высокие головные уборы греков, – Степан приметил, как с матерью шепчется жёнка Лариона Черноярца – единственная старуха в Черкасске, помнившая тут всех: и считаных живых, и бессчётных мёртвых, и томившихся в плену, и тех, что, показаковав, вернулись в Русь.
Тоже когда-то турская полонянка – горбоносая, с годами почерневшая, как древесная зола, – она не первый раз пыталась заговорить с матерью, но всякий раз та кланялась и поскорей уходила. А тут – не ушла.
Степан глянул в ту сторону, куда кивала старуха, успев заметить знатно одетого турка со служкой. Они дожидались кого-то возле жидовских рядов.
В тот же миг метнувшаяся к Степану мать, круто развернув сына, сунула ему в руки не полный ещё короб, и безжалостно толкнула: пошёл!
Повинуясь, не оглядывался; а чего глядеть? Ну, старый турка, мало ли их тут бывало.
Вскоре, уже за деревянными воротами базара, их догнал Иван. Недовольная мать дёрнула и его за рубаху, хотя надобности в том никакой не было. Брат ухмылялся.
…с того дня миновали недели, и только в ноябре, на опустевшем базаре, Иван, бездельно бродя со Степаном, уселся на том же месте, где дожидался турок, и вдруг, насмешливо глядя на брата, загадал загадку:
– Припомнишь, кто туточки тосковал?
Степан замешкался и с ответом не нашёлся.
Иван всё щурился, лукавый.
…поднялся, и, уже уходя, кинул через плечо:
– А дед.
VIIIОт черкасского куреня до азовского каземата было день конным и вплавь тоже день.
…он ходил до Валуек, и ходил до Воронежа, ходил до Астрахани и ходил до Саратова, ходил до Москвы и до самого Соловецкого монастыря, – и всюду помнил: курень его, как заплечный мешок, висит, не томя тяжестью, за спиной. Захотел вернуться – сделал шаг, да второй, – и однажды до заката завидишь черкасские башни.
Теперь же его будто унесло за тридевятые земли – и дымка́ не выглядишь над черкасским городком.
Курень его был мазан жёлтой глиной, крыт чаканом. Стоял на сваях в ожидании большой воды. Обвитые плетнями сваи, когда задувал ветер, скрипели, как мачты.
Гнедой конь под камышовым навесом; в бадье – мошкары, как во вчерашней ухе. Из сарая смотрит коза – пристальные глаза светятся, как светляки.
В плетёном коше вздымают жабры щука да сазан.
К сеням – по крепко сколоченной лесенке.
В переднем углу избы – божничка, убранная вышитыми рушниками. Лампадка из цветного стекла и три тёмных иконки: Спасе, Богоматерь со младенцем, Николай Угодник.
На стене: три сабли, шесть пистолей, два самопала – долгий да короткий, да фитильная пищаль, да клевец, да гасило, да нагайки.
В большом сундуке: барашковая и бархатная шапки, и ещё суконная с серым курпяком, два зипуна – белый и серый, шуба на куньем меху, войлочная епанча, черкесская попона, сермяжные перчатки, зелёные суконные рукавицы, красные штаны, две пары шаровар, три пары кожаных сапог, множество ремней, множество поясов – пояса с бляхами, на тех бляхах всякие птицы выбиты.
В сундуке поменьше – сахарница с бараньей головой, серебряные чаши, чарки, ковши – много.
Широкие липовые лавы. Стол, крытый красным сукном. Белоснежная печь.
…перебрал всё, что помнил, – и без жалости к себе открыл глаза, глядя в плесневелые потолки.
…и разжиться не успел: а дороже той печи и божницы – не знал ничего.
Что, если поразмыслить, в курене том – кроме запаха его. Но когда б хоть лоскуток со дна сундука бросили б ему сейчас – как пёс спал бы с ним.
…с утра за ляхом явились трое стражников.
Степан, опытный людобой, всё о них понял вмиг.
Двое только путали друг друга в спотыкливой суете.
Третий же, в полосатой чалме, был неспешен, огромен, лют. Грудь и брюхо срослись воедино. Раза в четыре тяжелей Степана. Ноздри как у буйвола. В ушах серебряные кольца.
…как увели ляха, серб поспешил к Степану – не терпелось поделиться.
–Гжегож веруе да че га откупити, изобечавао… А све негово имане не вреди толико! (Гжегож верит, что за него выкуп дадут, наобещал… А у него всё имение такой цены не имеет! – срб.) – шептал Стеван, улыбаясь; но не злорадствуя, а со снисхождением.
Так Степан узнал, что шляхтича зовут Гжегожем.
– Нипошто нэче да га пошалю на галию! (Никак не хочет, чтоб его отправили на галеры! – срб.) – добавил, посуровев, Стеван; он и себе не желал подобной участи.
– Ти си трговац? (Ты торговец? – срб.) – спросил Степан; чтоб не оскорбить, произнёс свои слова утвердительно. – Трговао си у Таврийи и доспео овамо? (Торговал в Таврии и угодил сюда? – срб.)
Морщины серба взметнулись к вискам, глядел удивлённо:
– Ай да казак! – сказал он. –Рекли су ти?.. Нису? Нэго како? Погоди си? (Тебе сказали?.. Нет? А как? Ты догадался? – срб.)
Степан неопределённо покачал головой.
–Есте, трговао сам у Кафи (Да, я торговал в Кафе. – срб.), – сказал серб. – Лепо сам трговао. Лепо сам светковао… (Хорошо торговал. Хорошо праздновал… – срб.)
–Омамили те опиятом… (Опоили дурманом… – срб.), – откидываясь на сено, продолжил Степан, глядя в потолки. – Продали те багателно Азовцима. Овде си им ти, као и Лях, обечавао брда и долинэ злата кое нэмаш. Нашкрабао си поруку српским трговцима да те избаве. И седиш овде чекаючи чудо. (Продали задёшево азовским людям. Здесь ты, как и лях, насулил горы злата, которых не имеешь. Нацарапал весточку сербским купцам, чтоб вызволили тебя. И сидишь тут, дожидаясь чуда. – срб.)
Серб держал в руках длинную травину.
Дослушав Степана, разорвал её.
IX…нырнул глубоко-глубоко, и в плотной, лишь сердцебиеньем наполненной тиши, увидел обескураживающее множество недвижимо, как войско, стоящих на дне рыб. Выворачивая, чтоб вернуться на воздух, снова обретая слух и слыша свои движения, разрывающие воду, столкнулся с огромной рыбьей мордой.
Морда та была в дюжину раз больше Степановой головы, а огромное тело уходило во тьму.
Его разорвало страхом изнутри. Он ухитрился закричать под водой, и воздух изошёлся множеством пузырей. Но даже в припадке он успел заметить, как величаво развернулось чудовище и пошло своим водным путём, унося исполинский хвост.
Вынырнул с растаращенными глазами, бешено лупя руками по воде. Его поспешно втянули в каюк, и он долго плевался водой, но Иван не жалел его, а, напротив, изгалялся:
– Сома увидал! Вот те крест, сома увидал, и вздумал на него пошуметь, как на медведя! Стёпка – дурак! Дурачинушко!
Степан ударил бы брата, но сквозь кашель и сопли вдруг узрел: та же самая рыбина прошла возле каюка.
Тут же взмахнули Ивановы пятки – с острогой в руке он беркутом гинул в глубь.
«…да чтоб ты утоп, – твердил себе Степан, – чтоб тя заглотило!..» – и напугался только спустя минуту, когда их дружок, тоже Ванька, деда Черноярца внук, разглядел ниже по течению взбурлившие и рассыпавшиеся по воде пузыри, и завопил:
– Иваху чёртовый конь унёс! – и тут же начал вслух, срывающимся голосом молиться.
Как огнём погоняемый, Степан грёб вперёд.
– Матерь Царица небесная, помилуй! – просил Ванька Черноярец так неистово, будто она была совсем рядом и слышала его.
Оглядывались во все стороны, но ничего не видели.
Прошла, наверное, ещё минута, когда Черноярец вскрикнул:
– Вон он!
…Иван вынырнул необъяснимо далеко. Никогда б никакой струг с добрыми гребцами не одолел треть версты в такой малый срок.
Тут уже и Степан заорал.
Иван не отозвался.
Он не подзывал к себе и даже не оглядывался на лодку.
Миновав прибрежное, уносившее в сторону течение, проплыл ещё дальше, и, злой, уже без остроги, вылез на берег, весь в чём-то вымазанный.
С берега отрывисто прокричал:
– Слизлявый весь!.. адова харя!..
Изогнувшись, чтоб искоса видеть соседку – шуструю, глазастую, с короткой шеей, уже в раннем своём девичестве крепкозадую, дочку Вяткиных Фросю, – Ивашка сидел на козлах.
Они только что допилили со Стёпкой дрова.
Иван был гол до пояса, в драных портах, босой, хотя уже стоял октябрь; но работа распарила, и размазанное, как масло, солнце подогревало его.
Плечи и уши у Ивана были альшаными – загорелыми до черноты, и кожа на них пушилась золой. Он и в зиму таким оставался. Казалось, Иван ухитрится загореть даже при луне.
Теперь он как бы рассказывал сидевшему в тени ледника Степану сказку, хотя сказки никакой не было: Иван просто перебирал ведомые ему срамные слова, то резко выкрикивая их, то, как червя из земли, растягивая.
Ноздри его раздувались, словно он хотел не только коситься на соседку, но и слышать её запах.
Замерев, Степан наблюдал бесстыжую забаву брата.
Иван то хрипел, то звенел, но внутри его голоса всё время прятался смех. Степан закусывал губы, чтоб не расхохотаться, а в груди у него – как пескари в садке – всё билось и трепетало.
Руки Ивана могли показаться тонкими – но так же тонка древесная ветвь, гнущаяся во все стороны, не ломающаяся, и при ударе – разрывающая плоть. Тонкими своими руками Иван мог убить из лука волка, содрать шкуру с любого зверька, затянуть такие узлы, которые дальше пришлось бы только резать.
Раскачиваясь на козлах, он широко держался руками за деревянные рога, словно бы море билось о него, хотя сырой и скользкий воздух вокруг был недвижим.
– …телепень баболюбистый!.. Мочальный кушак!.. – перечислял Иван. – Капустные пристуги! Скорынья верблюжья! Мостолыга коровья! Старого мерина губа вислая! Сиська козлиная!.. – здесь Иван набрал воздуха, и старательно, чтоб его расслышали, вывел: – …ногая волосатого… яй!.. цо!.. – последнее слово он, звонким шёпотом, задыхаясь, произнёс по слогам, округлив свои чёрные глаза, как птичьи яйца.
Фроська притворялась, что суетится на базу, и лишь распугивала кур, которые бегали то от неё, то за ней.
– Баранка требухой наизнанку! – продолжал Иван. – Дай кулёк визгу! А я те молока брызгу!.. Влез дурак в кисель кулаком, лижет той кисель… – Иван вдруг показал длинный, как у собаки, язык, – …ага! я-зы-ком!..
Степан даже по сторонам оглянулся, предчувствуя, что пора уже прекращать, – но так желалось продления забавы…
Вдохновлённый, Иван взял ещё выше, перекричав заблеявшего козла:
– Сабля гнутая – заржавелая лежала! Бердыш ржавый – стоял стоймя! – обернувшись на соседний баз всем телом, Иван прямо соседке, поймав её взгляд, выкрикнул: – Коли́ красну девицу, как колун!
Раскрасневшаяся, будто угодила под вар, Фроська ринулась в курень и загрохотала чем-то в сенцах.
Степан наверняка знал, что в груди её, как и у него, теснился смех, только девичий. Девичий – смешнее и дороже: им умываться можно.
Тут же раздался её матери голос:
– Что за пёс там лается, гляну вот!
…уронив козлы, но успев зацепить с розвали напиленных поленьев рубаху – бросить её вперёд, тут же, пока не упала, поймать, разбрасывая пятками грязь и навоз, Ванька махнул через плетень.
– Сбери дрова, Стёпк! – велел, став на миг и неотрывно глядя на соседскую дверь в курень; и вот уже сорвался дальше. – Сполняй, сказано! – крикнул ещё раз, даже не оглянувшись.
…Степан начал собирать дрова.
Недолго спустя, обегая курень, ткнулся с разбегу матери в грудь.
Цепкими руками она поймала его за плечи и, удержав на миг, мягко толкнула в сторону: беги.
…тоже всё слышала.
…снова сидели у отца сечевики – и Раздайбеда, и Боба, и прочие-иные, и донцы-побратимы, и дед Ларион.
У одного из сечевиков были отрезаны оба уха, но то его не стесняло.
Зашедший Васька Аляной, усевшись, застыл на нём взглядом.
Не дожидаясь спроса, сечевик сообщил доверительным шепотком:
– Иной раз муха метит сесть на ухо: только ноги растопыря, и рушится: нету ей тверди! – и затрясся безухой головой от смеха.
Таких прибауток у него было заготовлено впрок.
– А прямиком в ухо не залетая? – спросил Аляной серьёзно. – А то чихнёшь – а с тебя цельный рой вылетя, кои с той осени в голове пасутся!
…Иван со Степаном сидели на полу, спинами в стену, изредка задирая головы на говоривших.
– Азов схарчили у поганых! Треба нынче все крымски города воевать от Керчи до Козлова, – подзуживал собрание лохматый Яков Дронов, шаря рукой в густых своих, торчащих во все стороны, будто бы собачьих волосах.
– В Бакчисарай не ходили ещё. Его брать. И турскую Кафу, буде нам Бог даст. Самый надобный нам городишко, дюже богатый, – поддакивал ему Васька Аляной, кося смешливыми глазами.
Сечевики тоже разохотились на большие города.
– И Тамань, и Темрюку! – гудел Раздайбеда, глядя в огромное, полное всяких донских рыб, блюдо, с грохотом поставленное хозяйкой на стол.
– Перекопцы – одолимый народ. Казаки били татар и в Шибирии, и в Казани, и в Астракани. И с Крыму погоним поганых… – нарочно хорохорил всех Аляной.
– Смогём, токмо ежели государь людей пригонит в подмогу. В единочестве казакам тягостно придётся, – отвечал Трифон Вяткин. – Казань и Астракань без царёвых людей не взяли б.
А Шибирию – не удержали б.
– А коли возьмём – туда б и поселиться от теснот наших… – продолжал, лукавя, Аляной. – А то всё ж по островкам…
– Не-е-е, мы здешние, на кой нам? – отвечал ему Трифон. – А ежели домашних навестить в московских землях? То ж вдвое боле пути с Крыму-то…
– В крымских местах невольников руських и с Московии, и с Литвы, и болгаров, и сербин, мыслю, боле, чем татар. Обжились уже, с ыми веселей будя, – дразнил Трифона Аляной, подмигивая сечевикам.
– Та ж они побасурманенные все, кой с них толк, с агарян! – заругался Раздайбеда, широко крестясь. – Им поначалу к попам, отмаливать…
– Акку-у-уля… – неопределённо отвечал Аляной. – Отмолят, говорю те! И многи никуда не сойдут с землицы, а там и останутся! Токмо в холопах у их татаровя крымские будут. Каково? – вопрошал, часто моргая и держа себя за бороду, Аляной. – Да и новая русь заселится. Как заселилась и в Казанское ханство, и в Шибирское, и в Астраканское. Руси – как гороха. Нехай обживаются и в крымских землях, так.
– А русь заселится – куды ходить за добычей будем? – толкал его Вяткин.
Иван и Степан давно поняли, что Аляной и Вяткин ведут потешный гутор свой, стараясь развеселить Тимофея, который хоть и не подавал виду, а лукавое переругиванье побратимов обычно слушал с охотой. Но нынче отец был хмур.
– Мимо их – на Царьград, туда, – отвечал Вяткину Аляной. – И в Румелии давно не были… А то казак не найдёт себе?
– Ишь ты! На вёслах руки оболтаешь туды-сюды ходить. А как наши воеводы перестанут пущать мимо руськой Керчи? А они перестанут пущать! Как в Астракани на Хвалынь не пущают – так и там станет…
– Как же не пустят? – упирался Аляной. – Царьград – то православное царство было в прежние времена. Ежли царь примет Азов-город в своё подданство, добудем батюшке и Царьград.
– А нам дале куда? – теребил Аляного Вяткин.
– А то дале нет земель. Казаки, кои с полона бегали, баяли: там страна эфиопов. Не то в ней зипунов не сыщем? – строго отвечал Аляной.
– Зипунов нету – там жары, голова спечётся! – вмешался Раздайбеда. – На бёдрах носят драную ветошку – то и все зипуны тебе.
– …и бабы так? – задумался вслух Аляной, но Раздайбеда смолчал.
– Ещё Ерушалим есть! – вмешался в разговор Тимофей, хрустнув двумя азовскими орехами, зажатыми в руке.
Тут же высыпав скорлупу вперемешку с ядрами на стол, добавил:
– …раздухарились, как и Крым прибрали, и Царьград… В ухе звенит.
– Аку-у-уля… – пропел Аляной примиряюще.
Едва Тимофей взялся за другие два ореха, Дронов толкнул Раздайбеду:
– А как ваши реестровые сечевики поглядят на то, чтобы имать Крым? Что скажете, браты?
– Полковникам-атаманам нашим нынче не до того! – отвечал Раздайбеда. – А мы с братами-донцами – завсегда. Сжечь бы ту Таврию всю! Сколько ж народа руського замело туда, господи помилуй!
Тимофей всё так же, будто лениво, колупал орехи, но не ел их, а раскладывал скорлупу в один край, а плоды – в другой.
…вошёл сосед Корнила Ходнев.
Поздоровался, перекрестился, поклонился.
Садиться не стал. Стоял у оконца. Оглядывал застолье.
Корнила был чуть вытянут головою. Щёки – впалые, нос хрящеватый, бороду стриг коротко. Края же глаз и брови имел приспущенные, что придавало его лицу выражение обманчиво добродушное. Происходил он из черкесов.
Корнила и Тимофей на многие поиски ходили неразлучны.
– …наша реестровая старши́на пришла на сейм, – делился вестями Раздайбеда, попеременно переводя взгляд с Тимофея на Аляного, на Трифона, на Дронова, и всем телом поворачиваясь к Ходневу, – и на сейме потребовала, чтоб её уравняли со шляхтой! И чтоб казаки со шляхтичами вместе избирали короля.
– Казаки чтоб избирали? – переспрашивал, расплёвывая рыбьи кости, Трифон Вяткин.
– Старшина казацкая!
– Самого короля? – снова переспрашивал Трифон.
– Короля!
– А чему ты поразился? – говорил Трифону дед Ларион. – На Земском соборе государя нашего Михаила Фёдоровича избирали кто? Донцы!
– И то верно, – легко согласился Трифон, сразу почувствовав к запорожцам снисхождение. – Дед Ларион государя у нас избирал! – пояснил он им, как глуховатым. – А чего вашей старшине сказывали в том сейме?
– Отвечали, чтоб шли они до своих куреней, и выбирали лутчего порося, и вертели ему хвост в тридцать три завитка, а короля – без их собачьего разумения изберут! – ответил гулко Раздайбеда.
Аляной, Вяткин и Дронов от души рассмеялись, Тимофей с Корнилой – нет.
– А старшина? – с натёкшей от смеха слезой допрашивал Трифон.
– А старшина составила грамотку, – всерьёз отвечал Раздайбеда. – Надеемся, писано в той грамотке, будет избран такой король, что сохранит народу руському прежние вольности и упасёт православную веру от униатского унижения. Казачество за то будет королю служить верно.
– Акку-у-уля… – пропел Васька Аляной. – Смоленск навоевали королю, а то и ещё чего навоюете!
Раздайбеда повернул свою огромную, как колода, голову к Аляному.
– А чего ты зенками ворочаешь, Дёма? – спросил Аляной, вмиг осерьёзнев. – Под руський Смоленск сечевики являлись, али нет? Донцев тогда отговорили в брань впутываться, а сами – тут как тут! Королю посполитному послужить!..
– А мне деды сказывали иное!.. – Раздайбеда распрямился, невольно двинув длинный стол; вино плеснуло из нескольких кружек, а скорлупа орехов, колотых Тимофеем, ссыпалась на пол и ему на ноги; но тот не шевельнулся, чтоб отряхнуться, и его руки стали пугающи своей недвижимостью. – Помню, как ране донцы сажали то ляшских самозванцев, то ляшских королевичей на московский престол! А то и ляшку Маринку Мнишек – в руськие царицы! Бабу ж ту донцы привели под руки в Москву!.. Разве ж вру я, Тимоха?
Тимофей, не моргая, смотрел на Раздайбеду.
Боба, убрав руки со стола, переложил одну на пистоль, другую на нож. Трифон, заметив то, повернулся к Бобе. Глаза Трифона утратили при том всякое выраженье и стали как бы сонливы.
Безухий сечевик закосился на пищали и мушкеты, стоящие в углу, но на пути к ним стоял Корнила.
Степан заметил, как дед Ларион прихватил Аляного за рубаху сзади.
– И то было! И то было! – срываясь на петушиный сип, закричал Ларион, не отпуская рубахи Аляного. – Но и донцы – очухалися! И царя истинного, батюшку нашего Михаила Фёдоровича, разглядели! И на трон вознесли!.. Да и сечевики под Смоленском не все пошли за Посполитного короля! И не пол всех! И даже не четверть! – частя, гнал дед назревшую свару. – Верно говорю, браты запорожцы? Кажите ж: «Верно!» – раз дедко вас просит: я всех ваших атаманов повидал, деточки мои, всех!..
Раздайбеда, осушив самую великую баклагу, – как ни в чём не бывало, прогудел:
– Верно, дедко! Верная молвь твоя!
Тимофей словно только заметил скорлупу на ногах. Мягким движеньем, не глядя, смёл её на пол.
– То-то же! – торопясь, заключил Ларион, маша рукой над столом, будто мух разгонял, а на самом деле – чтоб сбить и спутать опасные казачьи гляделки. – И теперича нам заедино надобно про Крым мыслить, а не считаться!.. Православной веры – православного губить не должон! Ни сечевик – донца, ни московит – сечевика, ни сербин – сечевика, ни болгарин – греченина! А всех губителей православной веры – губить нам Господь повелел!
…безухий казак негаданно и сразу во весь голос затянул песню.
Поначалу перепугавшись, дед Ларион миг смотрел на безухого – и вдруг, вытягивая шею, запел сам. Не забыв при том подмигнуть белой лохматой бровью хозяйке – чтоб принесла ещё вина.
…погубивший несчётно душ человечьих, старик Черноярец, как бывало средь казаков, к старости стал мирителем и терпеливцем.
Всё божился уйти в монастырь, построенный казаками под Воронежем, где обитались теперь его односумы, – да при живой бабке было не с руки.
Половодье казаки звали – водополе.
…первая волна половодья в ту весну, как всегда бывало, затопила степи.
Оказался Черкасский городок на своём возвышении – посреди мутного моря, уходившего краями к самому небу.
Отца не было: Тимофей и Корнила со вверенными им казаками занимались сбором рыбы и мяса по всем казачьим городкам. Всё свозилось в новую казачью столицу – Азов-город. Пробыв в Черкасске день-два, уходили вверх по Дону, потом снова возвращались – но уже на нескольких стругах, полных съестного, распространяющего терпкий дух, запаса.
…вторая взломная волна надрала по всему дикому полю кустарник – и, утопив в ледяном крошеве, подвела к самым стенам городка. В ночи кусты трещали и, карябаясь, ползли на валы.
Третья, майская вода – её черкасские называли «московской» – оказалась много выше, чем во все прошлые годы, что застали братья Иван и Степан.
Той ночью их разбудила скотина, оравшая на базу.
Мать зажгла лучину.
По полу струились ручьи. Посреди ковра скопилась чёрная лужа.
…к утру воды в курене стало по колено. Печь залило.
Куры взлетали на стол, оттуда на печь, и на печи, тихо распушая волглые перья, вели себя смирно.
Коза стояла на полу, дрожа.
Иван глянул с печи – и решил:
– …умывать рожу способней. А как твой сом в курень заплывёт, Стёпка? Заглотит козу?
Мать, невзирая на холод, бродила, подоткнув подол, по воде, собирая плавающую утварь. Подхватила и без труда поставила козу на стол.
К поручням крыльца ещё вчера матерью привязан был каюк.
Мать сплавала до база и привезла сидевшую на крыше котюха собаку.
Каюк проходил сквозь двери куреня.
Собака забралась на стол к стоявшей там козе. Коза глядела на божницу и не шелохнулась.
Иван и Степан спустились с печи в каюк.
Толкнулись от печи в холодные сени и выплыли на улицу: ловить, что ещё не потонуло.
Весь Черкасск был полон небом. Посреди неба торчали трубы.
Неистово орали лягушки. К черкасским земляным валам плыла корова, и за ней, белой стаей, крича и размахивая крыльями, гуси.
На земляных валах жгли костры. Готовили харчи.
…сплываясь на каюках и долблёнках к стенам и башням городка на запах каши, казаки, не унывая, переругивались.
– Дед Ларион! – звал Черноярца Аляной. – Ты, никак, сызнова за зипунами?
Черноярец, степенный, сидел на носу, а гребла – как водится на каюках, одним веслом – его старуха.

