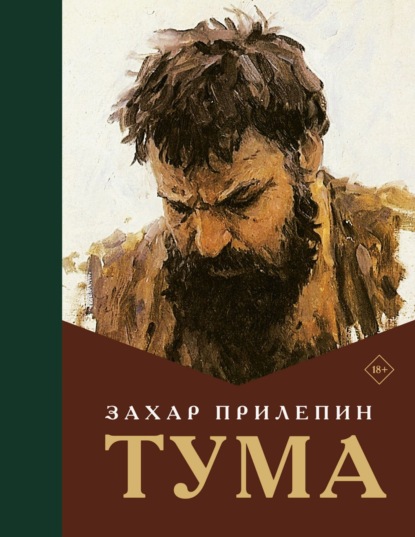
Полная версия:
Тума
Иван походил на крымскую или турскую родню матери. Степан – на отцовскую воронежскую: бабку Анюту и покойного деда Исайю. Сам он их никогда не видел, но так сказал отец.
Иногда мать молчала день за днём всю седмицу, и Степан верил, что мать онемела.
Трогал мать лишь интерес Степана к её прежней речи, и, говоря сыну, как раньше она называла коня, или своего родителя, или седло, или саблю, или солнце, или гуся, она будто бы возвращала своим воспоминаниям осязаемость.
– Ат, – говорила она, словно обретшая человечий язык птица. – Педер. Эйер. Кылич. Гунез. Каз.
…потом смолкала и отдалялась. Переставала отвечать Степану, словно обворованная.
И всё равно к шести годам он обучился не только называть зримое и на турском, и по-татарски, но и мыслить. Когда однажды рассмешил мать на её языке, она порывисто расцеловала его в лоб.
Чувствовал тот поцелуй ещё с час.
Называя всё, что видел, сначала на русский лад, а потом на материнский, – Степан вглядывался, как поведёт себя вещь: не изменит ли цвет или запах, не откажется ли повиноваться.
Но на всяком языке вещь оставалась сама собой.
Памятуя о деде, живущем в чужой земле, Степан порой поёживался, гадая – а как там у них всё уложено: не спутаны ли тьма и свет, смерть и жизнь, верх и низ?
…а вдруг ему придётся однажды раздуванить дедов дом и сгубить, не угадав в лицо, тех, кто дал свою кровь его матери?..
Потом поп Куприян сказал ему: вся его родня – здесь. Кто живёт без Христа – в родню не годится и для Бога бессмыслен.
Мать к черкасской часовне ходила одна, подгадывая свой приход в частые похороны: чтоб ни попа, ни дьячка в часовне не оказалось.
Смаличка Иван со Степаном ездили со взрослыми казаками на покосы.
Приглядывали за скотом, за иными, совсем малыми казачатами – те часто терялись в зарослях пырья, муравы, бурунчука.
Если в траву заходил бугай – мрели рога, а самого бугая было не углядеть.
Ворочали с братом длинными, не по росту, граблями пахучую скошенную траву. Сбивали стожки. Уложив те стожки на повозки, катили к своему, крытому чаканом, куреню.
Труды и промыслы вершили казаки с большим береженьем: с покоса, с рыбалки, с охоты людей воровали ногаи – и те пропадали навек.
Низовые казаки не владели степью, а жили на островках посреди реки, врывшись в мягкую землю.
В беспредельной степи чувствовали себя как звери.
В зиму полынили у станицы лёд – пробивая полыньи в три человечьих роста длиною, – чтоб не дать поганым, если объявятся, с разбега кинуться на городок.
Из ледяных глыб возводили завалы у стен. Отцы, детки, бабы – сообща городились от смерти.
Заботы те были сначала ознобными, а затем – потными, весёлыми.
Степан помнил, как, разгорячившись и подустав, лёг у полыньи и, прежде чем напиться, углядел своё раскачивающееся в чёрной, ледяной воде лицо. И тут же, в глубине, промельк серебряного хвоста… русалка?
…преодолев страх, ждал её, улыбался такому везенью.
Вода сначала кривила его улыбку, а потом стихла.
На затылок сыпал лёгкий снег. Со лба скатилась капля пота: пока ползла – была горяча, отпала – пристылой, а в реку капнула уже ледяной.
В курене иной раз нароком мешался отцу под ногами.
Отец едва касался его: чуть прихватывая за плечо или за шею, и тут же отпуская.
Если малолетний Степан попадался поперёк пути снова, Тимофей коротко, не матерно, бранился: матерная брань могла обратить казачка в нечистый дух.
Отец имел привычку говорить обрывистыми словами или их ломаными сочетаниями, смысла которых Степан сразу не мог разгадать.
– Сербит у тя? – спрашивал негромко, как бы и не у Степана.
Сербить значило: чесаться.
Казаки имели за правило не бить детей, но ставили в угол на соль и горох.
Ивашку наказывали чаще: он рос, как кудри его, непокорным и опрокудливым.
Куда бы Тимофей ни отъезжал, мать провожала его без слезы.
Когда отца не бывало подолгу, она оттаивала и становилась гуторливей, но говорила только на прежних своих наречиях.
Иван всё равно норовил отвечать по-русски, хотя Степан ведал о том, что и брат выучился понимать прошлую материнскую речь.
Так они и сообщались, как разные птицы на свой лад. Мать не сердилась на Ивана, и даже могла засмеяться – притом угадать, что́ показалось ей потешным, не получалось.
Встретив отца, она снова стихала.
Не сразу понимавший, как объяснить такую её повадку, Степан переспрашивал у матери на её языке за любое дело: убрать ли рыбу в ледник, можно ли собрать куриные яйца – несушки опять несутся где ни попадя, «…а как по-турски будет…», – тут однажды явился отец и произнёс куда больше слов подряд, чем все попривыкли.
– Опять… на её поганом языке… балякал? – спросил он у Степана, подходя в упор, но тот не сдвинулся с места; отец, вроде бы готовый столкнуть его с пути, вдруг раздумал и развернулся к матери. – Турчака растишь мне, косоглазая? Я те змеиные брови-то пополам… разрублю…
Лицо отцовское было тёсано сильными махами: нос, рот, лоб. Все углы виднелись чётко: бровь поднимал – и возникал угол, сжимал челюсть – и скула давала другой угол. Глаза – твёрдые, сухие, серые.
Отца при рождении Господь определил в казаки. Тимофей догадался о своей доле – и следовал ей как наказу.
Будучи казаком безусловным, отличался от иных собратьев многим.
Почти всякий казак врал развесисто и безбожно. Нехитрая лжа украшала казачий поход смерти в рот.
Отец же не врал вовсе, будто у него отсутствовало нехитрое умение к выдумке; так иные не могут плясать.
Тимофей умел слушать, но прислушивался не столько к словам других казаков, сколько к тому, что́ кружится над сказанным.
Если ж молчаливый отец говорил – слушали его.
Тимофей, как все казаки, пил хмельное, как все, становился шумным, когда пьян, – даже не в словах, а в движениях, – но ни разу так и не пропился до портов и креста, и не любил быть вдрызг дурным по много дней или недель кряду.
Он не казался слишком приветливым, не зазывал побратимов до куреня, – но, на удивление, многие казаки всё равно шли к нему.
Иван поделился однажды с братом: батька молчит – как говорит. То было правдой.
Отец не любил казачьих прибауток и дурачеств, однако сказанное им слово часто бывало занозистым и репеистым. Над словом его нельзя было сразу потешиться, но внутри оно несло самую суть – как желток в белке.
Сам он, в отличие от вечно ищущих повод пореготать казаков, смеялся редко и коротко.
Веселило отца то, что вроде поначалу и не казалось забавным, но вдруг обращалось в таковое: едва начавшаяся и ещё не различимая оплошность соседского казака, или повадки скота и птицы, в которых отец умел разглядеть и разум, и наглость, и похвальбу.
Всё впроброс сказанное им однажды – не забывалось сынами его: на покосе ли, на гульбе ли, на реке, – и в тот раз, когда отец впервые вложил в руки Степану завесную пищаль и велел:
– Стрель… в тот арбуз… а то он дражнится… Не топорщь локоть… раскрылился.
Видя, как отец ловко обращается с любым оружием, Степан спросил однажды:
– Тять, а тебя кто выучил? Дед Исайя?
Отец помолчал – и ответил отрывисто, словно недовольный:
– Матерня родня… выучила…
IVОчнулся в ночи, вдруг отчётливо расслышав голос стражника, сидевшего возле самой двери:
–Анам хаста. Анам тёшекте ята. Хардашларымдан бириси ярдыма кельмей. Амма биз эпимиз онын балалары, ялыныз мен дегилим. (Мать болеет. Мать лежит. Ни один брат не хочет помогать. А мы ведь все её дети, не я один. – тат.)
Ответа не прозвучало.
Стражник замолчал.
Вокруг стояла плотная, как вода на дне, тишь.
Битое тело его оставалось посреди вездесущей боли, как одинокое дерево в ледяное половодье. Знобило плоть, точило душу под самое основанье.
Он упрямо чуждался своей боли, как не к нему пришедшей.
Ненарочно, без усилия, понял о себе так: буду, пока я есть, а дальше – рассудят без меня. Смерть не явилась, и, бог весть, может, впереди ещё многие, как курлыкающие стаи, дни.
Медленно вдохнув во всю грудь, открыл прозревший глаз – и тут же ощутил, как дрогнуло веко второго.
…может, и тот, ежели откроется, прозреет?..
Вглядываясь, опознал, где под потолком оконце: тьма вокруг была мутно-чёрной, а там – почти синей.
Исхитрился рассмотреть одну, еле различимую, звезду. Звезда стояла ровно посреди окна, но натекающая слеза всё словно бы сдвигала звезду в сторону. Та скользила по небу, как по льду, слабо мигая.
Насухо протерев глаз, уставился в ставшую, наконец, на место своё звезду, и смотрел, смотрел, пока не заныло веко.
«Господи, смилуйся», – повторял без истовости, глядя в синий свет.
Серб и второй, лях, спали где-то поодаль.
Прислушиваясь, различал их дыхание.
В темнице могла б уместиться и дюжина полоняников.
Их, троих, держали здесь потому, что пока не собирались продавать.
Переломанный – кому он был нужен? Однако ж его не порешили сразу, не кинули в яму, – и в том таилась своя надежда.
Она согревала сердце.
До сих пор отчаянье не постигло его.
Он готов был улыбнуться тому, что по-прежнему дышит.
…и здесь осознал, что ему снова надо на лохань.
Повернулся набок, горько уверенный в том, что серб убрал поганое корыто в дальний угол, где оно и стояло. Успел огорчиться, что придётся его будить, звать, – и тут же рассмотрел в тёмно-синем свете: лохань здесь же, причём опустошённая. И рядом – он дотянулся рукой и убедился – кувшин с водой.
Преодолевая боль, зацепил кувшин своим одеревенелым пальцем, подтянул, стараясь не обронить, и, завалившись на спину, отпил.
…теперь надо было найти стену, чтоб опереться, чтоб суметь…
Долго ворочался, изнывая от муки, сопровождавшей всякое его шевеление.
Переломанная нога вгрызалась в него, как зверь.
Голова колокольно гудела.
Ныли поломанные рёбра и отбитые кишки.
Плоть отчаянно противилась ему.
…кусая раскровавившиеся, тонкокожие и шероховатые, как померанец, губы, всё-таки засунул лохань под себя.
…и потом, отирая себя соломой, ощущал себя победившим в схватке, где и святые отчаялись спасти его.
Лежал в приспущенных шароварах, согревшийся от усталости.
Видел в свете звезды ступни ног.
Одна нога лежала чужой, недвижимой. Штанину вздымала поломанная кость. Скоро та рана начнёт гнить.
На второй ноге весело, как скоморохи, шевелились пальцы.
…открыл глаза, а серб уже сидел подле, предовольный.
Солнце светило ему в затылок, и были видны на просвет распушившиеся, рано поседевшие волосы и соломины в них.
–Довешче ти видара (Лекаря приведут. – срб.), – серб часто моргал, будто переспрашивая: понимаешь ли? слышишь ли? – Мислили су да чеш издахнути – и дигли су руке. Али ускоро че ти дочи видар. Грк, добар видар. А слуга му е од Молдаваца, добар слуга. (Думали: ты умрёшь – и всё не вели. Но скоро лекарь явится к тебе. Грек – добрый лекарь. И служка его из молдаван, добрый служка. – срб.)
Степан, как зверь, задирая нос, принюхался: пахло съестным.
– Ево, еди, мораш да едэш (Вот, ешь, нужно есть… – срб.), – серб сунул ему в руку кусок лепёшки.
Встрепенувшись, вскочил – с ног посыпалось сено – и поспешил к тяжёлой двери. Уперевшись ладонями, потряс ей, и тут же, прижав лицо к самому косяку, скороговоркой, на дурном турском языке, затараторил.
Ему нехотя, растягивая слова, отвечали, как отвечают, изготавливаясь вдруг заорать, – но серб не пугался, и продолжал твердить своё.
Недолго спустя загрохотала цепь с той стороны. Сербу сунули в руки плошку.
Степан по крошке втягивал на язык данный ему хлеб, но успел разглядеть: дверь – в четыре доски, с железным засовом. Открывалась наружу. Значит, той дверью можно ударить стражника в лоб.
…в плошке, принесённой сербом, лежали две неочищенные луковицы и холодное баранье ребро.
Запахло так, что у Степана перехватило дыханье.
…серб сидел подле, ломая луковицу на малые кусочки и подкладывая их в плошку, лежащую на груди Степана.
Луковичные крохи Степан клал себе на язык. Спихивал на зубы. Давил из них сок, мешавшийся с размокшей во рту лепёшкой и лепестками мяса.
…снова положив ребро на губы, неспешно рассасывал его, придерживая неумелой ещё рукой.
В груди растекалась тишайшая благость.
– Азов? – Степан медленно кивнул в сторону окошка. – Аздак?
–Како? (Как? – срб.) – переспросил, задирая тонкие брови, серб, и глубокие морщины на его лице тоже ушли вверх – А!.. Тако. Град Азак. Био си овде? (А!.. Так. Азак-город. Ты был здесь? – срб.)
Степан задрал край плошки, глядя, сколько ещё осталось луковичного крошева. Ничего не ответил.
Серба молчанье Степана нисколько не обидело.
…он ещё обсасывал совсем уже белую кость, когда вошёл лекарь: ссутуленный, в широкополой шляпе, грек. Чёрные его глаза смотрели устало и блёкло.
Сразу поднявшийся Стеван, часто кланяясь, уступил ему место.
Не глянув на серба, грек присел.
Тут же, торопясь, с коробом на боку явился его молодой, смуглый служка, по виду – из молдаван. Худощавый, с тёмной, в сливовый цвет щетиной.
В коробе лежали, топорщась в стороны, пучки трав, перезвякивали многочисленные склянки с мазями и отварами. Запах от короба шёл настолько сильный, что перебивал здешний смрад.
Серб, ничем не смущаясь, всё стоял за спиной у грека, то заглядывая в короб молдаванина, то, повеселев, кивая Степану: тебя поправят, казак!
Грек, не оглядываясь, показал сербу рукой: уйди, от тебя тень.
Кисти его были тёмными, с поношенной, дряблой кожей, а ногти – длинными.
Немилосердно он мял голову, шею, грудь, бока Степану. Кривил губы, ломая их не надвое, а натрое, как волну.
Не оглядываясь, махнул рукой служке. Тот достал нож.
На Степане разрезали рубаху и шаровары. Он стал наг.
Вонючую рвань его грек брезгливо отбросил ногой.
Тело Степана было покрыто многими ссадинами. Из многочисленных ран на ногах и на боку подтекало. Где-то кожа синела, где-то подтёки оказались тёмными до черноты. Надрывно белела вылезшая из плоти кость сломанной ноги. Топорщилась кость грудины.
Он был как ящерица, которую переехало колесо.
…принесли и воткнули над изголовьем Степана смоляной факел.
Подивился, сколь гадок он при лохмато трепещущем пламени.
Молдаванин напоил из кружки горьким отваром.
Завалили на бок.
Сырой тряпкой молдаванин отёр ему голову, грудь, спину, зад, ноги.
Долго смазывали драные раны и синяки.
Он понимал каждое слово, что бросал лекарь служке:
–Липос хинас… холи… охи афти… нэ… (Гусиное сало… желчь… не ту… – греческий.)
…обстригли грязные, слипшиеся волосы на голове.
Затем грек долго, порой касаясь щеки и лба Степана длинным усом, мял ему виски, темя, затылок.
…дали в зубы жгут.
– Ми м’энохлис… (Не мешай… – греч.) – сказал грек, всё так же не глядя на Степана. – Мэ каталавэнис? (Понимаешь меня? – греч.)
Молдаванин упёрся Степану в плечи, нависнув над ним.
Грек, помяв недвижимую Степанову руку, вдруг вправил её одним рывком. Молдаванин, озирая стену перед собой, жевал и улыбался.
Степан глядел ему в подбородок, в ленивой истоме заметив: нет гайтана на шее.
«…оттого, что побасурманился малый», – ответил сам себе.
…теперь грек, сделав разрез на сломанной ноге, лазил внутри плоти тонкими пальцами.
Серб, вставший с другой стороны, хмурился и, вздымая брови, ошарашенно вглядывался в Степана.
Подолгу сдерживая дыхание, Степан выдыхал через нос. Время от времени сильно жмурился.
Грек прогонял его боль. Происходившую с ним муку Степан считал наказаньем не себе, а самой боли, которую травили, как зверя.
Наконец, поняв, как собрать перелом, и враз обильно вспотев, грек поставил кость на место.
…липкий от духоты молдаванин вглядывался в Степана: в сознании ли тот…
Степан сплюнул жгут и терпел так.
На сломанной ноге сделали перевязку – мягкая, пока заматывали ногу, она тут же каменела.
Следом ловко поставили крепёж: две струганные крепкие палки, жёстко связанные тонкой бечевой.
…закрыв глаза, грек, стоя, с минуту отдыхал.
Снял шляпу – и, не желая бросать её на сено, надел на тут же приклонившего голову простоволосого молдаванина.
Грек оказался лысым: волосы росли только за ушами и на затылке. Лысина его была как бы в чёрной крупе. На макушке росли несколько длинных волос.
Степана усадили.
Будто кукле, грек впихнул ему в зубы несколько зёрен. Ещё полгорсти пересыпал Степану в ладонь.
То был гашиш.
Не дожидаясь, когда невольник начнёт жевать, грек принял от молдаванина иглу и, заметно уставший, начал зашивать разбитую голову Степана, шумно дыша через нос.
Перемазав снадобьями, голову крепко перевязали.
Затем грек зашил ему бок, плечо, живот, бедро.
Торчащие нитки посыпа́ли едкой мукой.
Сняв с молдаванина шляпу, грек обмахнул себя ей несколько раз и вернул себе на голову.
–Ферте то афепсима! (Принеси отвар! – греч.) – велел служке.
…молдаванин вернулся с кувшином и поставил Степану на грудь.
Степан расслышал запах – и сразу же, уперевшись на локоть, пригубил.
– О Тэос на сэ филай, калэ му Эллина! (Спаси тебя Господь, добрый грек! – греч.) – сказал, облизываясь.
…грек уже выходил и, поправляя шляпу, не обернулся.
На ногах его были сандалии. Одну, сползшую, он ловил ногою, усаживая, как следует.
Штаны у грека были короткие, а ноги – в густом поседевшем волосе и худые.
…днём его снова мутило, бросая то в жар, то в озноб.
Изводила сломанная нога. Тошнотворно кружилась голова. Чесались подшитые бока. В ноздри и в уши лезла мошкара. Раны облепляли мухи.
…в кувшине был маслак: отвар сухих листьев конопли.
Изредка отпивая по глотку, Степан еле-еле забылся к полуночи.
Караульные во дворе каждый час били в барабан.
Раздавался крик:
–Каравыл! (Стража! – тат.)
–Дестур! (Внимание! – тат.) – кричали в ответ.
…очнувшийся в ночи Степан отчётливо слышал, как ночной янычарский караул разговаривает через ворота с тюремной стражей.
На янычар лаяла собака. Её отгоняли.
…проснулся – засветло, от крика муэдзина.
Муэдзину отзывались азовские петухи.
За ночь смрад осел.
Принесло новые запахи: горячих лепёшек, поднятой первой повозкой пыли, кальянного дыма, кофе, конюшен.
…отвлекая себя от зуда и головокруженья, Степан теребил свой заплывший глаз, на ощупь пытаясь осознать, где бровь, где глазница.
Поддев мизинцем, натянул, претерпевая рассыпающиеся всполохи боли, веко – и в образовавшуюся щёлку, сквозь колтун слипшихся ресниц, разглядел вторым глазом сначала заплесневелую стену напротив, а затем, ища свет, – трепетанье смоляного факела в щели над дверью.
Вслух засмеялся: одна рука, одна нога, полтора глаза – тряпичная кукла! И ничего ж: дышит, мыслит, зрит.
Кормили хилой овощной похлёбкой с очистками.
Лях ругался на кухарей, приносивших кормёжку, требуя иных угощений.
–Дьябэльские помёты! Подайче менса! (Чёртовы дети! Подайте мяса! – пол.)
Те, оставив корзину с битыми яблоками и подгнившими луковицами, молча уходили.
У ляха того был свой, за выступом, угол.
Разминая кости, лях вышел оттуда и встав напротив; разглядывал, будто на торгу, Степана.
Русые волосы ляха были расчёсаны гребнем. Голову он имел, как дыню, вытянутую. Глаза его казались как бы вдавленными и смотрели борзостно.
Белый атласный жупан, хоть и драный, выдавал в нём шляхетское происхожденье. Роста он был малого, но держался так самоуверенно и прямо, что выглядел высоким.
Степан не стал играться с ляхом в гляделки – и сразу смежил очи.
Лях цыкнул и отошёл.
Серб старался Степана не беспокоить: сидел, навалив соломы под спину, у другой стены. С хрустом чесал бороду. Размахивая руками и шёпотом ругаясь по-сербски, отгонял мух.
Время от времени как бы случайно оглядывал Степана – и, если тот отзывался на взгляд, торопился пересесть ближе, предлагая наполнить его кувшин водой или поспособствовать чем иным.
Степана едва хватало на слово-другое – и он тут же начинал задыхаться. Долго потом кашлял, глядя на ногу и опасаясь, как бы тряска не разломила её заново, как бы не поползли многие его швы.
…показывал сербу: тяжело, прости.
…завалившись на бок, отхаркивался – и всё не мог отплеваться.
Успокоившись, ложился на спину и слушал свою кровь, то бьющуюся в больной глаз, то колобродящую вкруг сломанных костей.
VВ тот год к отцу Тимофею явились его побратимы с запорогов – сечевики, запорожцы, бритые наголо, с въевшейся в головы несмываемой степной и пороховой пылью. С голов свисали длинные оселедцы, оттого звали на Дону их хохлачами.
Бороды у них, в отличие от донцев, были бриты.
Широко, троеперстно, крестились, на миг примёрзнув взглядом к Богоматери, и тут же принюхиваясь к столу, где стояли два длинных блюда – с холодцом и квашеной капустой. Вокруг них вперемешку толпились разной величины тарелки, полные солений, и малые – под мёд, вино, пиво – деревянные баклаги.
Собинные дружки, поскидывав кожухи или чёрные чумарки, оставались в грязно-белых или рыжеватых вышиванках, заправленных в шаровары. К шароварам были пришиты кожаные кобуры. Из кобур торчали пистоли.
Пищали и мушкеты оставляли в углах куреня.
– Шляхетно зажил, Тимоха! – обнимая хозяина, ревел рукастый, щедро слепленный, с чёрной щетиной, с круглыми, как азовские орехи, глазами. Он притоптывал сафьяновым сапогом превеликого размера так, словно слышал песню.
– А ты измождал, Дёма, – без смеха в голосе отвечал Тимофей, редко, но звучно охлопывая огромного сечевика; чёрный полукунтуш от каждого удара вспыхивал пылью.
Прозванье того Демьяна было – Раздайбеда.
Вокруг его багрового с мороза уха был обёрнут трижды оселедец.
– Та ж зима, Тимоха, – хохотнул вошедший и тут же сам себя перебил, заметив явившуюся с очередным подносом пирогов хозяйскую жену. – Дивовысько яке! Султана!.. Лягу у тебя, Тимох? Может, и мне невеста приснится? – голые щёки его мясисто сплясали от хохота; рот был полон крупных, как головки чеснока, зубов.
Многое хохлачи называли на свой лад, и округлость их языка щекотала слух. Балагурили, бесстыдно бранились. Звали себя – лыцари. Отряд свой – батавой. Сообща всех сечевиков – товариство. Господа поминали: Пане Боже.
Пили хмельного больше и жаднее донцев. К еде и вовсе были ненасытны.
– Не ради пьянства, а за-ради духовного братства, – выкрикивали, стуча баклагами.
По оттаявшим головам их тёк от усердия пот.
– Двинем до Азова? – спросил Демьян Раздайбеда у Тимофея, выпив и отерев огромной рукой рот.
Тут же сидели два отцовских товарища: живущий в соседском курене Трифон Вяткин, чернявый, с головой, будто вбитой в тело, и лбом, заросшим волосом едва не до бровей, и крепкий дружок Васька Аляной, белобрысый, с криво постриженной, редкой бородою, непрестанно менявший жён, имевший привычку произносить по делу и без дела: «Акуля, что шьёшь не оттуля?». Иной раз он резал свою поговорку, произнося лишь, то задумчиво, а то и ругательно, нараспев: «Аку-у-уля…».
Раздайбеда, не дождавшись ответа, перевёл взгляд на Ваську.
Аляной сказал таинственно:
– Аку-у-уля… – но тут же, хмуря редкие, словно выгоревшие брови, спросил про любопытное ему: – Хохлачи, сказывают, опять атамана поменяли?
– Которого? – спросил Раздайбеда.
– Да я и прежнего запамятовал…
– Нонешний – славный козачина, – добродушно сказал Раздайбеда. – Не то прежний. Задушили его, бисову душу.
Васька согласно и всерьёз кивал, хотя знавшие его могли разглядеть: он дурачится.
…нашумевшись, сечевики возвращались к основному, пытая донцев за скорый поход, о котором прослышали.
– Круг ещё не сказал… Как круг порешит, – глушил их интерес Вяткин, несогласно качая головой, и тут же громко вопрошал: – Сколь нынче в Азове башен, кто посчитал?
Спрашивая, он топырил обе пятерни, как бы показывая тем самым множество башен; но на левой его руке недоставало двух, косо срезанных пальцев.
Глядел он при том не на сечевиков, а на Ваську Аляного, сидящего напротив.
– Я в счёте слаб, Трифон, – всерьёз отвечал Аляной. – Сказывали, одиннадцать. То, должно, возле десяти: как у тя пальцев.
Сечевики загрохотали: как яблоню со спелыми яблоками протрясли.
– Азов-город – одиннадцатибашенный, – гудел, супя брови, Трифон, на потеху не отвечая, но и не сердясь. – И азовцев там боле, чем всех донцев в городках наших…
– А с хохлачами? – не соглашался Аляной; бледно-голубые глаза его по-прежнему смеялись, но губы были строги, и даже борода торчала вопрошающе.

