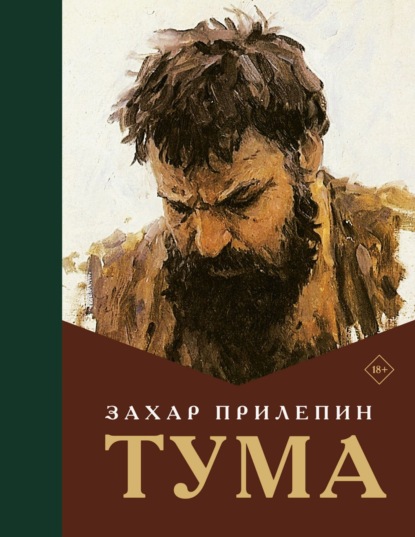
Полная версия:
Тума
Вяткин вместо ответа поискал в ближайшей плошке солёный огурец; нашёл огрызок и безгребостно съел.
– …так мы ж не все одиннадцать будем брать, Трифон, – примирительно уговаривал его Аляной. – Одну возьмём, и станем с азовцами соседи.
Трифон снова, нарочито недовольный, загудел своё:
– У азовцев – с двести пушек. А мы и ста не наберём. За Азовом лежит всё Крымско ханство, а наш всеблагий царь-государь – он за кем? За кем, говорю?
Вяткин, как и Аляной, забавлялся, но хохлачи верили в их препирания.
– Батюшка наш милостивец? – переспрашивал Аляной. – За царицей, так мыслю.
Вяткин, махнув с досадой беспалой рукою, повернулся к Демьяну:
– За Крымским ханством и турское войско, коего тьма, и большая, и малая ногайские орды – они ноне служат крымскому хану. Ну?.. Вы с ими не замирились, сечевики, с ногаями?
– Мы с ыми заругались, – Раздайбеда легко ткнул Трифона в плечо и снова захохотал, тараща круглые глаза.
– Ты б не стращал гостей, – просил Аляной Трифона. – А то сечевики развернутся и намётом до самых запорогов пойдут.
Сечевики снова реготали, расплёвывая харчи. Они не пугались ничего на свете.
Не дозволяя себе и малой ухмылки, Васька Аляной твердил Вяткину:
– А как возьмём Азов – государь наш батюшка оправдает нас и наградит. Потому как: куда поганые ведут полон со всех украин? В Азов-город. Где поганые торгуют православными людишками государя нашего и короля посполитного? В Азове-городе. Где торг идёт всеми святыми, и окладами с их икон, что посдирали в церквах наших? В том же собачьем месте! Наградит, говорю, а то и сам приедя…
– С жонкой-царицею… – вдруг согласился Трифон.
Иван и Степан слушали с печи казачьи пренья.
Иван так и заснул, свесив, как грушу, голову. Степан потянул его за рубаху в обрат, но уронил набитую гороховой соломой подушку, которую, не глядя, откуда она взялась, обнял спавший уже хохлач.
Наевшиеся сечевики ложились на пол, укладывая под головы сёдла. Лёжа, продолжали встревать в перепалки за столом; но вскоре храпели так, что дрожало под божницей пламя, играя на бураковых лицах тех, кто продолжал вечерять.
Лампады трещали: в курене от многолюдия становилось жарко.
Отец и несколько самых говорливых сечевиков то ли ложились почивать, то ли вовсе нет. Ночью Степан, сдвигая Ивановы колени, упиравшиеся ему в бок, услышал, что теперь они говорят смуро, глухо, рисуя на столе гнутыми пальцами.
– Подымайтесь, абреутни… – будил нескольких, всё ещё лежавших на полу сечевиков отец.
Мать, легко и равнодушно переступая через ноги, накрывала утренний стол.
В курень уже входили, кланяясь, но не крестясь, новые гости.
– Татарове… – прошептал Иван, больно пихнув всё ещё раздирающего глаза Степана. – Астраханские… Заедино с нами пойдут имать Азов-город. Как выходил на зорьке – стояли уж у плетня.
Тимофей пригласил гостей за стол.
Круглолицые татары – в тёплых халатах, в жёлтых сапогах, в четырёхклинных стёганых буреках – вели себя с большим достоинством.
Одному из татар мать, будто по незнанью, придвинула нарезанное на доске сало. Запорожцы, чтоб не обидеть гостей, не смеялись, лишь играя повеселевшими глазами; один даже замахнулся, чтобы хлопнуть мать по боку, – но, взглянув на Тимофея, раздумал.
Смотреть на женщину татары избегали: их жёны никогда не являлись гостям.
Говорили татары мало; больше слушали. Когда говорили – Степан понимал их.
– Русский царь – добрый царь, – сказал их старшак. –Урус чары ичюн Азавны алсак – Азавдаки ат базарында Ас-Тархан алыш-вериш эте билир! (Возьмём Азов для русского царя – Астрахань будет торговать конями в Азове! – тат.)
Пробыли недолго.
…скоро и сечевики стали собираться.
Степана снова поразили их персидские шёлковые, невиданной длины узорчатые пояса с разноцветной бахромой и шаровидными кистями на свисающих концах. Поясами этими, казалось, можно было два раза обернуть часовню. В шаровары же – спрятать козу или собаку.
У Раздайбеды висели на поясе: фляга, пороховница, мешочек для пуль, трубка, кисет, кинжал в изукрашенных ножнах – всё хотелось потрогать, сравнить с тем, что было у донцев, у отца.
Совсем молодой, улыбчивый, зеленоглазый, пригожий сечевик Боба, с нарочно выпущенным из-под сивой смушковой шапки оселедцем, закрывавшим почти пол-лица, подмигнул Степану, даря ему шахматную фигурку – воина с копьём.
– Я наигрался, дядько, – сказал.
Но, чтоб не обидеть малолетку таким подарком – будто и не казак перед ним, – тут же спросил:
– А твоё ружьё – какое, где? Гляну?
Степану в тот год было семь. Ивану – восемь.
…спустя день казаки грузились на струги.
В недалёкой от Черкасска казачьей столице – Монастырском Яру – созывался войсковой круг.
Одни уходили конными, другие, безлошадные, на каюках и стругах.
Весенний Дон тёк с ледяными всхлипами. Небо гнало к морю тяжёлые и грязные, в собачьей шерсти, облака. Река обгоняла небо.
Иван и Стёпка в толпе иных казачков вертелись меж отцов и старших братьев. Завидовали тем малолеткам, что по возрасту были допущены к войсковому кругу.
Степан, нарвав кленовых почек, тёр их в ладонях; кружило голову.
То и дело, не причаливая, проходили струги с верховых городков. Опознавая знакомцев, казаки с берега кричали, разевая чёрные галочьи рты.
…как последний струг отчалил, стало на удивленье тихо: только степной ветер, только бурливый ток ручьёв и шум в протоках.
Степан так и не ушёл с берега.
Привычный к чувству голода, дождался, когда в начинающемся сумраке явилась первая лодка, торопившаяся в свою верховую станицу.
Неспешно вышел на берег, глубоко вонзая ясеневый посох в хрусткую землю, дед Ларион Черноярец.
– …на кругу положили идти, дедко! – крикнули с лодки. – Слава Господу Иисусу!
– …на Азов – прямым приступом… – сказал сам себе дед Ларион.
Опершись подмышкой на посох, стал выбивать трубку, стуча по руке, как по деревянной:
– …а как пошёл бы казакам свой каменный город: у самого моря. Хошь, в Кафу иди. Пожелаешь – в Царьград.
…потные, уже отрешённые от жизни казаки грузили струги: ядра, порох, смолу, вяленое мясо, рыбу, связки лука и чеснока, сухари, кузнечные снасти, лопаты, топоры, кирки, разобранные лестницы…
Выгребали весь запас.
Стаскивали с черкасских стен пушечки.
Иван со Степаном, как и прочие малолетки, трудились, тягая, в надрыве, с казаками наравне.
Вываривали вёсла в масле. Конопатили днища и борта стругов.
От всех разило дымом, как от чертей. Перемазались в дёгте.
Смердело варом.
Резали камыш и, спеленав в снопы вишнёвым лыком и боярышником, крепили к бортам.
Струги пахли ивой.
Умелые и строгие казацкие жёнки кашеварили, но матери среди них не было.
С верховых городков до самой ночи подходили судна уже с готовыми, собранными, вооружёнными казаками. Торчали пики, пищали, луки.
Казаки были в крепко перешитом, но старом, неярких цветов платье.
Их тут же, у причала, кормили варёным, с луком, мясом.
Бегал от причала до войсковой площади и обратно поп Куприян – рыжебородый, с рыжими ресницами, и сам весь – будто в лёгкой рыжей дымке. Не было ни одного казака, которого он бы не перекрестил трижды.
Где-то поодаль лилась, затихая и вновь возникая, тягучая песня: «…ай, ну, поедемтя мы, братцы… на охо… на охотушку…».
Звёздный свет был зеленоват.
В факельных сполохах лица казаков казались скорбными.
Меж лиц струился еле слышный, чистый запах смерти.
Заслышав тот запах, в самый чёрный предутренний час выходили на тот берег неотпетые, могил не имевшие, навсегда утерянные казаки.
Головы их были дырявы насквозь, лоскуты сгнивших одежд трепетали.
Аляной, высоко подняв смоляной факел, крикнул, вглядываясь:
– Дядька Исай, ты?..
Задул ветер – у ближнего сорвало с костей драную рубаху, понесло во тьму, пугая волков.
На одиннадцатый после Войскового круга день, помолившись и коротко, без мёда-вина отпировав, казаки конными и судами ушли на закате к Азову.
Остался вытоптанный берег.
В отцовской походной торбе лежали шаровары да сорочка, просусленные дёгтем, и запас харчей.
Иван со Степаном с первого света до чёрной тьмы то бегали к парому, то ходили на валы, внимая степи и воде. Услышать отсюда ничего не смог бы и зверь.
…две ночи спустя, до полудня, вестовые крикнули, что идут струги.
Возвращали с азовских приступов раненых и побитых.
Малолетки, жёнки, старики, крестясь, толпились у берега.
Какая-то баба раньше срока, провидев беду заранее, тонко завыла. Дед Ларион ударил ей посохом по спине. Казачка охнула, открыв рот. Нитка слюны протянулась от губы до губы.
Самая больная жилка у Степана тонко дрожала внутри, как леса.
Иван, ставший в стороне, с остервенением бросал в воду ледяной грязью.
Первый струг ткнулся в причал; полетели с носа верёвки.
Степан неотрывно смотрел на раненого казака, свесившего с борта остаток руки. Из рукава торчали распушившиеся как сырой веник жилы. С них подтекало и капало в воду.
Надрывно пахло плотью. Раненные кто в грудь, кто в спину, кто в ноги – лежали вповалку.
Были поломанные до торчащих, как коряги, наружу костей.
У одного рука завернулась калачом, как у тряпичной игрушки.
Были лишившиеся куска мяса на боку.
Были безглазые, безухие, с пробитыми щеками, с проломанным теменем.
У другого ноздри расползлись в разные стороны, и мелкие битые косточки торчали, как рыбьи позвонки.
Были резаные, посечённые, проколотые, ошпаренные и обожжённые до кожного оползня.
Торчали бороды колтунами. Грязно дыбилась одежда.
Стонали лежавшие в забытьи, но остававшиеся в рассудке – безжалобно крепились.
Казаков, бережно вынося, грузили в подводы.
Один держал у груди срубленную свою руку; выронил в воду, заругался, чтоб достали.
…развозили битых по куреням и землянкам. Кони прядали ушами и, подрагивая, косились…
…следом подошедший струг, будто плавучая мясная лавка, оказался полон мертвецами.
Тут были разрубленные до полтулова и наспех перевязанные поперёк верёвкой, чтоб не развалились совсем.
Были убитые в сердце, в лоб, в брюхо.
Намертво налипли к бортам и рёбрам стругов спутанные сгустки кишок.
На дне струга, будто в похлёбке, плавали в кровавой жиже лохмотья кожи, требуха, белеющие персты.
…побросали всё рыбам.
Старший внук деда Лариона Черноярца вернулся короток – оттого, что лишился ног и задницы. Сам же – с распахнутым и отвердевшим ртом – глядел ликующе.
Дед без удивления сказал:
– Не то, унучек, ножки сами дойдут?..
Тимофея не оказалось ни на первом, ни на втором струге.
Степан побежал к матери – сказать.
Не застав её в доме, кинулся, слетев по ступеням, на баз, и едва, с разбегу, успел встать возле котуха, поражённый: мать тихо пела по-турски – то ли козе, то ли самой себе.
VI…снова накатывала дурнота. Череп, едва сдерживая свинцово разбухающую кровь, трещал. В лоб влипло копыто.
Не мог уже лежать на спине – изводил кашель, а улечься на живот со всеми переломами своими был не в силах.
Затёкший глаз, словно птенец в яйце, ворочался, и будто даже пищал: отдавалось в ухо.
Степан открывал рот и дышал, дышал, набираясь воздуха, – пока не высыхала, словно песком присыпанная, гортань.
Иной раз, надышавшись до пьяного головокружения, ощущал краткое облегченье, но тут же накатывало снова: тошнота, жажда, ломота.
Озноб сменял жар, а посреди жара вдруг становилось предсмертно мёрзло, тоскливо.
…смотрел, задирая голову в оконный проём: может, прилетела смерть, сидит, смотрит.
…подозвать, что ли, как кошку, чтоб забрала, избавила?..
Но на всякую ночь – неизбежное, являлось утро.
…лях негромко пел:
– Щеджи собе зайонц под медзом, под медзом… (Сидит себе заяц под межой, под межой… – пол.)
Словно забывшись, что не один, тянул:
– …а мыщливи о ним не ведзом, не ведзом… (…а охотники о нём не знают, не знают… – пол.)
Голос его улыбался – лях вспомнил о чём-то, развеселившем его.
–По кнеи щеу розбегали… (По лесу разбежались… – пол.) – пропел он ещё громче, и здесь задумался.
Продолжил уже шёпотом, но Степан, в голос, ему подпел:
–Абы шарака схвытали фортэлем, фортэлем! (Чтобы серого поймать обманом, обманом! – пол.)
Лях осёкся. Недвижимый, раздумывал: послышалось или нет.
Рывком встав, выглянул.
Степан лежал, закрыв глаза.
Выждав, строгий лях исчез в своём углу.
Серб, вороша вокруг себя сено, тихо засмеялся, поглядывая на Степана.
Спустя минуту, обхватив колени и раскачиваясь, красиво запел:
–Рано рани, у нэдзелю младу… Рано рани, да ловак улови… уловио змию шестокрилу. (Встаёт рано поутру, в первое воскресенье после новолуния… Встаёт рано, чтобы поохотиться… поймал змею шестикрылую. – срб.)
Покопошившись в своей растрёпанной корзинке, серб извлёк вяленого леща и пересел к Степану.
Тот открыл, насколько смог, глаза.
–Молдавац е то пренэо од видара, доброг Грка! (Молдаванин передал от лекаря, доброго грека! – срб.) – поделился серб; морщины на его лице дрожали, как паутина на ветру.
Потряс лещом, как бы спрашивая: «…разделаю, брат мой? угостишься?..».
Степан согласно качнул грязной бородой.
Серб затрещал рыбой. Терпко пахну́ло.
Первый, с позвонков сорванный кус серб дал Степану.
Лещ был масляный, томящий душу.
…медленно жевал, чувствуя, что пережёвывает саму боль свою.
…сглодали всю рыбу. Лещиные глаза высосали насухо. Плавники погрызли.
…пока ели, не сказали ни слова друг другу.
Вытерев руки и рот соломой, Степан пропел, глядя на серба:
–Уловио змију шестокрилу – од шест крила, од четири главе!.. (Поймал змею шестикрылую – с шестью крыльями, с четырьмя головами!.. – срб.)
Кинул предпоследнее зёрнышко гашиша под язык. Последнее предложил сербу.
Тот, улыбаясь, сказал:
– Нэчу, ёк. Твое е. (Нет, нет. Твоё. – срб.)
Протянул Степану кувшин с водой.
…на рассвете выползали, обнюхиваясь, выкатив бесстыжие бусины глаз, крысы. Возились со вчерашними рыбьими костями.
Самая крупная – крысиная, казалось, мать – недвижимо сидела в углу.
Уползала последней, с нарочитой неспешностью.
…трогал голову, замечая, что отёк становится меньше, а второе веко, если ему помогать пальцами, раскрывается почти целиком.
…двигаясь мал-помалу, нагрёб под себя сена, и всё-таки завалился на живот. Такая явилась благость, что тихо застонал.
…с тех пор откашливаться получалось проще.
Обмывая раны, приметил, что не гниёт.
Дышалось день ото дня легче.
Но битые неходячие ноги худели, обвисая по-стариковски вялою кожей.
Мужское его естество умалилось, как у юного, а цветом – потемнело. По утрам не мог толком разобрать, чем помочиться: из жалкого комка вдруг выбивалась в сторону порывистая младенческая струйка.
…раз приспособился, и, цепляясь за стену, вытянул себя, встал на одну ногу. Немного, терпя головокруженье, постоял.
…подбежал серб, помог присесть – а то так и упал бы.
В полдень пришёл грек.
Молдавский служка бросил Степану стираную рубаху и широченные запорожские шаровары, чтоб возможно было надеть поверх деревянных крепежей. Сапог не принёс.
…а лепые были сапоги у него в тот самый день! С узором на голенище: птичий хвост.
Червчатые – такие любили хохлачи, дончаки же чаще носили чёрные. Но Степану нравились в цвет руды.
…из Степана повытянули все нитки, коими прошили его.
Грек, ломая губы натрое, нависая с присвистом сипящим носом, долго мял ему поломанную ногу.
…оставил мазь, сильно ткнув пальцем в лоб: мажь голову.
«…скупой на молвь», – подумал Степан, глядя вослед уходящему лекарю и служке.
Молдаванин был в старых телячьих туфлях, а лекарь сменил сандалии на мягкие бабуши.
…поднёс плошку с мазью к лицу, понюхал; пахло многими неразборчивыми перетёртыми травками.
VII– А-а-а-азов па-а-а-а-ал!.. – надрывались вестовые, проносясь по черкасским улочкам. – А-а-а-азов пору-у-у-ушен!..
Колокол непрестанно гудел, будто бы возносясь с каждым ударом всё выше.
Собаки неистово лаяли в ответ, словно бы тот гул был зримым и пролетал над куренями. Скотина ревела, как непоеная.
То там, то здесь стреляли, хотя стрельба в городке была под строгим запретом.
Овдовевшие казачки глядели из-за плетней на чужое веселье.
Степан, заслышав на базу кудахтанье и петушиный клёкот, поспешил туда – ласка забралась или дикий кот? – и увидел разом, в один взгляд: сидящую возле чурбака мать с топором в руке, жалкую куриную голову на чурбаке – и безголовую курицу, бегущую прочь.
Мать срубила птице голову сама – то был грех и для казачки, и для татарки.
Подняв глаза на Степана, она в кои-то веки пояснила по-русски, без улыбки, выговаривая каждое слово так, словно оно могло поранить острым краем рот:
– Отцу – на стол. Встречать его.
Два онемелых петуха сидели на горотьбе, взмахивая крыльями и не слетая, словно вокруг была вода.
Петухов у казаков всегда было почти столько же, сколько кур. Петухи заменяли им часы.
Отец вернулся на другой день.
Дувана привёз – целый воз.
Одной посуды – два мешка: даже если всякое утро пить-есть из новой, она б и месяц не закончилась. Три мешка бабьих нарядов. Турский кафтанчик для Ивана, сапожки для Степана. Полный, горластый кувшин колотого серебра. Подушек столько, что завалили ими всю лежанку на печи. Дюжину ковров.
Последний занесённый ковёр батька, лениво катнув ногой, тут же, в горнице, и расстелил. Вышитый головокружительными узорами, ковёр пушился, дышал и переливался, как зверь.
…и ещё отец добыл часы.
Часы те стоили дороже самой дорогой ясырки, трёх здоровых рабов, пяти ногайских коней.
Сапожки, привезённые отцом из Азова, были с каблучками, червчатые, остроносые.
Выждав, Степан спросил у отца: а можно ли?
Никогда ничего не жалевший и не хранивший, тот качнул вверх указательным и средним пальцами: бери.
Сидевший в курене Аляной присвистнул завистливо:
– Эх, Стёпка… – и потряс кулаком, наставляя на добрую прогулку.
Поспешая, Степан выбежал на улицу, чтоб не уткнуться в насмешливого Ивана.
Остановился только поодаль куреня, вжавшись в шумные заросли плюща. Сердце билось вперебой.
Опустил взгляд. Сапожки преобразили белый свет.
Сделал шаг: разбухшая на тёплых дождях трава приникла.
Пёс, желавший залаять на него, поперхнулся.
Степан взобрался, зачарованно слушая свой топоток, по лесенке на мостки и пошагал самым длинным путём – по сходящимся и расходящимся чрез протоки переходам – к Дону. Мостки те в потешку именовались пережабины. Вослед завистливо орали лягвы.
Если встречь шли казаки, Степан останавливался, прижимаясь к поручням, и снимал шапку.
Баба казака Миная – семью их звали Минаевы – ещё издалека начала приглядываться, и за два шага до Степана остановилась.
– Ой, – протянула. – Экий султанчик!
Когда достаточно с ней разошлись, Степан, не сдержавшись, засмеялся.
Выйдя к Дону, сразу же зашёл по расползающемуся песку на два шажка вглубь. Ноги в сапогах туго, ласково сдавило.
Он едва дышал.
Пахло сырой древесною корой, отмокшим камышом.
…высмотрев на берегу место, уселся, чтоб разглядывать чудесные сапожки. Среди палой листвы они смотрелись ещё ярче – словно выросли из земли, как грибы.
Подвигал ступнями, как бы танцуя.
…и вдруг его словно ошпарило изнутри.
Кто ж те сапожки таскал совсем недавно?
Его ж ведь – сгубили. А куда он мог деться ещё? В Азове казаки побили всех до единого. Сумевших же выбраться в степь – загоняли астраханские татары, и тоже казнили смертию.
Таскавший те сапожки лежал теперь, съедаемый червём. А порешил его – батечка Тимофей.
Степан ошарашенно оглядывал свои ноги.
Прежнее тепло вытрясли из тех сапог, как пушистый сор.
Степан взял себя за колено и сдавил.
Разом поднялся и заспешил обратно, брезгливо суча ногами, будто к ним до колен налипли пиявки.
…дойдя к мосткам, сам не заметил, как отвлёкся: казачата били из луков жаб.
Бог весть откуда натёкшая горечь – выветрилась и оставила его сердце.
И никогда больше не возвращалась.
…с московским жалованьем на Дон прибыли царёвы послы, а с ними стрелецкий отряд.
Стрельцы стали лагерем у Черкасска, на другом берегу. Задымили костры.
На другой день десятка стрельцов с их десятником перебрались на пароме к Черкасску.
Высоко неся подбородки, супясь, вошли через распахнутые ворота в городок.
Они были в оранжевых кафтанах с чёрными петлицами. Шапки их были вишнёвого цвета, а сапоги – зелёного. У каждого имелась пищаль, а за спиной – бердыш.
Иван со Степаном стояли на валах, глядели во все глаза. Стрельцов с большой Русии видели они впервые.
Едва те прошли, кинулись за ними вослед.
Стрельцы, любопытствуя, ходили по богатому черкасскому базару, не теряя друг друга из вида.
Казаки-старшаки, встав поодаль базара, косились на стрелецких гостей.
Пройдя насквозь ряды, стрельцы собрались у часовенки.
К ним, сияя рыжей бородой, красноносый, выкатился поп Куприян.
Казаки помоложе, недолго выждав, поигрывая нагайками, подошли; чуть задираясь, знакомились с московскими людьми. Косясь на Куприяна и тихо посмеиваясь, предлагали стрельцам табачку. Стрельцы, что твои кони, вскидывались, отворачиваясь.
– Табак – зелье сатанинское! – пояснял стрелецкий десятник густым голосом и сплёвывая. – Нарос в паху мёртвой любодейницы, тридцать лет кряду предлагавшей себя кому ни попадя! Сатана зачерпнул из её срама чашу – и плеснул на неё ж. На ей и возросла трава табак!
Десятник был с невиданным карабином и в ерихонке – медном шлеме.
– А у нас и поп Куприян покуриват, – сказал, подходя будто к давним друзьям, Васька Аляной. – Поп, душа моя в лохмотья, ты чего про девку-то не сказывал нам? С кем же ж она любодейничала, раз из её чашкой черпали?
– Так в городке Ебке, которая Акилина, прозвищем Полполушки… – поддержал лобастый, с большой лохматой головой, казак Яков Дронов, но поп, воздевая руки, прервал:
– Постыдились бы, сукины дети, у часовни стоите! Путаете гостей московских лжой своей! Черти протабаченные! А как они государю про вас доложат?..
Стрельцы на потешки Аляного, суровясь, не отвечали, поглядывая на десятника.
Головастый, как тыква, Митроня Вяткин – на три годка моложе Степана, – кинул камнем, угодил одному из стрельцов меж лопаток. Как крюком поддетый, стрелец вмиг развернулся и уставил пищаль Митроньке в лоб.
Тот остолбенел.
Казаки оборвали гутор.
– Не балуй с пищалью-то, не вишь – дитё, – негромко сказал Аляной.
Тут, как вихрем несомая, налетела Вяткина баба, схватила Митроньку и, подняв не хуже мажары пыль, пропала.
Час спустя казаки со стрельцами сошлись за разговорами в прибазарном кабачке.
Все охмелели.
Казаки постарше, разодевшись, как на праздник, в лучшее, – иные даже нацепив дорогие кольца на кривые персты, – расписывали стрельцам свою пречудесную жисть – и те, оттаяв во хмелю, завидовали.
– …а как? – переспрашивали, озираясь.
– Да мы спрячем тя, мил человек, – уверял Дронов. – Скажем: кувырнулся с мостка, и потоп. Не разыщут, ей-бо!.. Средь казаков вашего стрелецкого брата – ой, да полно. Крымчанку тебе найдём, аль ногайку – будешь её чесать то вдоль, то поперёк. А? Чего ж нет? Там государю служишь – и здесь будешь государю. Но там ты – как за ногу привязан, а тут – во все стороны ходи…
Степан с Иваном паслись поодаль. Набирались гордости: у них по роду имелось такое, чем и московские стрельцы не владели.
Ерихонку десятник снял.
Ударяя по ней камешком величиной с перепелиное яйцо, казак Ермолай Кочнев, щуря злые медвежьи глазки, цедил:
– …похлёбку только варить! В теплынь в ей – как в казане. В стынь – ухи примерзают. На морском поиске такой кубок блик споймает – издали подмигнёт во все стороны всем турским кораблям. В абордажной рати шелом – помеха. Доведись же тонуть – утянет. Воткнёсся в самое дно маковкой, а ноги вверх, как поплавки! Красться в таком ни в траве, ни в снегу – и вовсе не способно.
…казаки кивали: тридцать лет на Дону никаких доспехов никто не носил.
Десятник послушал – и, не сердясь, ответил:
– Стрельцы, казак, не крадутся ни в травах, ни в снегах. Стоймя стоят.
В другой день мать, как часто бывало, собравшись на базар, взяла пособить сыновей.
Иван бродил молча, с подлым видом, пробуя при первой же возможности всякое съестное – и с позволенья, но чаще без оного.

