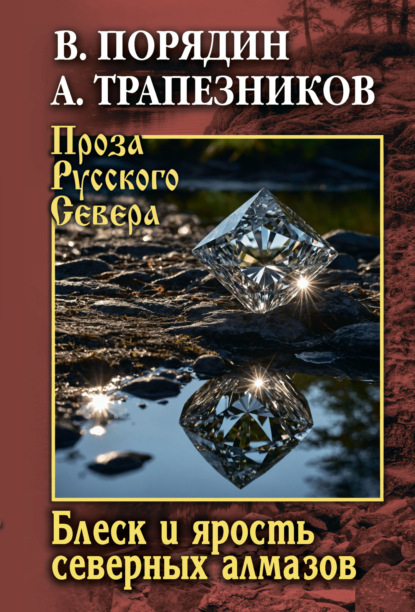
Полная версия:
Блеск и ярость северных алмазов
Её звали Ида. Кто такая, где он с ней познакомился? Неизвестно. Привез откуда-то с Урала. Купил ей небольшой домик на острове Соломбала. Обеспечил всем необходимым. Она любила выращивать цветы, Жогин пристроил к домику оранжерею. Ида была его ровесницей и не такой уж красавицей. Обычная женщина, худенькая, светловолосая и светлоглазая, тихая и скромная. Что их связывало? Загадка.
Но если бы можно было заглянуть в окно, вечером или глубокой ночью, то увидели бы эту женщину, сидящую за столом со свечой, гадающую на картах Таро, что-то шепчущую, всматривающуюся в неведомый мир. Возможно, она принадлежала к тому таинственному народу на севере России, который согласно преданиям ушёл под землю столетия назад – но не бесследно.
Имя ему – чудь. Легенды наделяют этот народ особыми мистическими знаниями и способностями. Да ведь и с самой Соломбалой связаны мифы о чуди. Вот Ида и появилась здесь чудесно и таинственно. Может быть, не столько даже по желанию Жогина, сколько по своему собственному. Как знак судьбы. Но факт остается фактом. Это было единственное существо, которое «профессор Мориарти» не только уважал и любил, но даже слегка побаивался.
Сам Жогин не так уж часто приезжал в домик на Соломбале. Он нанял Иде домработницу и садовника, но она от них отказалась. Привыкла всё делать сама. Что ж. Что хорошо ей, то хорошо и ему. Он слушался ее беспрекословно. Но и в свои дела не посвящал. А этого и не требовалось. Вещунья сама многое понимала, она получала эти знания из мистических «высших сфер» своего древнего племени. И его дела её по большому счету не интересовали. Ида жила своей жизнью. Словно бы под землей, как и все её предки.
А ему надо было утверждаться в Архангельске. Он и занимался этим с утра до вечера, с заката и до рассвета, переступая через кровь, тела, черепа. Для того чтобы подняться по ступеням криминальной лестницы наверх, надо ничем не брезговать, не считаться с жертвами, не иметь жалости к конкурентам. И уж тем более не оставлять их в живых.
Жогин и не давал им никаких шансов. Мертвый соперник уже не опасен, это просто тело в морге для препарирования. Сам же иногда и доставлял себе такое удовольствия, чтобы не растерять навыки хирурга и патологоанатома. Приятно было посмотреть на мертвеца, который столь глупо досаждал ему при жизни. Теперь вот лежит на прозекторском столе и только скалится. У Жогина был свой морг для подобных утех. Такие «бревна» он любил больше всего из бывших людей, исключая Иду. Но его «белоглазая чудь» – это за гранью.
Он и сам убивал, не только поручал это своим «быкам». Особенно предпочитал скальпель. Один короткий взмах – и кровь фонтаном из шейной артерии. Или бейсбольной битой по темени. С одного удара череп в крошки. Ну а на худой конец сойдет и автомат Калашникова. Это для особых любимчиков, чтобы разорвать тело в клочки. Потом – в собственный морг. Затем – в свой же частный крематорий.
К 1993 году Юрий Жогин, «Хирург», «профессор Мориарти» уже сорвал джек-пот в Архангельске и стал практически некоронованным королем преступного мира в этой «Северной Фиваиде». Но обрести официальное признание среди чиновничьей элиты города пока не мог. А хотелось. Никакие пиар-кампании тут помочь не могли. Он даже пытался баллотироваться на должность мэра, но всё впустую. Поэтому пришлось поступить проще: усадить в это кресло своего протеже Правдина.
Жогин вообще вызывал у собеседника неприятные чувства. Сам вид его пугал человека, особенно простого обывателя, даже не знающего, что представляет собой «профессор Мориарти». Возникало только одно желание: поскорее закончить с ним разговор и уйти. А потом вымыть руки.
Жогин знал об этом, поэтому намеренно пользовался своей необычной зловещей внешностью. Даже придумал себе особую черту – постоянно шевелить пальцами. Это вызывало у человека инстинктивное отвращение, а он только внутренне посмеивался. Наверное, подглядел эту особенность в фильме о Шерлоке Холмсе. Да и кличку «Мориарти» создал себе сам.
Когда на его горизонте возник школьный приятель Родион Козочко и предложил поучаствовать в «Афере века», он долго не раздумывал.
– Конечно, – сказал он. – Рассчитывай не меня, Родя. Я всегда знал, что из тебя выйдет толк, козлиная твоя морда. А как будем делить залежи алмазов?
– Как, как! По-братски.
– Идет.
Жогин при этом подумал: «Вот в эти залежи потом тебя и опустим. Козел драный». А Козочко тоже не опоздал со своей мыслью: «И не таких хирургов мертвячили, дай срок. Проф-фес-сор».
Саундтрек к северным алмазам
В Архангельск и Якутск Ясенев летал часто, почти каждый месяц, и жил практически на три города, включая Москву. Он невольно сравнивал эти три места. А если бы у него спросили: где лучше, краше, свободнее и легче дышится, то он бы затруднился с ответом. И в конце концов не стал бы отвечать вовсе, поскольку любил все эти города, включая, конечно, свой родной Брянск и первое длительное место службы – Воронеж.
Сейчас, в последний день своей командировки в Архангельск, Ясенев стоял на берегу Северной Двины, ближе к устью. Место было безлюдное. Вдалеке виднелся Михайло-Архангельский монастырь. Река безмятежно катила свои темные воды. В воздухе начинал разноситься гул церковных колоколов.
Здесь он постоянно встречался с источником из «Белого дома» Архангельска. Агент «Кохинор» запаздывал. Бывает. Но он действительно приносил настолько ценную и важную информацию, что заслуженно имел столь бриллиантовый псевдоним. Главный алмаз в короне английской королевы. Украденный у индусов.
Ясенев задумался. Четыреста лет назад, в конце Ливонской войны, Россия потеряла все выходы к Балтийскому морю, Нарву, Ям, Копорье. И тогда царский взор Иоанна Васильевича Грозного обратился к берегам Белого моря. На его побережье уже имелся крупный торговый центр – Холмогоры, но его месторасположение не устраивало царя. И через два года появился указ о строительстве в устье Северной Двины нового города с корабельной пристанью.
Царской грамотой был учрежден Архангельский посад, завершено строительство деревянных гостиных дворов, и в новый порт была официально переведена вся морская торговля с иностранцами. Ясенев усмехнулся: вот уж где можно было разгуляться зарубежным шпионам и отечественным контрразведчикам. Двинская область по доходам стала самой знаменитой в Московском государстве. Наступил её золотой век.
В XVII веке Архангельск вступил в эпоху своего расцвета. Из Европы на Русь везли английское сукно, брабантские шелка и бархаты, сахар, пряности, туалетное мыло, хлопчатую и писчую бумагу. А еще нитки, иголки, кружева, жемчуг, дорогую посуду, оружие, вино, которого тогда на Руси не производили.
Но самой выгодной статьей торговли были монетные операции. Из привозных талеров русская казна, не имевшая своего золота и серебра, чеканила царские деньги и пускала их в обращение. Такие перебитые европейские монеты на Руси называли ефимками. До алмазов дело еще не дошло. Их время наступило только сейчас.
Вывозили из Архангельска все, что давала русская земля. Хлеб, сало, лен, пенька, холсты, воск, кожи, знаменитые русские меха. И, конечно, корабельный лес. Победитель «Непобедимой армады» английский адмирал Френсис Дрейк даже благодарил русского царя за отличную оснастку своих кораблей, позволившую отстоять независимость Англии. Вот это зря. Не надо было давать «Англичанке» лес, она всегда России «гадит».
Ясенев подумал: а если бы он жил в то время? Занимался бы тем же, что и сейчас. На страже государственной казны и безопасности. Натура такая, ничего другого делать бы не хотел. И не мог. Потому что родился контрразведчиком. Не слишком-то благодатная профессия, если вдуматься. Часто не только ценят, но и в опалу ссылают. А то и к стенке ставят, как в 30-е годы. Ни за что ни про что. Но ведь не за славу работаем. За государеву честь.
– Он не придет, – услышал вдруг Ясенев за своей спиной.
Это был Тарланов. Грузный пожилой человек с объемистой желтой папкой подмышкой.
– Здравствуйте, Александр Петрович.
– Добрый вечер, Игорь Алексеевич.
– Он не придет, – криво усмехнувшись, повторил Тарланов.
Не надо было объяснять, о ком идет речь. Источник работает только с одним чекистом, если с двумя – это уже плохой источник. Но на «Кохинора» это было не похоже. Зачем ему нужно связываться еще и с Тарлановым? Занимая высокий пост в администрации губернатора, курируя архангельские алмазные месторождения, «Кохинор» отчетливо представлял, чем рискует, и никогда бы не вступил в доверительные отношения с местным чекистом. Хотя бы даже потому, что был ответственным человеком и давал подписку о неразглашении лично Ясеневу. Тогда что?
– Вы удивлены? – спросил Тарланов. – Я тоже.
Московский полковник пожал плечами. Возможно, это была какая-то провокация.
– Не совсем понимаю, о чем вы.
– Бросьте. Мы делаем одно дело. Я не знаю, под каким оперативным псевдонимом он проходил у вас, но мы, бесспорно, имеем в виду одно, и тоже лицо.
– Допустим.
– Мы также встречались здесь, на берегу Двины. Много раз.
– Продолжайте.
– Он сказал мне, что в случае чего я могу рассчитывать именно на вас, Александр Петрович.
– В случае «чего»?
– Ну-у… Сами понимаете. Это ведь как работа разведчика в тылу врага. Любой неверный шаг и… – Тарланов кивнул в сторону темных вод Двины. Добавил: – Я справлялся в администрации губернатора, он не появлялся на работе уже второй день. Думаю, что уже и не появится. Возможно, где-нибудь теперь на дне реки. Найдут не скоро. Да и искать не будут. Скажут: сбежал за границу, прихватив алмазы. Придумают какую-нибудь чушь. А потом еще и другие свои грехи на него повесят.
Ясенев все еще сомневался в искренности слов полковника. Колебался. Слишком все неожиданно и как-то топорно. Но и не верить было нельзя. А в честности «Кохинора» он не сомневался. Много лет вместе. Еще с Якутии, с советских времен. Он прокручивал в голове разные варианты. Но если Тарланов прав и «Кохинор» мертв, то это нокаут. Ну, ладно, нокдаун. Можно встать и продолжить бокс.
– В этой папке, – продолжил местный полковник, – та информация, которая должна вас заинтересовать. Мы собирали её вместе.
– Почему вы не обратились ко мне раньше, Игорь Алексеевич? Я в Архангельске уже две недели. Да и прежде мы не раз виделись на различных совещаниях и мероприятиях. У нас с вами всегда были нормальные, деловые отношения.
– То-то и оно, что обычные. И я не решался перевести их в другую плоскость, – признался Тарланов. – Присматривался. Но сейчас у меня просто нет иного выбора. Знаете, Александр Петрович, московским чекистам теперь так же мало доверия, как и к местным. Увы, время такое. Как писал перед отречением в своем дневнике Николай II: кругом трусость, измена и обман.
– Ладно вам, Игорь Алексеевич, вы же не царь-император. Так что дальше? Покажете мне содержание вашей папки?
– Потом, – подумав, ответил Тарланов. – В следующий ваш приезд.
– Ну, как хотите.
– Мне еще надо добрать кое-какие документы и материалы. Поставить точку в этом моем «романе с бриллиантами». А сегодняшнюю беседу будем считать прелюдией. Мне важно было знать, что я теперь могу на кого-то рассчитывать. Ведь могу же?
Ясенев оценил его состояние: взвинченное, нервное, сумбурное.
– Можете, – сказал он, взглянув на часы. – Тогда мне пора. Извините, рейс.
– Когда вас ждать снова в наших северных широтах?
– Через месяц. Вы, конечно, будете извещены о моей очередной командировке в Архангельск. Давайте договоримся: в местном УФСК между нами не должно быть никаких разговоров на эту тему. А встретимся здесь, на берегу Двины, на второй день после моего приезда, в это же время. Согласны?
– Так точно, – ответил Тарланов.
Интермеццо. Пауза
Уже в Москве в своем служебном кабинете Ясенев тщательно анализировал ситуацию в «Архангельской алмазоносной провинции» и свою недавнюю командировку. Изучал дешифрованные сообщения от источников. Своей агентурной сети он уделял особое, повышенное внимание, считал ее незаменимым элементом работы контрразведчика. Его «Alter ego», если можно так сказать.
В психологии это реальная или придуманная другая личность человека. А в контрразведке – конкретное имя или псевдоним твоего источника. Это, говоря проще, важный отдельный аспект твоей службы и даже собственной личности. Главное, чтобы он не стал вдруг твоим реальным «Alter ego» и метафорически не заменил тебя самого в твоем сознании и подсознании. А это иногда случается. «Медовые ловушки» на то и придуманы.
Ясенев любил предмет «Психология объекта», который изучал на Высших курсах КГБ со своим другом и земляком Сергеем Грачевым. Оба были лучшими студентами на этом семинаре. Сейчас полковник Грачев возглавлял особый отдел – политическую контрразведку. А Ясенев до сих пор с удовольствием и пользой почитывал специальную литературу по психологии и психофизиологии.
Но и о своем физическом состоянии не забывал, поддерживал спортивную форму. Поэтому утром на своей служебной квартире обязательно делал зарядку, бегал трусцой в парк, каждую неделю посещал бассейн и ведомственный спортзал, где занимался боксом и самбо, а по субботам с охотой ездил в чекистский тир – пострелять. Он был бы не прочь и дрова порубить, как Челлентано, поскольку скучал по Лизе, а их разрыв считал все-таки временным явлением.
О Тарланове он старался не думать, поскольку все больше и больше начинал сомневаться в искренности его слов. Вернее и скорее всего, он сам себя уверил в идее фикс. Так бывает. Став по какой-то причине в своем коллективе изгоем, Тарланов стал подозревать всех и вся. Крыша у чекистов тоже иногда плывет, как лед по Северной Двине. Скорее всего, ветеран просто заигрался в шпиономанию.
Один из первых признаков развивающейся шизофрении – это держаться обеими руками за какой-либо предмет. Карандаш, брелок, очки. В данном случае это была желтая папка. Ходить всюду вместе с ней, бояться потерять, придавать ей огромное мировое значение. Это ли не факт какого-то нездоровья в голове?
Но, с другой стороны, «Кохинор» на работе в администрации губернатора действительно больше не появлялся. Ясенев справлялся об этом и через официальные источники, и при помощи своей агентурной сети. Никто его больше не видел и не слышал. Исчез, как воду канул. Невольно вздрогнешь, вспомнив слова Тарланова, что он покоится на дне Северной Двины. Однако тут могло быть что угодно. Вплоть до бегства за границу или похищения.
От всех этих мыслей спасала работа. Первое, большая часть источников отмечала отсутствие какого-либо контроля со стороны властных структур Архангельска на месторождениях и практических действий по их разработке. Это совпадало с его собственными выводами после последнего посещения алмазоносной провинции. Но главное, и это касалось всей отрасли, всего сектора экономики – это отсутствие нормативной базы в области обращения драгоценных камней.
Во-вторых, явная заинтересованность в месторождениях транснациональной корпорации «Де Бирс». Она стремится к монопольному контролю над ними. Это следовало из анализа многих источников. Не только в Архангельске, но и здесь, в Москве, даже в Кремле. И, скорее всего, этот контроль нужен «Де Бирс» для того, чтобы действительно осуществить консервацию месторождений на долгий срок. Это и понятно. «Де Бирс», как регулятор мирового рынка алмазов, не заинтересован в поступлении на него дополнительного объема драгоценных камней.
Вот два главных акцента, которые выделил Ясенев в своем отчете руководству. Еще он обратил внимание на дельцов, крутившихся вокруг месторождений, где было много лиц кавказской национальности. Уже не граждан России, а Грузии, Армении, Азербайджана. Шота Арахамия, братья Тигранян, Ашот Петросян, Маргания и другие. Но и своих хватало. Тот же Березкин. Жогин. Банкетов. Козочко. Ефимчук. Правдин. Ниточки от них тянулись в Москву, в министерства, в администрацию президента, в Счетную палату и так далее.
Получался большой такой Колобок, катающийся по трассе Архангельск – Москва, «туда-сюда-обратно, тебе и мне приятно». В этот питательный и румяный Клубок-Колобок входили архангельские высокие чиновники, их покровители в столице, фирмы и фирмочки, иностранные и доморощенные дельцы, связанные с криминалом, а то и отвязанные уголовники. Список, по желанию, можно было бы представить. Ясенев составил его, но к отчету пока решил не прикладывать, держал в запасе. В нем были перечислены не только всем известные публичные фигуры, но и рангом поменьше.
Через несколько дней, аккумулировав все сведения, Ясенев представил генералу Кораблеву, руководителю Главка, отчет о командировке в Архангельск. Выглядел он примерно так. «Де Бирс» стремится заполучить контрольный пакет акций «Севералмаза». Но исключительно для консервации проекта разработки двух месторождений, прежде всего Ломоносовского.
Братья Тигранян и другие «застольники», имея поддержку во властных структурах, в Кремле и правительстве, в сговоре с представителями транснациональной компании (вот откуда в Архангельске взялся Раймонд Кларк) создали акционерное общество «Согласие». С целью скупки контрольного пакета «Севералмаза».
А чтобы иметь административный ресурс, в число акционеров «Согласия» были включены «Управление делами президента России» в лице его руководителя Павла Бородина и местное агропромышленное объединение Назарьево, представленное губернатором области Ефимчуком. По 10 % каждому. Остальные акции разошлись по подставным фирмам и коррумпированным чиновникам.
– Сам черт сломит ногу в этой хитрой схеме, – выразился генерал, читая отчет Ясенева.
– Обратите внимание, Сергей Николаевич, – что в самом «Севералмазе» уже нет контрольного пакета акций. Он у «Согласия». А для прикрытия они отдали 26 % Комитету по управлению госимуществом Архангельской области, то есть Ефимчуку. Ну и разбросали по мелочи доли процентов разным фирмам, холдингам и физическим лицам. Таким образом, речь идет о вероятном нанесении в скором будущем ущерба экономическим интересам государства.
– Торопиться не будем, чтобы не попасть впросак. Видишь, какие там фигуры задействованы? Пока собирай и копи все материалы и документы по этому делу. Чувствую, нам еще много времени придется разгребать эти авгиевы конюшни.
– Как бы этот эшелон с алмазами не укатил далеко вперед, – выразил осторожное сомнение Ясенев.
– Ничего, догоним. А надо будет, вспомним белорусских партизан во время войны. Товарищей Ковпака и Машерова.
– Тогда уж и Судоплатова, – добавил Ясенев. – Очень эффективные методы применял.
Бриллиант – вечный дар любви под музыку Вивальди
На столе у Ясенева лежали свежие статьи различных экспертов и журналистов СМИ по «алмазной тематике» за последние две недели. Одна из них была только что напечатана в «Коммерсанте». Автор – Ж. Монц-Болейн. Ясенев знал в этой сфере практически всех. Тут что-то новенькое. Странная фамилия. Иностранец? Вообще, мужик или баба? Что это еще за Монстр-Облей такой, такая или такое?
Он просмотрел эту статью по диагонали, чтобы не терять времени. Написано живо, интересно, с фактами и выкладками. Ситуацию на архангельских месторождениях и вообще в этом секторе промышленности автор знает. Это хорошо. Сведущие профессиональные люди нужны в любом случае и качестве. Без гендерных признаков.
Ясенев отметил красным карандашом несколько абзацев в статье, перечитав их заново.
«…В эту алмазоносную провинцию еще три года назад ринулись все, кого манила заоблачная прибыль. А на нищую жизнь жителей самого Архангельска и провинции – не алмазоносной, а обыденной, – всем было плевать. Все они были вынуждены вступить в жестокую, а то и кровавую битву между собой. Приз велик – минерально-сырьевая база алмазов на архангельских месторождениях. И не с этим ли связана загадочная череда смертей в прошлом, настоящем и, мало кто сомневается, в будущем?».
«…Ситуация вокруг месторождений в Архангельске весьма странная. Есть многочисленные владельцы разных компаний, есть юридические интересы края, но нет первой фигуры на этом поприще. Акционерной компании «АЛРОССА». К чему бы это? Она добровольно сложила оружие? Или её вынудили к этому? А если так, то кто? Физическое или юридическое лицо? Уж не “Де Бирс” ли? Опять много вопросов, а ответов нет…».
«…Внимательный читатель попросит уточнений по Архангельску. Но данные по балансовым запасам месторождения и добычи засекречены до сих пор. Судя по всему, ситуацию там плотно и жестко берут под контроль органы госбезопасности. Мой вывод: “Архангельская алмазоносная провинция” может стать конкурентом на внутреннем рынке “АЛРОСЕ”. А станет ли?».
Откуда этот тип знает, что контроль со стороны контрразведки над «Архангельской алмазоносной провинции» перешел в новую стадию, чтобы закон и порядок не стали для дельцов пустым звуком, а жирные коты перестали облизываться от вкусной сметаны? Он вновь обратился к статье:
«…Сейчас “АЛРОСА” стремится занять особое место в мировом алмазно-бриллиантовом бизнесе. Претензии оправданы. Однако, может быть, “Архангельская алмазоносная провинция” чуточку исправит это положение, если решит приоткрыть забрало, показать лицо и вступить в борьбу на этом рыцарском турнире? Вопрос пока висит в воздухе, пропитанном густым туманом…».
Ясенев усмехнулся. Хорош «рыцарский турнир», где нет никаких правил! И все-таки решил, что писала женщина. По некоторым косвенным лексическим признакам, вроде «забрало», «рыцари», «кровавая битва» и прочей экспрессивной чепухи. Наверное, какая-нибудь старая дева. Полковник почему-то представил её дамой преклонных лет, в шляпке, с зонтом и седыми буклями. Как старуха Шапокляк из мультфильма.
Но он отметил также мужской азарт, краткость и некое шутовство для широкой читательской массы. Хотя и посетовал на некоторые ошибки или недомолвки. Но в алмазном бизнесе, не смотря на блеск продукции, много тайн и мрака. По крайней мере, как она сама написала, «пропитано густым туманом». Особенно то, что связано с «Де Бирс». И всего не расскажешь.
Ему вообще вдруг захотелось, чтобы она оказалась не старухой в деменции, а прелестной девушкой. Хотя это невозможно. Девушки не интересуются скучным производством и экономикой, они, как известно, любят бриллианты. А бриллиант, если верить девизу «Де Бирс», это – «вечный дар любви».
А вообще-то не плохо бы и познакомиться. Для дела, исключительно. Статьи в большой прессе почти всегда носят заказной характер. И это неудивительно. В бизнесе непростые отношения между конкурентами. В роли «третейского судьи» часто выступает журналист. Со всеми вытекающими выводами. Вот почему особенно важно перетянуть газетчиков на свою сторону.
Поэтому Ясенев уже загодя «положил глаз» на эту Монсиху. Так в народе прозвали историческую Анну Монц, любовницу Петра Первого, которую тот за измену казнил. А король Генрих VII за то же самое обезглавил свою неверную супругу Анну Болейн. Незавидная судьба, похоже, ждала и эту журналистку с открытым забралом на средневековом турнире.
Полковник преследовал свою цель. Планируя различные мероприятия по защите интересов России на алмазоносных месторождениях, ему было необходимо сформировать правильное общественное мнение с использованием СМИ. Пресса влияет и на думу, та – на правительство, а в итоге выходят нормальные законы. Появляется нормативная база, на которую можно опираться в своей работе.
Некоторые журналисты уже давно сотрудничали с ним в этом направлении. Кто-то из патриотических соображений, кто-то втемную. Почему бы и не Ж. Монц-Болейн? Хоть взглянуть на этот сохранившийся со времен Средневековья артефакт.
Однако заказные статьи стоили недешево. От пяти тысяч долларов и выше. Ясенев такими деньгами не располагал. Да и в службе госбезопасности подобного фонда для представительских расходов не было. Но контрразведка умела обходиться и без них.
– Ищи внутренние ресурсы, – иронично посоветовал ему генерал-полковник Кораблев, когда он впервые обратился к нему с такой проблемой.
Ясенев вновь стал вспоминать, чему его учили на Высших курсах КГБ, на занятиях по психологии, психофизиологии и прочим наукам, способствующим изучению и взаимодействию с объектом. Не только вербовке, но использованию источника втемную.
Имелись свои психологические приемы и методы воздействия на ум, душу, совесть, сердце и печень. Не всегда, конечно, получалось, но чаще срабатывало. А тут какая-то старуха Шапокляк с буклями и уже наверняка в дементном возрасте. Тьфу! Плюнуть и растереть.
На следующий день он случайно встретился в Доме журналистов с главным редактором «Независимой газеты» Трегубовым, своим старым приятелем и ровесником. У них там был творческий вечер и какая-то презентация. По давней традиции, выпив за стойкой бара по бокалу вина, сели за шахматный столик. Когда партия перешла в эндшпиль, Ясенев невзначай спросил:



