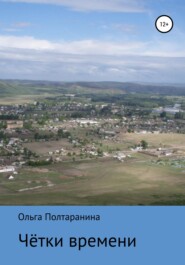 Полная версия
Полная версияЧётки времени
«…Тропинкой памяти пройдусь и робко папе улыбнусь,
Скажу все то, что не успела,
Как раньше даже б не сумела…»
Тропинкой памяти пройдусь…
Золотые слова
В Верх-Убе у меня был друг, живший по соседству, Серёжка Колтунов. Его родители трудились на ферме. В жару и стужу, каждый день рано утром, на совхозном грузовике, они уезжали на работу и возвращались лишь поздно вечером.
Серёжка был на год моложе меня, шестилетней, но по прыткости и ловкости мог запросто дать фору. Суровые условия жизни и вынужденная самостоятельность закалили мальца. Непоседа и шалун, он доставлял немало хлопот своей старшей сестре Гале. Она училась в третьем классе, имела множество обязанностей по дому, помимо того, что присматривала за братом: кормила и отгоняла скотину в стадо, полола и поливала огород.
Не по возрасту серьёзная и хозяйственная, Галя пользовалась уважением у взрослых. Бабушка Дуня обращалась к ней, не иначе как, «Галина Ивановна».
***
После ливней по нашей улице разливалась гигантская лужа и, как магнит, притягивала к себе домашних животных: птиц и свиней. Для детей служила местом для игр: весной мы по ней пускали кораблики, зимой превращали в каток.
В тёплое время лужа пересыхала, с приходом дождей возвращала свои утраченные позиции.
Громадный водостой посреди дороги приносил массу неудобств жителям. Его засыпали щебнем. Но это была кратковременная мера. Улица имела уклон. Щебень скатывался и всё возвращалось на круги своя.
***
Зима сдавала свои права. Снег просел и почернел. Я вышла со двора в новом пальто и сапожках…
В старой отцовской фуфайке до пят, нараспашку, босой и без шапки, Серёжка Колтунов катался на картонке по льду, которым была покрыта лужа. Ноги у него, как у гусака, покраснели от холода, лицо светилось от счастья, глаза сияли.
– Где твои башмаки? – прокричала я ему.
– Галка спрятала, а сама за хлебом ушла, велела мне дома сидеть! – воскликнул Серёжка, не останавливаясь, ни на минуту.
– Почему ты на улице? Попадёт ведь от родителей, если она нажалуется! – предположила я.
– Ну и пусть ябедничает! Сколь влезет! Уже лето почти, а я должен дома сидеть! – ухмыльнулся Серёжка и просвистел рядом со стаей жирных гусей. Хлопая крыльями, они разбежались в стороны. Здоровенный гусак наклонил голову, распахнул клюв, высунул язык и недовольно зашипел на Серёжку. Но мальчишке до него не было дела – с бешеной скоростью он лихо проскочил мимо.
Мне тоже захотелось прокатиться! Стала думать: «Где взять картонку?!»
Вспомнила, что в сарае стояла старая коробка из-под телевизора, приспособленная под щепу и опилки.
Я бросилась на скотный двор. Влезла на поленницу и стала отрывать кусок от картонной коробки. Но не тут-то было! Наполненная до отказа трухой, она не собиралась сдаваться! Как я ни мучилась, ничего не выходило!
«Ножовкой отпилить, или отрезать лоскут секатором?» – быстро соображала я. Но, поразмыслив, отказалась от того и другого. Инструменты лежали под замком. Папа прятал ключ под крышей сарая, куда без лестницы никак не дотянуться, а притащить её не хватит сил.
Перебрав в голове варианты, я, не придумала ничего лучшего, как повиснуть, ухватившись за край коробки. Сосновые опилки и щепа лавиной обрушились и засыпали меня с головы до ног…но цель была достигнута: кусок картона я заполучила!
Насилу выбравшись из-под горы мусора, наспех отряхнувшись я выскочила на улицу, думая только об одном: «Эх, прокачусь!»
Увидев меня, Серёжка покатился со смеху:
– Кикимора огородная!
Вдоволь нахохотавшись, он скомандовал:
– Снимай обувь!
– Зачем? – удивилась я.
– Солнце вышло, лёд подтаял и растрескался! Видишь, поверх лужи, выступила вода? Начерпаешь в сапоги – мамка заругает! Говорю – разувайся! – деловито распорядился мальчишка, – Без того, по всему видать, тебе попадёт – новую одёжу вон как вывозила!
Я послушалась бывалого друга. Приглядела сухое место около забора. Разулась, сняла носки… Огненный холод сковал ноги.
Серёжка моментально понял мои ощущения и приободрил:
– Не дрейфь! Сейчас привыкнешь и перестанешь мёрзнуть! Давай-ка, езжай быстрей! А то, гляди, лужа тает, прямо на глазах!
Покатилась…Лёд проломился прямо подо мной и, по самые уши, я оказалась в стылой воде!..
Выбраться из полыньи оказалось делом не простым: ноги и руки окоченели, не слушались, скользили, ладони поцарапались и кровоточили, пальто намокло и стало неподъемным. Серёжка кинулся на помощь, протянул руку. Кое-как вытащил меня на «берег».
В это самое время родители подоспели домой на обед. Так не вовремя! Папа схватил меня и понёс домой.
Краем глаза я увидела, как Галина Ивановна палкой загнала домой Серёжку. Мама с хворостиной побежала загонять коров и куриц, которые преспокойно разгуливали на свободе: я забыла закрыть ворота, когда бегала за картонкой. Со двора разбрелась вся скотина!
Папа назвал меня хулиганкой и на два дня лишил прогулок.
Я должна была сидеть дома, анализировать своё «безобразное» поведение и «осознавать всю тяжесть содеянного».
***
На второй день моего заточения, не выдержала бабушка.
– Собирайся, варначка, – сказала она, – друга твоего пойдём проведывать! У него ангина. Батька с маткой просили приглядывать за ним.
Она взяла банку мёда, и мы пошли к Колтуновым. В углу комнаты, в плетёной корзине, сидела гусыня на яйцах. Серёжка лежал на кровати, с компрессом на шее. Он увидел нас и сразу оживился.
Бабушка и Галина Ивановна направились на кухню – готовить питьё для больного. Как только они вышли из комнаты, Серёжка, заговорщицки, посмотрел на меня, приставил указательный палец ко рту, вытаращился глазищами в сторону корзины и прошептал: «Тсс!.. Наверное, гусята уже вылупились! Слышь! Пищат! Страсть, как охота, на птенчиков посмотреть!.. Гусыню нужно чем-то отвлечь, чтобы она вылезла из лукошка и тогда мы сможем их увидеть… Сам-то я не могу – болею… попробуй ты!»
Легко сказать «чем-то отвлечь»!
Я терпеть не могла гусей. Они больно щипались и били крыльями. Частенько от них перепадало! Но было любопытно, хоть одним глазком, глянуть на крохотных пушистеньких гусят…На цыпочках, я стала подбираться к лукошку.
Птица преспокойно сидела до тех пор, пока не увидела, что вот-вот её личное пространство будет нарушено. Потихоньку я приблизилась к ней на расстояние вытянутой руки. Гусыня заволновалась всерьёз: привстала, открыла клюв и предупредительно зашипела. Я сделала ещё шаг. Она изогнула шею и молниеносным движением цапнула меня за руку!
От боли хотелось кричать! Но, вспоминая «преступления» третьего дня, я стиснула зубы и не произнесла ни звука, молча утерев слёзы.
Галя напоила брата горячим молоком с медом, дала ему лекарство, и мы с бабушкой ушли.
Дома я не выдержала. Показала бабушке распухший палец и рассказала про злую гусыню.
«Беда, с тобой! Одна беда! – горестно посетовала бабушка, и покачала головой, – Воленька, пока ты не научишься думать перед тем, как что-то сделать, толку не будет!»
…Золотые слова!
Лексика
Моя специфическая деревенская лексика время от времени давала о себе знать в начале нашей жизни в посёлке Первомайском. Получив от местной детворы обидное прозвище – «деревня», я отчётливо поняла, что нужно учиться. В первую очередь правильно говорить.
С этой проблемой пришла в заводскую библиотеку. Библиотекарь посоветовала мне стараться говорить так, как написано в книгах. Предложила мне список литературы и посещение литературного кружка.
«Культурный слой» моих знаний требовал постоянной подпитки и роста. Мысли были направлены на исключительное совершенствование. Усвоенный набор правильных слов и выражений вступал в противоречие с прежними установками. На этой почве у меня возник конфликт с бабушкой Дуней.
Моей святой обязанностью было писать письма далёким родственникам, под бабушкину. Лет до восьми я делала это безропотно. Но в какой-то момент мне надоело воспроизводить на бумаге безграмотные тексты, например:
– Нонче мы с Вольгой (так она называла меня) прогостили у Ивана ажно десять дён…
– Я не буду больше писать «некультурные» письма! – заявила я.
Бабуля не могла понять причину бунта и обиделась. Дело дошло до моих «батьки с маткой». Они просто решили проблему:
– Матушка, попробуйте так: Вы диктуете, Ольга пишет «культурно» и Вам зачитывает. Если что-то не так, пусть переписывает набело!
На этом конфликт был исчерпан. Из боязни переписывать «набело», я по сто раз согласовывая каждое предложение, изрядно надоедая бабушке своей «культурной формой речи».
Иной диплом имеет, да дела не разумеет…
Многие люди, по моим сегодняшним ощущениям, учатся, учатся, учатся… У некоторых дипломов уже столько, что хоть стены обклеивай, только работать они, привыкшие сидеть не столько партой, сколько на шее родителей, не большие охотники.
Мои родители имели среднее образование. Начинали трудовой путь «с низов». Набирались опыта постепенно и достигли руководящих постов. Папа был находчивым и мудрым по жизни, обладал острым умом и прекрасным чувством юмора.
В посёлке Первомайском диплом об окончании кооперативного техникума папы проигрывал, на фоне красных дипломов и научных степеней коллег-заводчан, в среде которых мы оказались.
Однажды на Новогоднем вечере, папе достался фант с шуточным заданием: «Прочитать стих или спеть песню на иностранном языке».
Папа не знал иностранного языка…Но тут же выдал частушку на «чеченском» языке.
Потом он объяснил маме, что это абракадабра – дразнилка верх-убинских мальчишек.
Позже, папин друг, дядя Миша Заболоцкий, сторож в «Домиках», рассказывал, что заводчане интересовались о том, действительно ли Полтаранин знает чеченский язык.
Дядя Миша им ответил, что Трифон Аникеевич на любом языке может с любым человеком договориться…
Взялся за гуж, не говори, что не дюж
Наши родители, бабушки-дедушки воспитывали нас, привлекая к труду, делая помощниками и друзьями. Папа всё время был на работе, не имел возможности играть, заниматься с нами, зато при каждом удобном случае старался «погрузить» меня и мою сестру в рабочий процесс, к которому прикасался.
Когда мне было пятнадцать лет, я обратилась с просьбой к папе, чтобы он дал возможность нашему классу заработать на поездку в Днепропетровск. Папа сказал, что он может нам предложить разгрузить вагон с бутылками минеральной воды.
Начали мы работу с удовольствием, но после нескольких часов энтузиазм улетучился. Некоторые родители пришли на помощь. Кое-как уложились в установленные нормативы стоянки вагона, без штрафов. Получили свои деньги и напутствие папы:
– Этот вагон у нас в продснабе разгружают 4 грузчика за 4 часа. Вас здесь 30 человек, не считая родителей. Вы еле – еле справились с работой за 6 часов. Помните, что физический труд тяжел. Учитесь хорошо. Получайте образование, чтобы не пришлось разгружать вагоны!
На следующий день у нас с папой состоялся серьёзный разговор:
– Другие родители пришли на помощь своим детям, а ты приехал тогда, когда мы все уже закончили! – с вызовом произнесла я.
На что папа мне ответил, что работать грузчиком не подряжался. Припомнил пословицу:
– Взялся за гуж – не говори, что не дюж.
«Как хрупок мир и жизнь хрупка…»
В 1979 году в Восточно-Казахстанской области случилась засуха и не уродилась картошка. Папа поехал в Белоруссию на закупку этого стратегически важного продукта питания. Договоры он подписал. Однако с поставкой вышла задержка. Вагоны с картошкой пришли лишь в октябре. В Рудном Алтае заморозки к этому времени – обычное дело. Радостная весть о приходе партии вскоре сменилась страшным предположением: «Картошка перемерзла!» Мы с папой после того, как ему сообщили об этом по телефону, бегом побежали на прирельсовый склад, где шла разгрузка. Идём с ним по заснеженному полю, папа вдруг говорит:
– Оля, если картошка действительно перемерзла, меня посадят.
– За что?! – чуть не задохнулась я.
– В случае, если есть факт порчи государственного имущества, сразу привлекут к уголовной ответственности. Пока разберутся, чья вина действительно, на это могут уйти годы. Людей, «с волчьим билетом» никто на работу уже не возьмет. Жизнь человеческая – вещь хрупкая, как лучина: пока горит, кажется, что гореть будет вечно, а если потухнет, то сама не разгорится, – ответил папа.
Картошка оказалась подмерзшей только на стыках вагонных дверей. Всё обошлось.
Над словами папы мне пришлось крепко поразмыслить спустя тридцать лет и на своем горьком опыте понять их смысл. Прочувствовать, как долго и несправедливо работает судебная машина, легко ломаются судьбы людей. Как тяжело доказывать свою правоту. Дошла суть страшной пословицы: «Был бы человек, а статья для него найдется». Жизнь растолковала мне на практике понятие «волчий билет».
Дело, как украшение жизни
Папе было немногим за пятьдесят лет, когда он поскользнулся на гололеде и сломал лодыжку. Какое-то время оказался прикованным к дому. Продолжительная болезнь и время, вынужденно проведенное вне работы, подтолкнули папу невольно задуматься о своем хобби, деле, которое стало бы украшением жизни и радостью для души. Его вдруг встревожила мысль:
– Чем я буду заниматься на пенсии? Поразмыслив, он нашел такое занятие – пчеловодство – то, чем когда-то занимался мой отец и дед!
Пасека появилась у нас следующим летом. Мы стали пчеловодами.
С той поры папин календарный год состоял из двух частей: подготовка к пчеловодному сезону и пасечная страда. В нашу жизнь мощно влилась медовая река, а мы стали «медовыми» насквозь. Пироги, баня, чай, леченье – с медом, пергой, прополисом, «маточкиным» молочком. Мы ласково именовались папой «пчелками», если радовали его. Если ленились, то он нас тут же перекрещивал в «трутней». Цветы для нас теперь стали делиться на «медоносы» и «пустышки». Поля с гречихой, подсолнечником и эспарцетом превратились в «медовые», остальные – в пустоцветы.
Приобретены были пасечные инструменты, одежда, книги. Изменены были и маршруты наших путешествий. Овраги, ложбинки, родники – стали рассматриваться с точки зрения удобства расположения пасеки. Летней страдой во время качки нас кусали пчелы десятками-сотнями. Стоишь, бывало, крутишь медогонку и подвываешь потихоньку себе под нос от боли от очередного укуса пчелы, чтобы папа не услышал…
В шестьдесят лет папа вышел на пенсию и стал заниматься пасекой.
***
Незадолго до смерти папа посадил вдоль ограды дома тыкву. Тыква принялась, заплела весь забор, получилась зеленая изгородь. А к концу июня тыква зацвела буйным цветом. Папа умер 30 июня. Когда папу схоронили, приехали домой…увидели, что на цветах той самой тыквы, сидит рой пчел. Только уже ловить этот рой было некому. Пчелиный рой посидел-посидел и улетел. Это папа с нами попрощался…
Мама
Полтаранина Валентина Васильевна (фамилия при рождении Татаренко) родилась 15 января 1938 года в селе Малороссийка Самарского района Восточно-Казахстанской области. В 1948 году рудник Джумба, на котором работал мой дед Татаренко Василий Данилович, был закрыт. Семья вынуждена была переехать в г. Текели, где дедушка продолжал работать шахтером. Но условия высокогорья не подходили моей бабушке – Марии Ермолаевне (Жернова, в девичестве) по состоянию здоровья. Поэтому семья вскоре, в 1951 году, вновь переехала на Верх-Березовский рудник.
После школы мама решила поступать в педагогический институт (г. Усть-Каменогорск), но не прошла по баллам и подала документы в кооперативный техникум, который окончила в 1958 году.
Работала бухгалтером, экономистом по труду и заработной плате, последние тринадцать лет заместителем главного бухгалтера.
Мама создавала уют в доме, без неё он замирал. Когда она возвращалась с работы, мамины каблучки отбивали трель по асфальтовой дорожке, и звякала металлом об металл щеколда в калитке, вся ограда в тот же миг взрывалась отчаянным визгом свиней, мычанием коров, криком петуха, грохотом собачьей чашки «Кормилица пришла!»
В зимние вечера у нас дома было весело всегда: мы рукодельничали, готовили уроки, читали, обсуждали прочитанное, всей семьёй смотрели телевизор.
Мамины родители
Татаренко Василий Данилович (1912 – 17.08.1986) – участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Награждён Орденом Отечественной войны II степени. Сын раскулаченного богатого помещика из Малороссии. Бабушка Мария Ермолаевна Татаренко, (в девичестве – Жернова) – крестьянка.
Дедушка работал на шахте, а бабушка воспитывала детей и вела домашнее хозяйство: шила одежду, вышивала, вязала шали, шапки, варежки, носки из шерсти ангорских коз. Пекла самые вкусные на свете пироги, ватрушки, на Пасху – куличи, коврижки.
Слово «бизнес» тогда не знали, предпринимательство Советская власть «рубила на корню», но дедушка Вася умудрялся продавать на рынке плоды своего труда: овощи с огорода, фрукты с сада и бабушкины изделия: шали, варежки, носки. Он в шутку и всерьез говорил: «Покупаем только сахар и соль!».
Вспоминаю их дом: белоснежные скатерти, вышивки, подзоры на кроватях, покрывала с шитьем и кружево – все это было сотворено руками бабушки Маруси.
Однажды мои родители купили новую полированную мебель. Приехал дед. Разглядывал «харнитур», хвалил папу за дорогостоящее и нужное для семьи приобретение. Маме сделал аккуратное внушение:
– Валюша, мебель нужно накрыть скатерками, или, на худой конец салфетками, а то мало того, что дети могут порешить «дорогое имущество», так еще и в хате больно голо стало, как ровно, к побелке приготовились, поэтому все и посодрали…
Школьные годы чудесные
Учитель пения Геннадий Петрович
Он был высокого роста, играл на баяне и имел прозвище «Крокодил Гена». Говоря сегодняшним языком, «Крокодил Гена» был представителем «тульской диаспоры» в нашем поселке. Несложно догадаться о песенном репертуаре нашей школы. На «разминку» мы пели: «Ах, Тула, Тула, Тула, Ах Тула, Тула ты! Ах, Тула, Тула, Тула и с сыром пироги…». Потом «Помни про Победу эту, и смотри не забывай, как на поле Куликовом был разгромлен хан Мамай…». Завершали урок мы, как правило, песней: «Тула, Тула, люблю тебя я, Окон свет твой меня согревает, Город мой, я – частица твоя. И с тобою судьбу разделяю!». В середине урока, конечно, «проскакивали» песни и другого направления, но тема Тулы – этого главного и самого важного города в жизни «Крокодила Гены» была всегда в приоритете.
***
Наш класс на поселковом пионерском слете «грянул» песней «Тула веками оружье ковала, стала похожа сама на ружье. Слышится звон боевого металла, дремлют названия улиц ее: улица Курковая, улица Штыковая и Пороховая и Патронная, Дульная, Ствольная, Арсенальная. Улица любая – оборонная!»
После такого выступления нашу пионерскую дружину назвали «Тульским самоваром», а нас – «Тульскими пряниками». Елизавета Петровна Рябишникова, директор школы, после этого случая, видимо, сделала «Крокодилу Гене» внушение. После чего наш «оборонный» репертуар был разбавлен модной, по тому времени, геологической тематикой: «А ты пиши, мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке…»
Но иногда из какого-нибудь класса вдруг доносилась игра баяна и слышалась хорошо знакомая мелодия: «…Дульная, Ствольная, Арсенальная…».
Мария Яковлевна – учитель математики
С теплом и любовью вспоминаю Марию Яковлевну. Её уроки которой проходили под лозунгом: «Математика – гимнастика ума. Сделаем наш ум гибким, ловким и сильным!»
Она вбегала в класс на перемене и умудрялась еще до начала звонка начать урок. На парты раскладывала карточки с заданиями, на доске выписывала условия задач, примеры. Звенел звонок и математическое соревнование начиналось. Она требовала, чтобы ученики непременно выбегали к доске, не тратя «драгоценное» время на «вальяжное» передвижение. Решали примеры на скорость. Если кто-то не укладывался в отведенные секунды, то садился на место, получал штрафную «желтую карточку» и дополнительное задание к домашней работе.
Ученики, словно «математические спортсмены» друг за другом бегали к доске: на скорость решали задачи, примеры, возвращались за парту. Промедление для Марии Яковлевны было «подобно смерти». Она расценивала его как «кражу» драгоценного времени и награждала нерадивого «жёлтой карточкой» с примером или уравнением. Три «желтые карточки» по степени вины равнялись «красной карточке», несчастный обладатель которой получал дом дополнительную задачу. За первые двадцать минут урока Мария Яковлевна умудрялась опросить весь класс, поставить оценки и приступить к объяснению нового материала.
«Желтую» карточку можно было заработать, если не сумеешь повторить последнюю фразу «Марьи». Она принципиально не ставила двоек. Считала её «отсутствием всех присутствий» и давала шанс на исправление. Добивалась знания различными способами: вводила решение по карточкам, «отработки», «солидарную ответственность».
Мария Яковлевна была воодушевлена своим предметом, любила свою профессию. Это редкий дар. Но нам, по молодости и скудоумию, этот удивительный человек виделся «сухим», «бездушным», «нетворческим». Нам казалось, что она не интересуется ничем, кроме цифр, бесконечностей, логарифмов и интегралов.
***
Пролетели годы. Десятый класс. Последний урок математики. Мария Яковлевна входит в аудиторию и непривычно тихо усаживается за учительский стол. Просит нас поделиться своими планами на будущее. Все по очереди стали рассказывать. Дошла очередь до меня. Я сказала, что поеду учиться на экономиста.
– Очень жаль, – неожиданно произнесла Мария Яковлевна.
– Почему же? – удивилась я. До этого момента полагая, что одобрит мой выбор. Но ошиблась.
– Попробуй поступить во ВГИК, или ГИТИС! Театр, волшебный мир кино – это прекрасно! Если не получится, тогда со спокойным сердцем можно посвятить свою жизнь другой профессии, – неожиданно пояснила она логику своих рассуждений.
– Мария Яковлевна! Вы мечтали стать актрисой? – не поверив своим ушам, спросила я.
– Да. Поступала три раза на актёрский факультет. Не взяли…, – ответила «сухая» математичка. Улыбнулась своим далёким воспоминаниям и обратилась к следующему ученику…
Студенчество
Спортлото-82
Студенческие годы быстро проходят и навсегда остаются в памяти. Это время, когда молодёжь познаёт профессию, вырабатывает навыки отстаивать точку зрения и следовать своим убеждениям.
Мои годы учёбы в институте пришлись на время «кульминации эпохи кремлёвских старцев». В 1982 году умер Брежнев. К власти пришёл Андропов. У руля страны он пробыл недолго, всего 15 месяцев. Запомнился непримиримым борцом с тунеядцами и прогульщиками.
На предприятиях, в учебных заведениях ужесточились дисциплинарные меры. Проводились милицейские рейды, дежурили народные дружины – вылавливали бездельников.
***
Стояли последние тёплые дни сентября 1983 года. По-летнему грело солнце и манило на улицу.
В аудитории было нестерпимо душно.
– Оля! Мы с тобой, наверное, слишком "правильные": учимся, учимся, учимся… Позади первый курс! Чем он запомнился? Ничем. Институт, читальный зал, дом. Всё! Неужели, это наши лучшие годы?.. – с досадой произнесла моя подруга Таня и печально уставилась в окно.
– Что не так? – удивилась я. Для меня, для бывшего деревенского жителя городских развлечений было более чем достаточно: катки, кино, театры, студенческие фестивали.
– Это скучно и обыденно! Во всём этом нет нужной молодёжной энергии и куража! – вынесла суровый приговор подруга нашему досугу.
– Что предлагаешь?..– с недоумением спросила я.
– Давай сбежим с занятий! – запальчиво произнесла Таня.
Глаза у неё засияли, на лице появилась лукавая улыбка.
Идея мне не понравилась:
– Так просто, без уважительной причины, пропустить учебный день?
– Пропустить! – уверила констатировала она.
– Для чего тебе понадобилась это сумасбродство? – спрашиваю.
– Это не сумасбродство, а приобщение к «вольному» студенчеству! – гордо заявила Таня.
– Неужели, чтобы почувствовать свободу, нужно обязательно нарушать порядок? – недоумевала я.
– Не будь занудой! – пристыдила меня подруга, и, с упоением, продолжила, – Жизнь нужно наполнять яркими событиями! Именно они оставляют неизгладимые воспоминания! Нет ничего страшного, в том, чтобы вместо семинара сходить в кино, например!.. Посидеть в кафе, съесть мороженое. Что в этом плохого?
– А что хорошего? Фильм преспокойно можно и после занятий посмотреть, или на выходных, – не сдавалась я.

