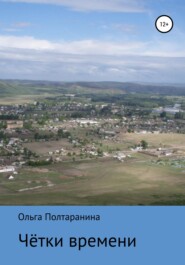 Полная версия
Полная версияЧётки времени
По сибирским меркам на момент утверждения Советской власти семья Аникея Федоровича и Евдокии Васильевны Полтараниных богатой не считалась: несколько коров с приплодом, 3 лошади, энное количество свиней, гусей, кур, уток…Огород в 50 соток и своя заимка с пашней под пшеницу и овес. Словом, семья среднего достатка, по тогдашней классификации…
Когда на единоличные подворья распространилась политика коллективизации, Аникей Федорович Полтаранин сопротивляться ей не стал. Против власти не пошел. Они вместе с женой сдали скотину в колхоз и стали колхозниками. В партию большевиков не вступил. Так, в архивной справке (которую много лет позднее отыскал дядя Ваня в Москве, когда разыскивал сведения об отце, ушедшем на фронт) значится, что «пропал без вести Полтаранин Аникей Федорович, беспартийный, колхозник». У Родителей бабушки Дуни – Сергеевых судьба сложилась трагично. Их раскулачили и выслали из Верх-Убы.
***
Справка: «Сергеев Василий Карпович и его жена Меланья – родители бабушки Дуни – оказались вместе с младшими детьми Капитолиной и Аверьяном в Риддере (4-й район, Ульбастрой; при Советской власти – Лениногорск, Восточно-Казахстанская область). Меланья умерла в 1944 году. Василий Карпович пережил жену на 12 лет».
Пистимея
Приход Советской власти принёс беду в жизнь старшей сестры бабушки Дуни – Пистимеи.
***
Справка: «Совсем молоденькой ее выдали замуж за сына попа Емельяна Козлова. В браке у Пистимеи родилось четверо детей – три дочери и сын. В 1927 году умер ее муж, годом ранее – свекры. Вдову с малолетними детьми безбожные власти изгнали из собственного дома. Новые хозяева, из сострадания, позволили им какое-то время пожить в подвале. На помощь Пистимее пришла сестра Авдотья (наша баба Дуня), у которой к концу 20-х годов было уже четверо собственных детей. Две-три зимы две большие семьи ютились в одном доме-связи.
Позднее, старшие дети Пистимеи – Лена и Трофим – в награду за ударный труд в колхозе «Гигант пятилетки», где-то в начале 30-х годов, получили крохотный деревянный домик – холодные сени и одна комната с печью. А еще была поветь для хранения сена, где летом можно было отдыхать днем и ночевать. Так они и жили до 1962 года, семь человек в одной комнате.
В 1962 году на деньги, вырученные от продажи домика и накопленные в течение многих лет, купили новый, более просторный дом с большим огородом, спускавшимся прямо к реке Маралихе. Дом этот сгорел в ночь на 16 декабря 2012 года.
Сын и невестка бабушки Пистимеи умерли от туберкулеза, оставив ей малолетнюю Раису (22.10.1946 г.р). Трагически погибла младшая дочь Пистимеи Феня (1956 г.), оставив на руках мужа Семена Козлова троих детей. Через три года трагически же погиб сам Семен. Дети остались сиротами. Пистимея какое-то время опекала и их. Две другие дочери Пистимеи – Лена и Агафья растили своих детей-полусирот: Евдокию (дочь Лены, 14.03.1948) и Люсю с Сашей (дети Гани).
…Агафья Емельяновна 7 лет перед войной прожила вместе с мужем Иваном Андреевичем в Риддере. Там родилась дочь – Люся (15.08.1936). Сын Саша родился 02.09.1938 на подходе к Секисовке, в первом попавшемся доме (Ганя пешком шла тогда из Верх-Убы в Лениногорск). Ганя с детьми вернулась в Верх-Убу в 1942 г., сразу после отправки мужа на фронт, много лет работала в ветлечебнице санитаркой. За гроши выполняла самую черную работу. Затем за гроши же мыла посуду в совхозной столовой».
История фамилии
Наша фамилия имеет корень, происходящий из названия профессии – «полтаранов».
В России в период XVI – начала XIX веков существовал способ сухопутной передислокации морских/речных судов методом «волока», с участием так называемых «полтаранов» – специалистов в процессе волочения судов.
Транспортировка судов/фрегатов сухопутным путем имела высокую себестоимость и потому к «волочению» прибегали только в определенных случаях, например, при подъеме небольших плоскодонных судов. Чаще всего «волочение» как способ передислокации судов, фрегатов использовался в период военных кампаний.
Петр I, например, во время боевых походов, несколько раз прибегал к переброске кораблей к месту непосредственных действий сухопутным способом, методом волочения.
Постепенно, с ростом технического прогресса, профессия «полтараны» стала использоваться все меньше и меньше. Вышла из употребления к середине 19 века. Вместе с ней утратило значение слова «полтаран».
Существует также версия, что наша фамилия произошла от слова «таран». Тараны – часть орудий военных фрегатов, предназначенных для пробивания бортов судна врага. Таранами назывался и сам тактический приём атаки морского боя.
Персонал кораблей, отвечающий за эффективность нанесения ударов в боковую или подводную часть вражеской флотилии с целью ее потопления или дальнейшего захвата, назывался «таранами» или «полтаранами», в зависимости от специфики выполняемых операций или действий.
Старшина Владимирской волости
Семейство Полтараниных участвовало в управлении селом. Об одном из наших уважаемых предков мне рассказывали бабушка и папа. В период работы над этой книгой эту историю мне напомнил дядя Ваня, который, в свою очередь, узнал её от нашего односельчанина – Василия Мартыновича Полтаранина.
***
Справка: «…Родной дядя Аникея Федоровича Полтаранина – Прохор Васильевич Полтаранин (см. родословную семейства Полтараниных) был волостным старшиной – должность значительно более высокая, чем просто староста, поскольку включала в обязанности управление экономическими и политическими вопросами не только одного села – (Верх-Убы), но и дела всей Владимирской волости.
…Однажды (дело происходило в 1922 г.) в его дом нагрянули активисты из бедноты и начали грабить имущество. Делалось это в высшей степени бесцеремонно. Все происходило на глазах у Прохора, теперь уже бывшего волостного старшины, и его семьи. Сердце Прохора Васильевича не выдержало, горлом пошла кровь и его не стало.… Узнав, что хоронят бывшего волостного старшину, колчаковцы, которые на несколько дней задержались в окрестностях Верх-Убы, по дороге в Китай, отсалютовали залпами из ружей – стреляли вверх, как и положено: провожали в последний путь волостного старшину…»
Верхубинское общество
Справка: «В конфессиональном отношении, верхубинское общество (мир) было неоднородным. На протяжении длительного времени, вплоть до 1917 года, в Верх-Убе легально действовали три православных церкви: официальная (синодальная) поповская, старообрядческая (беглопоповское согласие) и так называемая единоверческая. Последняя являла собой своеобразный мост между официальной церковью и старообрядцами.
У старообрядцев – сторонников беспоповского согласия были молельные дома, количество которых соответствовало числу толков. Таковых в Верх-Убе было с десяток, а то и более: федосеевцы, гусляковцы, филипповцы, австрийцы (белокриничане)…Толки могли какое-то время сосуществовать. Потом одни сходили со сцены, другие, наоборот, укреплялись – все зависело от авторитета вероучителей (наставников).
С конца XIX века господствующим у старообрядцев Верх-Убы стал поморский толк. Все требы у них выполнялись выборными (из числа мирян) людьми, грамотными в церковном отношении. За жесткость в требованиях по выполнению церковных установлений их прозвали самодуровцами.
Различия между синодальным православием и старообрядцами касались, прежде всего (и главным образом), обрядовой стороны. У старообрядцев, например, крест обязательно должен был быть восьмиконечным, у христиан-поповцев и единоверцев – четырех- или шестиконечным. Молились старообрядцы, используя двуперстие; православные-поповцы и единоверцы были «щепотниками», то есть использовали троеперстие. Были и другие различия.
В ходу у верхубинцев (и не только у них) были слова «кержак» и «чалдон». Они отражали принадлежность «поляков» к местам изначального выхода. Кержаки ассоциировались с бассейном р. Керженец, что в Нижегородской губернии. Чалдоны были выходцами из поселений, располагавшихся по берегам рек Чал и Дон.
Неверхубинцы, скажем, горожане, нередко придавали этим словам иронический или даже ругательный смысл: «У-у-у, чалдон (кержак) упрямый!», но сами старообрядцы носили звание кержаков или чалдонов с гордостью».
***
Верхубинцы придерживались традиций, заложенных предками: девушка замуж не могла идти за представителя другой конфессии. Хоронили православных и старообрядцев на разных кладбищах.
Жизнь в нашем селе имела строгие правила. В период до прихода Советской власти за соблюдением норм поведения сельчан следил Совет Старейшин. Силовой структурой села ведали казаки. Общественными, экономическими и политическими делами управлял староста – избираемый всем селом самый уважаемый человек.
Наказывали за провинности жестко – плетьми. Воровства не было. Но, тем не менее, бабушка Дуня рассказывала, что на ее памяти проворовавшегося сельчанина два раза предупреждали на суде Совета Старейшин, а на третий раз повесили на глазах у всех посредине площади. Доверие сельчан друг к другу было полным. Замков не было. В петельки дверных косяков вместо замков в мое еще детство земляки втыкали деревянные само соструганные колышки, привязанные к веревочке, чтобы двери «ветром не распахывало».
Отдельного внимания требует пояснение что такое «Помочь» в Верх-Убе. «Помочь» – это кержацкий обычай помогать попавшему в беду собрату: погорельцу, тому, кто пострадал во время половодья, или вследствие другой беды. Со временем помогать стали не только попавшим в беду, но и попросившим о помощи уважаемым сельчанам в строительстве дома, перестройке крыши и т.д.
«Помочами» был построен и дом моего детства, когда папа обратился за помощью к сельчанам.
Дни «Помочи» подгадывали так, чтобы они не совпали с посевными, уборочными работами, косьбой, праздниками. На «Помочь» шли всем селом и стар и млад. Всем находилась работа: кто готовил еду на всю «Помочь», кто с ребятней управлялся, кто плотничал, подносил, клал кирпичи, стругал доски. Дома ставили быстро.
Я любила эти веселые и добрые дни, когда ребятня носилась по улице, а «Помочь» трудилась, строила дома, готовила на улице еду, сооружала стол. До заката играла гармонь.
Уклад верх-убинской жизни, обычаи и традиции кержаков революция уничтожить не смогла. На Пасху и Рождество пекли пироги. На Родительский день ходили на кладбище. Праздновали уборку урожая на Покров. На «Красную горку» играли свадьбы. Новая власть и поддержавшая её беднота «экспроприировала» что хотела, в первые дни, помахали пистолетами, а дальше жизнь потекла своим чередом. «Лучше мир худой, чем война» – рассудили сельчане и стали жить дальше.
А дальше была война…
Из нашей семьи на войну в разное время призвали деда Аникея Федоровича и трех его старших сыновей: Петра, Михаила, Андрея.
Бабушка Дуня осталась с тремя младшими детьми: Трифоном (12 лет), Артёмом (10 лет) и Иваном (2 года).
…На фронт ушли наиболее трудоспособные и квалифицированные кадры. Для нужд фронта были мобилизованы все ресурсы, оставшиеся на селе: машины, трактора, лошади. В тылу, на местах, мужчин заменили женщины и дети. Когда по всей стране развернулось движение по сбору тёплых вещей для Красной Армии, верх-убинцы стали активными его участниками, организовав в клубе пункт приёма. На целую пятилетку стали жить, как и вся страна, под лозунгом: «Всё для Фронта, всё для Победы»!
Климат в Рудном Алтае суровый – Сибирь. Зимой температура падает до минус 50 градусов. Лето короткое, иногда жаркое, иногда дождливое. Верх-Убинские земли принадлежат бассейну реки Убы: рощи, луга, степи, с утесами и ущельями, горные хребты, обросшие тайгой. Сельское хозяйство в период Великой Отечественной войны было еще совсем слабо механизировано – сплошной ручной труд. Техника в колхозе, когда ушли мужчины, почти вся скоро подлежала ремонту, который делать было некому. Рожь, пшеница, овес, подсолнечник, гречиха, овощи – всё это добывалось женщинами, детьми, стариками в жесткой схватке с природой и шло на фронт.
Во время войны в Верх-Убе было много эвакуированных. Бабушка Дуня приютила у себя женщину с ребенком, ленинградцев, по фамилии Чайковские. После войны, вплоть до самой смерти, бабушка получала посылки из Ленинграда, письма благодарности.
Держал оборону под Смоленском, наступал под Великими Луками
Справка: «Полтаранин Аникей Федорович был призван в армию в феврале 1942 г. Долгое время о его военной судьбе не знали, лучше сказать, ничего не знали. В письмах домой он сообщал, что находится в обороне. Но где проходила линия обороны? Почему он «замолчал» с января 1943 года?
Работая в ЦАМО (Подольск) в июле 1978 г., я установил, что с июля 1942 г. он служил в 17 стрелковом полку 32 Верхне-Днепровской Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии. Был заместителем командира отделения 3 минометной роты, сержантом. С сентября 1942 года дивизия, а, стало быть, и полк, находились в обороне в Слободском районе Смоленской области. В Журнале боевых действий полка, названы все населенные пункты, через которые проходила линия обороны.
В январе 1943 г. дивизия была включена в состав 3 ударной армии под командованием генерал – полковника Галицкого, перед которой была поставлена задача сковать действия немецких войск в районе Великих Лук и исключить возможность их переброски под Сталинград, где в это время шли ожесточенные бои (Сталинградская битва). 26 января 1943 года отец был ранен в районе деревни Печище. Некоторое время лечился в медсанбате, потом вместе с 550 ранеными был исключен из списка полка и отправлен на долечивание. Но ни в один из госпиталей, однако, не доехал. Версия: транспорт с ранеными попал в засаду и был уничтожен, либо его разгромила вражеская авиация.
Нашими общими со Светланой Михайловной усилиями память об Аникее Федоровиче увековечена: его фамилия и инициалы высечены на мраморной стеле на одном из воинских кладбищ Великих Лук. В «Книге Памяти» по ВКО (Восточно-Казахстанской области) он значится как погибший».
***
«Нет в России семьи такой,
Где б ни памятен был свой герой
и глаза молодых солдат
с фотографий увядших глядят.
Этот взгляд, словно высший суд
для ребят, что сейчас растут…»
***
Дядья
Про войну мои дядья говорить не любили. «Вытащить» их на откровенный разговор по этой теме было невозможно. Помню, как-то раз, когда я особенно приставала к дяде Пете, он мне сказал, что про войну тяжело рассказывать: кровь, смерть, грязь, пот, слезы, утрата… Я больше и не спрашивала. Когда собирались дядья, всегда слышались шутки, смех. Говорили о чем угодно, только не про войну. Света (дочь дяди Миши), что ее отец даже фильмы про войну не смотрел – уходил в другую комнату. Я росла в окружении семей родных братьев папы. Для меня они останутся в памяти учителями, гордостью, совестью.
Дядя Петя
Справка: «Петр Аникеевич. Дважды призывался в армию. Первый раз в 1938 году, чтобы не отстать от друзей, призванных в этом году на действительную службу, прибавил себе два года. После года службы вернулся домой. Когда началась ВОВ, подал заявление с просьбой отправить его на фронт. Просьбу уважили. Служил в 90-м пограничном полку, подведомственном НКВД. Полк в годы войны выполнял особо важные задания, в том числе по охране рубежей страны. В апреле 1945 года был награжден двумя орденами Красной звезды, но о наградах ничего не знал.
Работая в наградном отделе Главного управления кадров Министерства обороны в июле 1978 года, я нашел документы, подтверждающие факт награждения брата. По моей просьбе сотрудники отдела отправили соответствующую бумагу в адрес Командующего Среднеазиатским ВО генерала армии Лященко. Вскоре в горвоенкомат пришли наградные документы и сами ордена. На брата внезапно (!) обрушилась слава: его приглашали для выступлений перед учащимися и студентами, в рабочие аудитории. Однажды, ему предоставили микрофон на областном радио. Жаль, конечно, что понадобилось 33 года, чтобы награды нашли героя. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. К одному из юбилеев Победы, он получил орден Отечественной войны II степени.
Добавлю к сказанному, что в послевоенные годы, Петр Аникеевич боролся с бандформированиями в Прибалтике. Демобилизовался в 1949 года, в звании «лейтенант». На большее он не мог рассчитывать в силу своей малограмотности. Но почерк у него был что надо!»
Дядя Миша
Справка: «Михаил Аникеевич родился 19 июля 1924 г. В июне 1942 года, за месяц до 18-летия, был призван в армию. До 1943 года воевал в составе 16 армии под командованием К.К. Рокоссовского. С 1943 года – в 17 гвардейском стрелковом полку 5-й гвардейской стрелковой дивизии, 11-й гвардейской армии под командованием И.Х. Баграмяна. Далее воевал на разных фронтах, до победоносного завершения войны. Дважды был тяжело ранен. Солдатом он был храбрым, о чем свидетельствуют его награды: 3 ордена Красной Звезды, ордена Отечественной войны I и II степеней, 10 медалей. Кадровый военный. Войну закончил лейтенантом.
После войны, он, заочно, отучился в Львовском военно-политическом училище и Военно-политической академии им. Ленина в Москве. Служил в разных городах Украины и России. Привожу географию мест его службы (без указания точной хронологии перемещений):
Украина (вторая половина 40-х гг.– начало 50-х гг., конец 50-х гг. – начало 60-х гг.): Черкассы, Киев. Кировоград.
Россия (50-е гг.): города Калинин, Каменка, Пензенской области, Москва, Тоцк-2.
Германия – г. Нейруппин. 5 лет службы в Группе советских войск.
Вернувшись из Германии в 1966 году, примерно год служил в Саратове. Потом был комиссован и вернулся в Кировоград. В Киеве он был помощником начальника Политуправления КВО по комсомолу. В Кировограде и Нейруппине возглавлял политотделы ракетных бригад. На завершающем этапе службы был замначальника политотдела Саратовского высшего училища ракетных войск.
Если бы не болезнь вследствие тяжелейших ранений (одно из которых – в голову), полученных на войне, он обязательно бы стал генералом. Ушел в отставку в 1968 году в звании «полковник» (по состоянию здоровья). После в течение 20 лет преподавал в Кировоградском ГПТУ (вел право). Его статьи публиковались в газете «Красная звезда» (я их читал), в республиканской и местной прессе. При другом стечении обстоятельств из него мог бы получиться талантливый ученый или журналист. Еще один штрих: в школьные годы вел дневник. Я долго хранил несколько толстых общих тетрадей с его записями характерным почерком…»
***
Свою жизнь Полтаранин Михаил Аникеевич отдал служению Родине. Умер в 2001 году, похоронен в г. Москва. Его дети, внуки и правнуки живут в Москве.
Воспоминания Светланы Михайловны об отце
«Мой отец оставил, в моих воспоминаниях, светлую память. Помню его с 3 лет, когда мы жили в Киеве. Он много работал, занимая ответственные должности, приходил поздно, когда я уже засыпала, но всегда подходил к кроватке, обнимал и целовал. Помню, как шли с ним в школу за руку, в первый класс и потом, когда пришлось сменить несколько школ, в связи с переездами…Он постоянно следил за моими успехами в учебе. В школах, где нам с Колей доводилось учиться, его очень уважали: он приходил на помощь, например, с автобусом, чтобы дети смогли поехать на экскурсии. Детство и юность у меня и моего младшего брата Николая было, благодаря отцу, безоблачным и беспроблемным, несмотря на Хрущевскую оттепель, с перегибами в политике и Брежневским застоем, когда был дефицит всего и вся.
С папой можно было поговорить обо всём, он был эрудированным человеком, хорошо разбирался в политике. Многие обращались к нему за советом и помощью. После отставки папа преподавал предмет «Советское право». Занимал активную гражданскую позицию, писал статьи в газеты, журналы.
Папа дорожил семьей, любил нас с братом, внуков. К старшему из них – Александру – у папы было особенное отношение. Он много общался с ним. До сих пор, Саша хранит назидательные письма, полученные им от деда. Юля, Колина старшая дочь, приезжала к бабушке и дедушке из Москвы, на лето в гости. С младшей, Олей, папа тоже успел пообщаться, когда они с мамой переехали в Москву. Он старался уделить всем внукам внимание: играл, просвещал, гулял во дворе.
Папа любил и ценил маму, как преданного до конца его дней человека, как заботливую жену, хорошую хозяйку, красивую женщину. Папа любил и уважал свою матушку, братьев с их женами и детьми. Он ждал писем от родных, с удовольствием перечитывал их, радовался успехам братьев и племянников.
Папа восхищался деловитостью и трудолюбием Трифона, который помимо руководящей работы, завел пчел и сам трудился, как пчёлка. Для папы был праздник, когда кто – то из братьев приезжал к нам в гости. Папа был святой человек, потому что никогда никого не осуждал, ни с кем не спорил и не конфликтовал. Он не обижался ни на кого, не помнил зла, не гордился, даже своими наградами и званием! Под конец жизни, папа сказал, что верит в Бога и надел крестик, как и положено христианину».
Дядя Андрей
Справка: «Дата рождения Андрея Аникеевича – 13 декабря 1926 года. Призван в армию в декабре 1944 г., по достижении 18 лет. Принимал участие в освобождении Кореи от японских захватчиков. Корейцы наградили его какой-то своей медалью, но она не сохранилась. После войны еще 8 лет служил на Дальнем Востоке. Дяде Ване запомнилось название поселения, где дядя Андрей жил с первой женой – Манзовка. Демобилизовался дядя Андрей в 1953 г. Работал в райкоме партии, замполитом в СПТУ в Выдрихе, совсем немного (примерно год) в Верх-Березовском ГПТУ.
Был парторгом в совхозе «Ждановский». Андрей более двадцати лет своей жизни (с 1969 по 1990 год) посвятил детям, работая учителем истории в родном селе, в Верх-Убинской средней школе. Имел звание отличника просвещения Казахской ССР. В 1990 году вышел на пенсию по возрасту. Умер в 1998 году в возрасте 72-х лет. Похоронен дядя Андрей рядом с матерью, бабой Дуней, в Верх–Убе на нашем "старообрядческом кладбище".
Однажды дядя Андрей у меня, у шестиклассницы стал спрашивать даты важнейших исторических событий. Я их плохо не знала. Путалась. Не могла ответить ни на один вопрос, а потом, желая выкрутиться из неловкой ситуации, сказала: «Зачем мне Ваша история? Сказки про то, что давно прошло. Вот математика – нужная наука. Лучше по ней меня спросите. А на вашу историю у меня нет времени».
Дядя Андрей посмотрел на меня строго и укоризненно произнёс: «Можно изучить тысячи наук и быть безграмотным, не зная истории. Не любить историю может человек, совершенно не развитый умственно. Так сказал Чернышевский Н.Г., Оля, задумайся над этим…»
Дядя Андрей больше никогда на эту тему со мной не беседовал и дат не спрашивал. Мне было стыдно за глупость, лень и обиду, нанесенную дяде. Но прощения у него я так и не попросила.
Спустя годы, накануне моего поступления в институт, дядя Ваня проверял мою готовность к экзамену по истории. Много спрашивал. Похвалил. Я рассказала ему о том давнем диалоге с дядей Андреем.
Дядя Артем
Справка: «После школы до призыва в ряды Советской Армии в 1950 году работал старшим пионервожатым в Верх-Убинской школе. Служил в Армии, в Украинской ССР, в городе Станислав (ныне Ивано-Франковск). Демобилизован в звании офицера (лейтенантом) в 1952 году.
В Верх–Убе в период 1952 – 1956 гг. работал заведующим сектором учета Верх–Убинского райкома комсомола. В 1956 году был избран Первым секретарем Верх–Убинского райкома комсомола и проработал в этом статусе пока не получил в 1959 году направление в Высшую Партийную Школу при Центральном Комитете Компартии Казахстана, где проучился четыре года.
В период 1963–1965 гг. Артем работал парторгом на Иртышской опытной станции в Павлодарской области. В период 1966–1975гг. работал в МВД КазССР в отделе политико–воспитательной работы (Алма-Ата). В 1976–1985гг. служил в г. Курчатов (ядерный полигон с тогдашним почтовым адресом Семипалатинск–21).
В период 1985–1995гг. Артем служил в Восточном управлении внутренних дел на транспорте (Алма-Ата). В 1995–1998 годах, будучи уже на пенсии. Артем состоял в службе безопасности Бурундайского аэропорта. На пенсию Артем вышел подполковником. Умер 11 февраля 2012 года».
Воспоминания Татьяны
Артёмовны
«…Люди, которые когда-либо встречали папу по службе или были знакомы с ним, отзывались о нём как о человеке высоко порядочном. Когда папы не стало, со всех уголков бывшего Союза, маме звонили с соболезнованиями его сослуживцы и подчинённые. Люди узнавали о нашем горе и спешили выразить сочувствие и поддержку.

