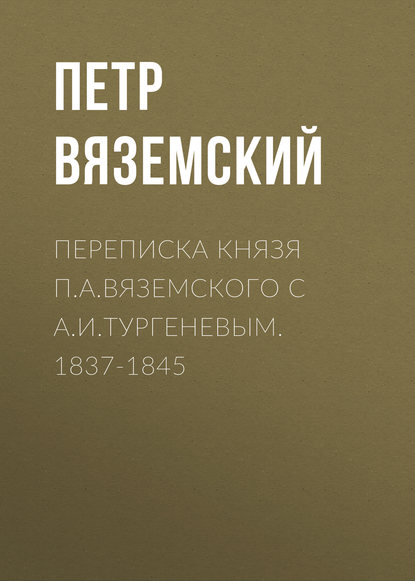 Полная версия
Полная версияПереписка князя П.А.Вяземского с А.И.Тургеневым. 1837-1845
На обороте: Его сиятельству князю Потру Андреевичу Вяземскому.
904.
Князь Вяземский Тургеневу.
25-го декабря 1842 г. [Петербург].
Все дела хвои исполнены и даже переполнены с успехом и избытком, потому что дано тебе тридцать шесть копеек на водку. За пряжку твою уплачено три рубля серебром, что составляет на ассигнации десять рублей с полтиною, а не 36 рублей, как ты пишешь. Хорошо ты счет знаешь! Эти три рубля серебром заплачены мною в задаток процентов на мой долг и с особенным удовольствием, что у тебя пряжка тридцатилетняя, а у меня только двадцатилетняя. Доставленные тебе бумаги управителем Валуева отданы мне были на днях Старчевским, а письма не было. Он, может быть, определится к Шувалову парижскому, а казенного отправления ему не будет.
Читал ли в «Revue des deux mondes» статью Marinier о России, изрезанную цензурою? Довольно мелко и бледно. Видно, что ему хотелось не раздразнить ни нас, ни парижский журнализм, а это лучший способ не угодить ни той ни другой стороне.
Княжна Софья Мещерская отправилась к Мещерским. Она тебя очень любит и говорит, что ты стал очень добрый и порядочный человек.
Здесь только и толков, что о бале Анатоля Демидова, на коем были: государь, великие князья и великая княгиня с дочерьми. Был, говорят, и Греч. Демидов так напуган парижским журнализмом, что и здешнему подличает.
Перовской, слава Богу, лучше. Обнимаю!
905.
Тургенев князю Вяземскому.
30-го декабря 1842 г. Москва.
Спасибо за скорое и переполненное исполнение поручений. еду получать сумму, но прежде несколько слов: Marmier читал полного и удивился, что он не plat-pied. Взгляд довольно верный на высшее общество ваше и на другие элементы. Писано без желчи, но и дельно. Жаль старика Пол., хотя и потешился каламбуром; по разве старость не давала ему права на товарищество с князьями Г… Прежний Пол. имел иные права, и я сердечно жалею о нем или о совете. Каков он (то-есть, Пол.)? Пожми у него за меня руку.
еду к выздоравливающей кн. Елене Мещерской слушать коммеражи. Скажу на ушко покуда, что княжна Наталья Николаевна Трубецкая идет за молодого богача Пушкина, которого обманул совестный судья или предводитель дворянства Небольсин дочерью. Я угадал их в мазурке, а теперь дело улаживается.
О княгине Трубецкой, урожденной Гудович, худые вести из Парижа. Отец в письме к Дохтурову велит готовить сестру её к самому худому известию: жаль, очень жал ее.
Пожалуйста, пошли сказать Старчевскому, чтобы он написал ко мне: все ли ко мне выслано или только часть переписываемого в Берлине? Мне нужно это знать скоро и аккуратно для отправления бумаг в Петербург. Попроси его написать и о первом томе моего собрания, для Шведского короля оставленном: послан ли он?
Да что же ты не посылаешь «Фонвизина?» Я, кажется, писал к тебе, что назначаю его для перевода Жюльвекуру, который сочетает тебя с другою современною знаменитостью и издаст особо, как издал Пушкина и Павлова. Он через месяц будет здесь, как жена обещает, напоминая мне о статье твоей. Да нет ли у тебя чего и другого? Давно бы Жюльвекуру взяться за переводы. Правда ли, что Владиславлев напечатал статью Орлова? Она принадлежала мне: Орлов дал мне ее для Парижа, то-есть, для Талейрана и пр. Но это единственная вещь, которая пропала из всего, что я посылал в Париж, так как и письмецо мое к герцогине Дино (ныне Талейран), при котором я послал ее ей и дядюшке – только; и Орлов не верил мне, чтобы оно пропало но дороге, а точно так.
Тульская губернаторша приглашает меня и Хомякова на бал: и-ич» января в Тулу, к какая красноречивая записка! Мы
должны сопровождать Е. Л. Свербееву. Не съездить ли? В Тверь и в Тихвин во время оно езжал: в первую – для «Истории» Карамзина, в другой для… и провалился в пошевнях ночью, очутился в лесу, в снегу, в бальном костюме, но поспел к докладу духовных дел на Фонтанку. Fuimus, милый Вяземский!
На обороте: Его сиятельству князю Петру Андреевичу Вяземскому. В С.-Петербурге.
906.
Князь Вяземский Тургеневу.
31-го декабря 1842 г. [Петербург].
Бывало и, помнится, из Мещерского (деревни Кологривовых, в Саратовской губернии) писал я тебе большие письма в первый день года. Ныне больших писем уже не пишу, потому что не умею писать, и что внутренняя чернильница высохла и подернулась плесенью. В новый год также не пишу, потому что это день торжественный, день надежд, день живоносный, а пишу в последний день года, потому что это день кончины, день воспоминаний, а я человек прошедшего, человек прошедший, а не человек грядущего ни в сердечном отношении, ни в политическом. Мое грядущее одна смерть, а жизни в нем уже нет ни в каком отношении. Вот разница моя с тобою: я сижу при элегии и даже при эпитафии, а ты все еще в дифирамбах обретаешься. Ты похож на Скобелева (Honny soit qui mal y pense), который говорил мне, что написал новую комедию, в которой все порыв, все порыв, все порыв! А я уже надорвался. Как бы то ни было, нежно и сердечно обнимаю тебя в этот прощальный день в память нашего прошедшего, которое сольется с вашим будущим, пока будущее для нас протянется.
Плетнев просит у тебя насущного хлеба для «Современника», хотя хлеба и давнопрошедшего, потому что твой хлеб не черствеет. Он говорит, что целые ночи просиживал за переписыванием твоих писем в надежде поживиться ими, а ты все у него выхватил бесчеловечно.
Поцелуй за меня ручку у Свербеевой и у Зубовой: вот тебе мой подарок на зубок для нового года, а губы твои всегда свербят целоваться, следовательно ты исполнишь мое поручение с любовью и послушанием.
1843.
907.
Тургенев князю Вяземскому.
7-го января 1843 г. Москва.
Милое прошлогоднее письмо твое навело на меня грусть и усилило мою к тебе привязанность за прошедшее, которое для нас должно быть вечно. Мы не так сильно разнимся и в настоящем; порывы мои умеренны и принадлежат более сердцу, вечно юному в некоторых отношениях, чем жизни наружной и всем видимой. Я не разлюбил и не разлюблю тебя и в настоящем, хотя и тебя, и себя не совсем осуждаю в прошедшем. И я умираю ежедневно для света и в теперешней московской жизни или в порывах вижу только минутные проблески, кои скоро погаснут, вероятно, на еки, если не оживут в постоянном занятии и в осуществлении минувшего на бумаге. Я сам себе здесь иногда удивляюсь, но успокойся: не радуюсь собою. Твой взгляд на жизнь хотя и грустен, но не мертвящий. Помешали!
Хотел сегодня послать к тебе переписанную и отчасти просмотренную тетрадь писем моих для «Современника», но помешали. Я давно отдал оригинальные письма двум дамам-борзописицам и надеялся успеть пересмотреть и послать к тебе, но вот уже более двух месяцев держат они – и не кончили. Одна прислала несколько листов; в них лекции Ампера и Мицкевича: почти все на французском. Кто переведет их? Мне некогда и трудно. Издатели «Современника» не могут хорошо перевести: как же отвечать за перевод? Мицкевича всего и не пропустят, а весь интерес в сих лекциях. Пошлю сегодня же к другой даме и вышлю всю тетрадь, но надобно ее исправить и пополнить, и сократить. Право, я и для Плетнева, и для себя желаю этого, но в настоящем виде показаться в свет невозможно. Что успею, то сделаю и пришлю.
Можно бы из писем брата кое-что выбрать: о Ламенне, о Мицкевича лекциях, но не пропустят, а о монашестве Берсье уже в «Allgemeine Zeitung». Пересмотрю письма, можно ли прислать рассуждения о крестьянах из писем – против Хомякова, Татаринова и прочих? Говорят, что запрещены. Поручения твои к Свербеевой и Зубовой почти исполнил.
Прикажи Старчевскому отвечать мне. Спроси его:
1) Должен ли я послать, например с князем Иваном Гагариным, экземпляр моих «Актов» в Берлин на место того, который назначался Шведскому королю?
2) Пришлет ли еще или все прислано в тетрадях, мною полученных?
3) Для чего он о них ни слова и ни слова на мои запросы?
На обороте: Его сиятельству князю Петру Александровичу Вяземскому.
908.
Тургенев князю Вяземскому.
11-го января 1843 г. Москва.
Все еще не могу переслать копии моих писем – et pour cause: она не сделана. Мне прислали шесть страниц переписанных, обещая другие скоро и продержав сверку тобою пересланных около четырех месяцев; а я и сердиться не смею, хотя очень, очень досадно. Теперь не знаю, к кому и обратиться, ибо слова в прилагаемой записке: «il faut que je les rélise» – пустое: ничего не переписано, иначе бы прислали. Самому переписывать ни сил, ни глаз не достанет. Другой копиист переписал тетрадь, но в ней большею частью лекции Мицкевича, коих не напечатаете, а Ампера не переведенные, но и худо переведете, да и труд велик. Но для своего оправдания перешли их, по пересмотре, сегодня или после завтра. Вымаранное карандашом никак не печатайте. Впрочем, я не знаю, не было ли уже извлечения из сих писем в «Современнике».
Благодарю тебя за Старчевского: он о тебе пишет, как я о тебе думаю и чувствую. Я бы желал, чтобы дело с графом Шуваловым уладилось. В Париже я бы открыл ему более источников русской истории, нежели где-либо, особливо по сношениям с Польшей. Библиотека королевская очень богата, хотя многое уже и напечатано. Я буду хлопотать и у здешнего архивиста, князя Оболенского, но на него плохая надежда: он сам компилятор, да что-то мне и не по сердцу, хотя и очень был ласков. Другие Оболенские с ним не знаются. Жалованье архивское малое, а своего Оболенский не даст, вероятно. В Париже же Старчевский может и образование свое кончить, и трудиться, и жить с пользою для себя и для других. Я писал к нему сегодня письмо на его имя.
Князь Гагарин едет на этой неделе в Берлин: пишу и посылаю с ним в Париж многое. Он Москвой пресытился и хочет перевести дух на европейском воздухе, хотя и здешним дышал довольно приятно – в салонах. Старуха княгиня Щербатова, мать Свербеевой, очень больна, хотя и не опасно, но милые дочери не отходят от неё; все от хлопот, о коих узнаешь после. Вчера, как и каждый вечер, засиделся и заужинался на вечеринке. Графиня Салиас-Турнемир (Сухово-Кобылина) собрала весь блестящий мир; я любезничал с незнакомыми почти до двух утра. В четверг бал у княгини Луизы Голицыной, если дитя выздоровеет. Все дни взяты, и не в одном салоне: у меня à la lettre – на неделе семь пятниц! Поручения твои к двум милым кузинам исполнил. Но графиня Зубова в свет не показывается, только на пятницах Свербеевых улыбнется, как солнышко весною.
Что же ты не присылаешь мне своего «Фонвизина?» Хоть в листах? Да пошли его и к Мицкевичу, и к брату; у первого четыре парные листа. Я все в страшном беспокойстве за Клару: она мученица, да мы страшимся и последствий…
Какие славные стихи Павлова написала к мужу, хотя сама и отказывается от адреса. Пришлю, как скоро перепишу. И у них завтра начинаются вторники; а он очень комично, жалко участвуем, хотя и полуоффициально от князя Д. В. Голицына, рассматривая, за что берут и держат в полиции и в тюрьмах, и донося князю Голицыну.
Вот что пишут из Парижа: «Вчера слышал от Louis Blanc, что Берье хочет сделаться попом; Louis Blanc (автор «Истории десяти дней») хотел узнать: правда ли, и пошел к Берье, стараясь в его ответах на различные вопросы узнать, есть ли что справедливое в слухе, но ничего не узнал. Только одна фраза Берье могла дать подозрение. Видя, что ничего не идет так, как бы ему хотелось, он изъявлял некоторое отчаяние и сказал: «Après tout il n'y a rien à, faire qu'a s'enfermer dans un cloître!»
«Вчера я провел вечер у генерала П[епе] и видел там Lamennais. Сожалел, что он играл в шашки, не принимал участия в разговоре о предметах философии и богословия; но, напротив, под конец говорил о так называемых политических предметах, то-есть, рассказывал анекдоты о Louis Филиппе и тому подобные пустые коммеражи! «Il est tout à fait prêtre», заметил Мамиани[15], по уходе Lamennais. И подлинно, больно видеть этот великий талант, обращенный на столь мелкие предметы! Между анекдотами Lamennais упоминал, что Louis-Philippe, говоря о Канлере, сказал: «Que c'est la plus vile canaille, qu'il faut la gorger non d'écus, mais de gros sols et liards»; что герцога Немурский весьма прост и всегда «très embarassé quand il doit se montrer en public; qu'il en a des attaques de nerfs qui pourraient dégénérer en épilepsie»; что он во вражде с герцогиней Орлеанской. Вот какими дрязгами занимается первый писатель Франции!»
Мне пишут кое-что о книге «France et Russie».
На лекции Мицкевич, между прочим, говорил, что при восшествии на престол Иосифа II было рассуждаемо в Совете австрийском, каким императором Иосиф себя объявить должен: Германским или Славянским? Решено, чтобы продолжать быть германским. Я слышал только, что при Иосифе II рассуждаемо было о выгодах для Австрии принять какую-нибудь славянскую политику. В «Revue des deux mondes» – любопытные статьи о Черной Горе. Может быть, со временем Сербия и другие славянские племена будут играть роль в истории! Elles son civilisables. Сею только надеждою здешние славенофилы были бы не очень довольны, ибо они находят и теперь уже в славянщине все элементы цивилизации и будущего возрождения так называемой ими западной Европы.
Два часа последние.
Сейчас скончалась княгиня Щербатова. Я видел сына. Свербеева может плакать. Елагина не плачет.
909.
Князь Вяземский Тургеневу.
15-го января 1843 г. [Петербург].
Я не знаю, где живет Старчевский, но он, вероятно, у меня скоро будет, и я передам ему твои поручения. Поторопи своих переписерок и высылай скорее обещанное «Современнику». А между тем вот тебе чистое золото, чтобы пошарлатанить с твоими заграничными корреспондентами: любопытная статья, напечатанная в нашей, или моей «Коммерческой» (немецкой) «Газете». Присылай выписки из новейших парижских писем. Что можно, то и напечатаем, а прочее прочтем с любопытством. Что за монашество Берье? Я о том и не слыхивал. Он скорее пойдет в актеры, нежели в монахи. Пришли и рассуждения против Хомякова и других. Увидим, куда пойдут, и все-таки присылай.
Владимир Карамзин едет на днях в Москву, а ты приезжай с ним сюда: тебе надобно проветриться; ты слишком залежался. Обнимаю!
Прочти у Булгакова печальные вести. Повторять их не хочется.
910.
Тургенев князю Вяземскому.
[10-го января. Москва].
Мятлев проскакал здесь в Симбирск; единственный вечер провел он у Шепингов, заказав им слушателей для чтепия «Курдюковой». Они огласили соседям о чтении; собрались, кто успел, но я по отдаленности жительства не попал или не попался – как хочешь. Правда ли, что французский лежитимист на вопрос, что он делал в Петербурге, отвечал: «J'ai fait la cour à une dame de la sixième classe, à la quatorzième ligne». А чин, чай, щи – принадлежности трех классов народа русского: дворян, мещан и крестьян.
Читал ли приказ Бутурлина о ловле зажигателей?
Мы по прежнему живем – у Свербеевых, Ховриных, и теперь князь Гагарин здесь на подмогу, противу православных славенофилов.
Не получены ли три книги, в Париже вышедшие: 1) «Les mystères de lа Russie»; 2) Брошюра Яблоновского; 3) О славенизме?
Какова речь Mignet? Вели себе читать «Аугсбургские Ведомости» – и ничего другого из журналов, если не хочешь терять времени.
Пришлю стишки Тютчева в album пражского славенофила Ганки. Вигель во многих местах читает свои любопытные для русских и москвичей и пензистов записки; по многие и лучшие его чуждаются. Я утопаю сердцем и душою в салонах. Невест до полдюжины: одной – счастье на волоску, а все роман беды настроил. Был у Четвертинских: что за прелесть третья из девиц, кажется, Наталья! Перебьет и у маменьки, все еще прелестной под повязкою головной и все еще румяной на морозце.
Сейчас получил от Филарета критические замечания на берлинскую и сорбоннскую программы и на «Caractère du Christ» – статья posthume de monsieur de Broglio, у тебя бывшая. Умно и остро, и правоверно! Талант его, как писателя, и характер ума его напоминает Mignet. Не правда ли? Разумеется, он православнее французского отступника. Статья о Максиме, в «Москвитянине», кажется, Филарета.
Кланяйся княжне Софье Ивановне и скажи, что завтра первый вечер, по её отъезде, провожу у кн. Елены Мещерской, но ежедневно встречаю ее на булеваре и часто у Ховриных и всегда в моем сердце. Спешу на утренник к Чаадаеву, где и Рекамье-Свербеева с Елагиной, и собор антиславян, но булевара не миную.
Что же биография Фонвизина? Я частно видаюсь с выехавшей из Грузии Головиной, урожденной Фонвизиной: уже она не trembleur-ка и умная женщина, а у дочери черные глаза, и обе в грузинских кацавейках. Я сказал ей, что ты написал биографию дяди.
В воскресенье Вера (Анненкова) пригласила меня на Софью (княгиню Щербатову): обе полубольные, и мы втроем провели за полночь в воспоминаниях прежнего и в самой сердечной исповеди, какой я от них не ожидал. И я исповедывался искренно, по не без затруднения пред обеими вместе.
Приписка А. Я. Булгакова.
Так славно было запечатано ветренником, что распечаталось. Делаю особенный пакет. Я писал к тебе вчера. Тургенев сам завез письмо и газеты, велев сказать, что не выходит, спешит и очень желает меня видеть. Я все бегаю вниз с пером за ухом, как настоящий подъячий. «Где Александр Иванович»? А мне отвечают: «Изволил уехать». Экая ветренница! 10-го.
На обороте: Его сиятельству князю Петру Андреевичу Вяземскому. В С.-Петербурге.
911.
Князь Вяземский Тургеневу.
17-го января 1843 г. [Петербург].
Сделай одолжение, передай Свербеевой и Елагиной выражение моего глубокого соучастия в их скорби. Я сердечно любил и уважал княгиню Щербатову. Она была редко добродетельная и сильная характером женщина, примерная мать, перенесла с твердостью и самоотвержением много горя в жизни. Карамзина также сердечно ее оплакивает.
Письмо твое к Старчевскому отослано. Он еще здесь. Мой «Фонвизин», или печатание его лежит под спудом, или под красным сукном до возвращения Языкова. Теперь все мои утра принадлежат службе, и я не имею сторукой деятельности французов, которые на все поспевают. Попроси Павлову прислать мне её новые стихи. Ростопчина написала стихи на первый сон магнетический. Все паши дамы бредят магнетизмом с приезда Дюпоте, а более всех Софья Николаевна. Владимир Карамзин тебе все расскажет.
Я не имею никакого уважения к Ламенне. В нем есть дар слова, талант писать, то-есть, играть словами или на словах, но во Франции это немного значит, потому что письменная манипуляция доведена там до совершенства, так же, как и лингвопуляция. Но у Ламенне кривой ум, нет убеждения, нет веры ни религиозной, ни нравственной, ни политической. Все эти люди поцветугь и поблекнут, не оставив по себе никакого плода. Все нынешние споры, прения, системы то же, что старинные богословские состязания. В них не было никакой пищи для души, алкающей благочестия и спасения, и в нынешних нет никакой пищи для истинной цивилизации и благоденствия человеческого: все это des joueurs des gobelets et des joueurs des mots. Во Франции нужно на пять лет замереть типографии и трибуны. Из этой эпитемии молчания может возникнуть новая и прекрасная жизнь, не то Франция вовсе истощится от – , то-есть, от языкоблудия и – . Voilà mon avis au peuple; передай в Париже пророчество нового Тисеота.
Гагарин проедет ли чрез Петербург? Вчера было показалась у нас зима, а сегодня опять сплыла. Пока обнимаю.
912.
Тургенев князю Вяземскому.
22-го января. [Москва].
Свербеева читала твои строки о её матери в письме к Булгакову и благодарит тебя. Она и прежде не раз мне говаривала, особливо после её смерти, что ты будешь жалеть о ней, что ты всегда побил ее и любим был ею. Она все очень горька, хотя и начинает менее и мягче плакать. Вчера я обедал с нею и с милою графиней Зубовой втроем: я еще более полюбил их. Не могу и не должен скрыть от тебя – и пишу по воле других, что Оболенские очень оскорблены тем, что Карамзины не только в их салоне, но они сами обыграли молодого Оболенского, который для заплата долга должен был войти в долги. А чем и кто заплатит? Отец все знает и беден. Он занял у других, а и поездка его в чужие край не состоялась. Оболенские ожидали, что Карамзины сделают исключение для Оболенского и пощадят его неопытную молодость, из уважения по крайней мере к чувствам Екатерины Андреевны к семейству Оболенских; они уверены, что Екатерина Андреевна более всех огорчится сим, если узнает, и о ней жалеют более, нежели о проигрыше, хотя для Оболенского он очень чувствителен.
Вчера Владимир Карамзин гулял на булеваре, но я еще не встречал его. Признаюсь, что все, что слышу о них, меня так огорчает, что и от Петербурга еще более отталкивает. Покойся, милый прах отца! В салоне твоем ты не узнал бы своих.
Князь Трубецкой показывает, что яко бы сердится, что я преждевременно уведомил тебя о помолвке его дочери с Пушгсиным, но она состоится. Жаль Завадовской и Уваровых, очень жаль, особливо первой.
Правда ли, что Серафим умер?
На обороте: Его сиятельству князю Петру Андреевичу Вяземскому, в собственные руки.
913.
Тургенев князю Вяземскому.
22-го января 1843 г. Москва.
Посылаю тебе наскоро прочтенную тетрадь дурно переписанных и еще хуже написанных писем. Признаюсь тебе, что мне очень не по нутру печатание таких недоносков, переживших себя до явления в свет; но вы так невнимательны к чувству самолюбия авторского и так настойчивы, что нельзя и подумать о совершенном отказе. Более ничего не переписано: кописты занемогли и не сдержали слова. Я не знаю, как и приступить к переписке остального, а по оригиналу и просматривать невозможно. Некому отдать, а всякому нельзя, ибо в письмах многое не всем может быть доступно. Я бы мог и должен был тщательно пересмотреть, исправить и пополнить и переварить эту кашу; к тому же нужен хороший перевод лекций и цитатов, а прежние переводы мне очень не нравились. Можно ли печатать оригинальные французские лекции? Как быть с Мицкевичем? А, исключив его, что останется? Разбирайте имена. Не печатайте ничего вымаранного, особливо о Шевыреве; имена русских, о коих упоминаю, выставлять вообще не должно. Вообще, менее неинтересного, особливо личного: щадите меня и вспомните, что я возвращусь туда, откуда коммеражничаю. Непременно и немедленно, но отпечатаны или по ненадобности, возвратите оригинал. Напечатаете ли славенские стихи с оговоркою? Исправьте грамматические ошибки.
В новых письмах из Парижа мало подлежащего гласности, ибо все о крестьянском деле. Вот несколько слов, до литературы относящихся: «Чтение статей Leroux в «Revue Indépendante» о Гегеле и Шеллинге нас теперь занимает, P. Leroux любит и уважает Шеллинга, ожидая от него не более и не менее как новой философии, которая была бы и новою религией (см. примечание И-е). Статья о Гегеле в «Revue des deux mondes» писана Лебре, Lehre (см. примечание II-е) и весьма основательна. Мне приятно видеть, что французы начинают серьезно заниматься немецкою философией и отдавать немцам справедливость. При сем случае и до меня дойдет несколько лучей философского солнца. Жаль, что с талантом и с красноречием Кузен не имел души. Вообще, здесь заметно в умах некоторое стремление к серьезному, к истине отвлеченной. Сие то стремление распространяется и на чувство религиозное; но чистые католики ошибаются, если полагают, что сие стремление будет полезно католицизму. Мне кажется – напротив: католицизм, чистый или грубый, еще более упадет в сем движении умов к изысканию истины.»
«Посылаю вам новую книгу красавицы и вам знакомой: «Sur le développement du dogme catholique», par la princesse Belgiojoso. Две части оной уже вышли.»
«Я читаю «La France et la Russie»: всего более о России. Автор, конечно, с умом и талантом; но эта манера судить о государствах целиком, abstraction faite des individus, des personnes qui forment les peuples et les états, этот Карамзинский point de vue, из коего автор смотрит на Россию – есть не что иное, как грубый материализм. Государства не из камней составляются, а из существ дышащих, мыслящих, чувствующих и голод материальный, и голод нравственный и интелектуальный. Впрочем, в сей книге много благоразумного, и автор истинно желает добра России. Странно, что я нашел в сей книге многое, согласное с моим образом мыслей; например, о сивилизации, которая с Петра I сделалась для России необходимою; о народности, о которой нечего жалеть, ибо, изглаживаясь, она заменяется сивилизацией; и, наконец, что приобретения и распространения, которые Россия может сделать на Востоке, не только что не может быть вредно, по напротив должно быть полезно для западной Европы (см. примечание III). Автор «La Russie et la France» хорошо характеризует (определяет) положение Австрии и Пруссии: о других землях такие характеристики читаешь спокойно, но о России – нет. Тут рассуждения à vol d'oiseau мне не по нутру. Впрочем, важнейший предмет для России, освобождение крестьян, автор понял хорошо и почитает необходимым дать им собственность земельную.»

