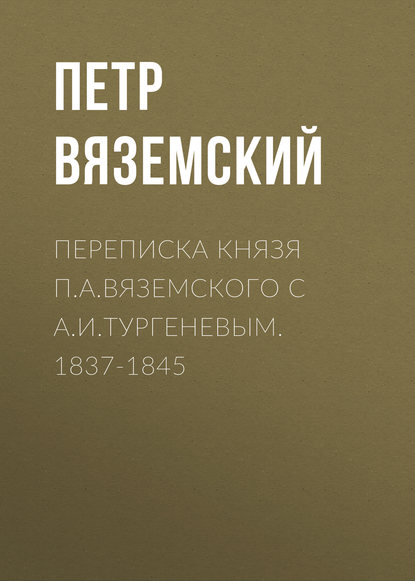 Полная версия
Полная версияПереписка князя П.А.Вяземского с А.И.Тургеневым. 1837-1845
Доставит ли мне Плетнев «Современник» с моими письмами или хотя выдержки, или мне самому отбирать их, то-есть, мои в нем письма? Я не знаю всего, что напечатано и не по чему справиться. И Полевого экземпляр держу, не трогая, опасаясь невозможности возвратить, если из Петербурга не вышлют.
Я сбираюсь к Свербеевым в деревню, но еще хлопотно да и Валуеву ожидаю сюда. Я собирался в Крым, по не знаю полезен ли я там буду? Неизвестность сия не решила меня на поездку; ожидаю возврата Муравьева из Киева. Впрочем, если начну устроивать контракты с крестьянами и, следовательно, переписываться о сем с Аржевитиновым, то невозможно будет отлучиться отсюда; а может быть понадоблюсь и в Симбирске. Если узнаешь, что контракт графа Воронцова по Мурину утвержден, то уведомь. Граф Киселев давал мне читать копию с оного, но в ней могли быть сделаны перемены.
Что Жуковский? Что Вяземский? Обними их при свидании или письменно. Великий князь Михаил Павлович утешает в Киеве князя Александра Николаевича.
Сколько любопытного нашел я и с лавре! Но куда дену все мои сокровища? Читаю «Москвитянин»: много любопытных статей или документов.
Ты мне прислал только четыре листа твоего «Фонвизина» в Париж; я отдал их Мицкевичу, обещая и продолжение, которое ты можешь послать в Париж, на мое имя: № 14, rue Neuve de Luxembourg, хотя я и не хотел бы с ним знаться после того, что здесь о нем слышал, а мне присылай сюда второй экземпляр для меня, и полный. Да кончил ли ты эту биографию? Воспользовался ли моими нотицами? Получил ли их? Да что ты не напечатаешь всего себя? И твоему карману, и публике было бы хорошо.
3-го октября.
Сейчас опять заезжала плакса: дело получено, и я прислал ее по сенаторам, и сам попрошу, кого могу; нигде никого не вижу, ибо нигде никого нет. Обращусь сегодня же в обер-прокурору графу Толстому, но, кажется, дело и без больших хлопот уладится.
На обороте: Его сиятельству князю Петру Андреевичу Вяземскому. В С.-Петербурге.
889.
Тургенев князю Вяземскому.
З-го октября 1842 г. Москва. 3 часа по-полудни.
Сейчас встретил Валуева: они не дали мне [знать] о приезде, а подле меня живут. едут завтра; обедаю с ними; после обеда – у Мещерских, хотя они и не стоют такой жертвы. Они едут в театр. Я возвратился из теремов с Муравьевым.
Получил сегодня же твое письмо, с письмами, с Нар[ышкиным] посланными. А я его упрашивал отдать немедленно. Скотина! Пора отдыхать после обеда, и на другой! Что за Кремль! Что за Москва! Заезжай сюда, пока дворец не достроили, а то ни его из Москвы, ни Москвы с Кремля не увидишь. И Спаса на Бору взяли во двор или ко двору. Право, во мне бьется русское сердце, хотя я и не Андрей Муравьев.
На обороте: Его сиятельству князю Петру Андреевичу Вяземскому. В С.-Петербурге.
890.
Тургенев князю Вяземскому.
4-го октября. Воскресенье, 7 часов утра. [Москва]
Податели расскажут тебе о нашем вчерашнем свидании; я надеюсь с ними видеться сегодня и проститься, но если Воробьевы горы и дождь, ливмя льющий, задержат меня, то скажи им за себя: «здравствуйте» и за меня – «простите». Очень досадно, что не успел до сыта наслушаться милую коммеражницу; вчера же приехали и Сушковы из Клина, коих я дожидал здесь.
Прочел письмо, с Нарышкиным посланное, и еще более на него взбесился. Я помню, что упрашивал его, и он обещал непременно доставить. Можно ли теперь огласить его? Тогда оно бы произвело свое действие. Напечатает ли его «Современник», и когда? От старости известий все в нем блекнет и теряет свежесть запаха. Трудно осудить себя на такую запоздалость. Для него и то хорошо, но для корреспондента? Я все еще не выберусь из хаоса моего архива и особенно моей корреспонденции. Тогда можно было и так печатать, как писано, или с немногими поправками в слоге и с пояснениями, по теперь – невозможно: нужно и пояснить, и пополнить; а ты знаешь, по собственному опыту или примеру, ибо ты и не пытался издавать себя, как трудно приняться – и за свое дело. Еще досаднее, если я выправлю и приготовлю для журнала то, что в нем уже напечатало. Прости! Высылай книгу о римской церкви.
На обороте: Его сиятельству князю Петру Андреевичу Вяземскому. В С.-Петербурге.
891.
Князь Вяземский Тургеневу.
[Начало октября]. С.-Петербурга,
Я передал Плетневу твою выписку и твои благия обещания и просил его переслать к тебе весь свой «Современник», Я не видал его с тех пор и не знаю, пригодится ли ему твоя статья, вовсе не литературная, и угодит ли она ценсуре. Впрочем, я совериненно согласен с лордом Джоном Русселем и на его месте также приказал бы уволить филантропа-капитана. У него ум за разум, или сердце за разум зашло. Не надобно пересаливать, но не хорошо и пересахаривать. Все эти тюремные концерты, спектакли и иллюминации никуда не годятся. Как ни говори, а тюрьма должна быть пугалом, и если не адом безнадежным, то по крайней мере строгим чистилищем. Будь тюрьма место злачное и привольное, где и сытно, и весело, то честным беднякам, несущим смиренно и терпеливо бремя и крест нищеты и нужд, придется завидовать преступникам. Если концерты и спектакли служили бы училищем нравственности, то спроси у своего капитана, отчего так часто честные люди возвращаются домой из спектакля без носовых платков, часов и карманных книжек? Тихими, увеселяющими средствами и развлечениями лечат иногда безумных, и то не всех; но если подвести преступление под статью: болезнь и безумие, то это заведет слишком далеко. Все, чего вправе требовать благоразумие и обдуманное человеколюбие от тюремного содержания и правления (régime), есть то, чтобы в тюрьме не портилось здоровье и не перепорчивалась уже испорченная нравственность. Все излишнее кажется мне вредным умничаньем и вредною филантропоманией. Заводить в тюрьмах школы нравственности есть несбыточное требование. Заводите их вне тюрьмы и до тюрьмы, а тут уже поздно. Стремлением к недостижимой цели теряете вы из виду прямую пользу, которая у вас под рукою. От ортопедических институтов не ждите Аполлонов Бельведерских. Хорошо и то, если удастся горб несколько стеснить и помешать ему рости. Ценю и хвалю побуждение, которое руководствовало капитаном и другими капитанами и тайными советниками в подобных предприятиях и в подобном образе мыслей, по говорю, что эти капитаны и тайные советники люди непрактические и лунатики, умозрители, и что по ложному направлению ума и ложному состраданию они готовы щадить и холить преступников и губить общество. Прекрасное, святое дело отстаивать права меньших братьев и слабых против старших и сильных, но нужно ясно определить, кто слабый и кто сильный, кто притеснитель и кто жертва. Я говорю, что в этом случае сильный и притеснитель, настоящий Каин, есть тот самый Ванька Каин, о котором вы исключительно хлопочете; а жертва, беззащитный Авель, есть общество; что тиран был чухонец, который застрелил Гагарина, а Гагарин был его жертва и что, следовательно, наказаниями должно сколько можно ограждать безопасность общества и будущих Гагариных от чухонцев и злодеев, на нее посягающих: иначе нет общества, и лучше жить в диком лесу с зверями. Все эти концерты и спектакли и театральные представления на Воробьевых горах вздор и вздоры. Добро не так и не тут делается. Примерная честность твоих ссыльных, которые за пять рублей душегубствовали и жгли, или готовы были жечь и душегубствовать, если не удалось бы им ограбить просто, есть такая же аберрация, как и иллюминация твоего капитана. Неужели все назначенные у нас к ссылке невинно осуждены? Или почему же до осуждения они были разбойниками, а после сделались честными людьми, которые отказываются от вторичного подаяния, чтобы не взять греха на душу или не обидеть товарища:
Другого и обидеть можно,А Боже упаси того!А почему же, когда раздаешь милостыню нищим, то едва ли один из них откажется от подобной ошибки? Неужели должно вообще признать за правило, что разбойники и заявленные воры чище и бескорыстнее нищих и тунеядцев, по крайней мере не человекоедов, променивающих жизнь ближнего на кусок купленной говядины или на штоф водки? Или, стало быть, паши остроги – примерные заведения в этом роде, и преступник, просидевший в них несколько лет или несколько месяцев, выходит из них на Воробьевы горы чистою голубицею? Видишь ли, куда заносит вас страсть декламаторствовать на словах и на деле; памфлетничать, если не в журналах, то на Воробьевых горах, – страсть этой политической и протестующей филантропии, которая – виноват, не сердись – есть более плод накопившейся желчи, нежели небесной манны чистой любви, которой в душе твоей много, но которой тебе недостаточно потому, что она долго терпит, не превозносится, не раздражается, не помнит зла, а ты лелеешь любовь воинственную, критикующую, мстительную, осуждающую etc., etc. Воля твоя, ты сан по себе гораздо умнее, нежели когда разыгрываешь роль ученика и адепта Шеллинга (которого ты, опять, воля твоя, не понимаешь, головою отвечаю; не понимаешь именно от того, что ты слишком умен и не можешь довольствоваться несвязным и темным понятием, как, например, издатели «Отечественных Записок»), и в душе своей ты гораздо добрее и выше, и богоугоднее, нежели на филантропической сцене Воробьевых гор, где ты делаешь добро не так, чтобы левая рука не ведала, что творит правая, а напротив, обеими руками печатаешь оппозиционную статью против Уголовной палаты и всех палат, и всех право- или кривоправящих и тому подобное. Вот что меня бесит в тебе. Вот от чего ты не заезжал к Жуковскому. Вот от чего ты светлый свой ум и светлую свою душу наряжаешь в разные пестрые ветоши, которые огорчают твоих друзей и за которые с радостью хватаются твои недоброжелатели.
Возвращаясь к твоему капитану, утверждаю, что наказание нужно и устрашение нужно, кто что ни говори и как ни мудрствуй. И сам Бог ничего другого не приискал, а доказательство тому – потоп. Ты скажешь, что он немного помог и исправил: это – другая статья. Кстати, вспоминаю письмо ко мне Сильвио Пеллико в ответ на мои суждения против смертной казни: «Je ne suis pas de ceux qui s'attendrissant sur le monstre (слышите ли?) et qui aboliraient volontiers l'épouvantement de la vengeance publique (слышите ли?). L'auteur d'un crime atroce a encore des droits à nos consolations religieuses, à nos prières; il n'en a point à l'indulgence qui lui épargnerait une peine des plus terribles. Je ne partage pas même votre sentiment contre la peine de mort, quoique je sens toute la gravité des raisons que vous m'apportez. Dans ces matières, il n'y a qu'un voeu à former, c'est que les juges ayent une conscience, et certes le cas contraire est rare, plus que les déclamateurs ne le supposent. Oui, rare, mais, hélas, il existe. C'est, un fléau qui échappe aux règles, comme un incendie, un tremblement de terre. Les trésors de la bonté de Dieu sont là pour réparer, pour souvenir, pour suppléer abondamment. Le vrai malheureux n'est que le méchant.»
Если у тебя есть время и деньги и теплые слезы на добрые дела, на уврачевание язв, то найдешь много случаев и много мест для утоления твоей христолюбивой жажды и без Воробьевых гор. Тут какое добро можешь ты сделать? Раздать несколько рублей, которые, не во гнев будь тебе сказано, будут пропиты с проводниками, то-есть, с честною командой на первых 25-ти верстах. Понимаю, что можно посвятить себя служению преступников, то-есть, врачеванию их души, и это едва ли не высший подвиг; но это не ограничивается тем, чтобы дать преступнику калач, погладить его по головке и дать ему почувствовать, что о нем жалеешь, как о жертве беззаконности судей, ибо такое изъявление сострадания есть также верховное преступление против общества. Молясь о преступнике, говори: «Помяни его, Господи, во царствии твоем!» В твоем – да, но в пашем – предавай его действию закона и ищи других несчастных, которых много и которым можешь доброхотствовать, не нарушая гражданственных необходимостей. Если ты тюремщик, то дело другое; ты действуешь в кругу своем, но для тебя все переулки открыты, везде есть страждущее человечество. Что за необходимость ездить на Воробьевы горы, se poser là en avocat de l'humanité и говорить: «Смотрите на меня!»
Если на то пошло, чтобы ссориться мне с тобою et pour me donner le coup de grâce à vos yeux, скажу тебе, что на вопрос твой о Воронцове и о том, что творит он в Мурине, ничего сказать не могу, потому что пустяками заниматься не люблю, то-есть, пустяками, прикрытыми личиною важности, или важным делом, когда оно окорочено под меру пустяков. Это опять иллюминация твоего капитана, которая бросается в глаза зевак и после которой так же холодно и темно, как и прежде. А я люблю солнце, потому что оно греет и светит, а за неимением солнца люблю хоть сальную свечку да печку, а не ваши потешные огни. Во всем этом нет ни на грош, ни на волос существенного. Мера несбыточная, бесплодная: все это бумага, бумажный змей, который трещит и будто летает, а на деле стоит на воздухе.
Каково желчь моя разыгралась? Я уж и не рад, что все это наблевал, по написанного не вырубишь топором. Главное здесь – мое прямое, глубокое убеждение, что ты очень умен и очень добр, и потому досадно мне, когда вижу, что ты этот ум и эту доброту силишься мишурить у Шеллинга и на Воробьевых горах. Ты скажешь мне, что это тебя занимает и веселит. Тогда и говорить нечего; я совершенно буду согласен с тобою и готов признаться, что меня иногда занимают и веселят пустяки еще и этих пустее, по я, по крайней мере, не морочу ни себя, ни других и не выдаю этих пустяков за дело важное, не превозношусь ими. Того же ожидаю и от тебя. Аминь!
892.
Тургенев князю Вяземскому.
8-го октября 1842 г. Москва.
В проезд мой чрез Берлин я отдал секретарю французской миссии Montessu для отправления в Париж, на мое имя или брата, два пакета с нужными ему книгами. Монтессю, в присутствии тогда в Берлине и барона д'Андре, обещал мне немедленно отправить их, но брат и по 2-е октября нового стиля не получал ничего. Пожалуйста, попроси барона д'Андре от меня написать к Монтессю о скорейшем доставлении сих двух пакетцов в Париж; а если уже отправлены, то уведомить, когда и куда: в министерство ли? Тогда бы я поручил брату выправиться о них где должно.
Не знаком ли ты с учителем детей барона Мейендорфа (берлинского), Старчевским (Альберт Викентьевич), польским литератором, издателем русской старины, теперь в Петербурге находящимся? Монтессю сказал ему, что пакет мой давно отправлен был в Париж (кажется, один, а не два было всего). Я пишу сегодня же к Старчевскому, поручая ему, если для него не затруднительно, осмотреть и отобрать шесть тюков с книгами, изданными Археографическою коммиссией, и переслать ко мне несколько листов рукописей, в Берлине им для меня списанных. Если ты его встречаешь, то спроси его, отвечал ли он мне? А если ты его знаешь, то как ты думаешь о нем: исправно ли он выполнит мое поручение? В Берлине я им был очень доволен; из Петербурга он писал ко мне раз;
5-го сентября я отвечал ему, послал доверенность, какую он от меня требовал, но он уже с тех пор ко мне ни слова, а я ожидал немедленного ответа и присылки листов, кои бы мог он отдать или тебе, или Сербиновичу для отсылки ко мне. Откликнись о нем, что знаешь. Я затерял адрес его, но знаю, что в Гороховой улице; впрочем, знают и у Сербиновича. Кланяйся своим приезжим. Скажи им, что в воскресенье с Воробьевых гор, не смотря на проливной дождь, заезжал к ним, но и след простыл. Вчера провел вечер у милых княжен Мещерских. Сегодня с ними же проведу у Ховриных. Княжна-дочь все кашляет, от 6 до 8 ежевечерно.
Сбираюсь на неделю к Свербеевым в Солнушково, откуда получил вчера милое приглашение, но не знаю, как сладить с книжными и письменными хлопотами.
Пожалуйста, высылай книгу о Римской церкви в России. Брат пишет, что скоро выйдет третья часть «Истории десяти лет» L. Blanc, и что автор сказывал ему, что она интереснее двух первых. Я писал к брату, чтобы твой экземпляр высылал сюда, но как? Не уладить ли и этого с бароном д'Андре? Если я получу, то пошлю к тебе; если ты получишь прежде, то пришли на время, прочесть: возвращу скоро. Барон д'Андре мог бы сказать, кому должен брат отдать пакет и на чье имя. Я бы написал и о польском журнале.
Я слышал чтение Загоскина нового романа: «Москва за сорок лет и Москва ныне». В первой эпохе: граф Алексей Орлов и балы его, князь Дашков и танцы его, Н. Д. Офросимова и речи её, князь Несвицкий и продажа в его салонах галантерейных вещей. Москва верно описана, но только гостинская, в смешном виде и с квасным патриотизмом; во второй – много также знакомых лиц, и опять довольно верно, но опять квасной патриотизм, и например: князь Михаил Александрович Голицын слишком обруган за его житье в чужих краях и за мнимое презрение к России. Я сначала подумал, что обо мне речь идет, но услыхав о 10000 душах, коими князь-чужелюбец владеет, успокоился. Сатира, или картина довольно оживленная, но заживо ничего не задевает. Все на поверхности общества – и lieux communs на счет москвичей: все кислые щи, не шампанское. Недавно провел я любопытных полтора часа в разговоре с Филаретом, но подслушивал нас Кашинцов, и я уверен, что перетолкует чорт знает как. Он спросил у Андрея Муравьева, с ним ли я к Филарету приехал? Я отправил к Филарету для рассмотрения дюжину фолиантов и несколько других рукописей, после батюшки оставшихся и весьма драгоценных по духовно-церковной части. В воскресенье обедал у здешнего альдермана Прохорова на Вшивой горке.
Я не мог отыскать адреса г. Старчевского, хотя знаю, что в Гороховой улице: отошли чрез Сербиновича или в Археографическую коммиссию, коей он корреспондент; следовательно, в Министерстве просвещения должны знать, где живет Старчевский.
893.
Князь Вяземский Тургеневу.
11-го октября, [Петербург].
Я не читал «Аугсбургской Газеты» и не понимаю, что значит и кто быть должна живая газета, и что ты мог слышать предосудительного о поэте? Надеюсь и внутренно убежден, что все это пустяки и глупые сплетни. В котором номере газеты напечатана эта статья?
Из книг твоих, кроме одной, у меня нет, по крайней мере на виду, то-есть, на столах моих, и едва ли есть где в завале. Оставшуюся книгу дочитываю и на днях вышлю.
Возвратившаяся из-за границы Туманская-Опочинина на тебя жалуется и велела сказать тебе, что ты поступил с нею бессовестно и гадко. Что ты ничего не говоришь о кузине её, Голицыной-Толстой, которая в Москве? Мой «Фонвизин» к концу года выйдет. Вот еще твое письмо, поздно полученное.
Здесь был твой гаванец Mons и вчера отправился обратно чрез Варшаву, Он очень добрый малый и у нас несколько раз чайничал вечером. Этот путешественник не в твоем роде, а несколько в моем. Ничего почти не видал и не хотел ничего видеть, une espèce de voyageur qui se repose; c'est la bonne espèce.
Я вчера видел д'Андре, и он уверил меня, что Montessu должен был переслать твои пакеты, потому что в недавнем времени проехали чрез Берлин два курьера. Твоего Старчевского вовсе не знаю; письмо к нему переслал.
У меня есть готовое для тебя письмо, в котором ругаюсь с тобою или ругаю тебя. Пришлю его, когда желчь еще разыграется. А теперь пока прости и миролюбиво обнимаю.
Вчера слышал я, что Старчевский уехал в Берлин. А Старынкевич долго ли жил в Москве?
894.
Тургенев князю Вяземскому.
17-го октября. [Москва].
Вчерашнее письмо пойдет сегодня. Вчера же получил твое от 11-го. Высылай скорее желчное письмо на меня. Да за что же сердишься? Кажется, я давно ничем не провинивался. О Мицкевиче слухи от вас же, то-есть, из Варшавы, а в «Аугсбургской Газете» только статья о нем. Получил ли с письмом, подавно высланным чрез московского купца, лекцию о мартинистах, князя Гагарина рукою писанную: пришли ее. У меня нет и копии, так как и диссертации француза о духоборцах.
Пред Туманской я точно виноват, но я уезжал куда-то во время её пребывания в Париже: кажется, в Шанрозе и возвращался только на часы в Париж; да и с мужем порядочно знаком не был; да и слышал в то же время, что он гвардейский драчун с солдатами. С братом его был знаком, но в Киссингене он мне очень не понравился: энтузиаст чиновник. Но я не хочу снова тревожить желчь твою, да и недосуг: биографии Новикова, Лопухина, Гамалеи – еще передо мною: прелесть, хотя и дурно писано! Я дополню своими сведениями и материалами. В Гелиополис- Солнушково к Свербеевым не поехал, а писал туда с Валуевым. Вчера простился с князем Оболенским. Скажи ему, что Старчевский уехал в Берлин, и что он с ним может переговорить о моих поручениях, да повторю: 1) отправить из Берлина письмо в брату, по почте; 2) пакетец с «Курдюковой» Мятлева и «Гречем» пароходом с оказией.
У меня и здесь хлопоты: процесс кузины и смерть Софьи И. Телепневой, племянницы князя Козловского, с коей сестрица была в дружбе; завтра хороним; мать в отчаянии, ибо один сын – повеса, другой в Варшаве. Мятлева слышал целый день и часть ночи: расспроси его сам.
Старынкевич давно уехал. Мы провели с ним три ночи и одну, в числе оных, с Вигелем. Honni soit qui mal y pense!
Это были notte romana, а не греческие. Вчера обедал у Шепинга с Чаадаевым, который спрашивал тебя о grand chiffonnier. Мы редко встречаемся. По первому снегу поеду к нему.
Слетелись уже многие, и князя Долгорукова увижу сегодня; но право времени нет, потому что рукописей много. Нет ли у тебя «Слова о пьянстве», говоренного одним из сельских священников близ С.-Петербурга. 1838. Цена 15 к. сер.: в Вольном экономическом обществе, у книгопродавца Андрея Пьяного, на Невском проспекте, в доме Петропавловской церкви. Здесь не отыщешь. Правда ли, что Смирповы развелись? Здесь прошли эти слухи; жаль и за них, и за разводчика!
Вышли свою биографию Фонвизина в Париж, на мое имя (без А.): 14, rue Neuve de Luxembourg, и Мицкевичу другой экземпляр. У него твои, мне присланные, первые четыре листа.
Если будет оказия, то можно чрез барона д'Андре отправить отданные князю Оболенскому две книжки к брату: ты можешь приложить и «Фонвизина».
На обороте: Его сиятельству князю Петру Андреевичу Вяземскому. В С.-Петербурге.
895.
Тургенев князю Вяземскому.
21-то октября 1842 г. Москва.
Вчера получил я из Парижа письмо от 17 октября, из коего выписываю для тебя или для «Современника» некоторые факты и размышления но случаю оных, кои могут быть применены и к практике финансов в России.
«Мы имели сегодня визит генерала П[епе], неаполитанского proscrit из Парижа; он сказывал нам о возникшей-было ссоре между академиком Libri и философом Кузенем. Libri написал недавно статью о Паскале, в «Revue des deux mondes», в коей довольно строго говорит о мнении Кузеня о Паскале. Кузен прогневался и отзывался невыгодно о Libri. Сей последний послал к нему двух приятелей требовать удовлетворения. Нузень назначил с своей стороны Mignet и кого-то другого. Изъяснялись, и дело не дошло до дуэли. Libri весьма замечательный человек, и если бы он ссорился только с Кузенем и тому подобными, то беда была бы не велика. К несчастью, он в сильной вражде и с Арого, и трудно разобрать, кто из них прав и кто виноват» (Я сообщал вам из Парижа о находке Libri рукописей Наполеона, о коих статья его была также в «Revue des deux mondes»: не знаю, издал ли он сии рукописи?).
«За недостатком политических новостей, журналы толкуют о различных материальных улучшениях. В сем отношении «Journal des Débats» содержит иногда весьма любопытные статьи. Недавно он осуждал стремление Северной Америки к поддержанию её мануфактур и доказывал доводами рассудка и шифрами, сколь эта покровительствующая мануфактурам система вредит истинным и общим интересам Соединенных штатов. Все его рассуждения об Америке могут быть приложены к России. Если бы и у нас потрудились исчислить все невыгоды и убытки, кои терпит государство от покровительства фабрик, ко вреду земледелия, то нашли бы, что без фабрик Россия была бы и богаче, и сильнее. В теперешнем положении России (фабрики не могут усовершенствоваться иначе, как на счет (aux dépens) различных отраслей земледелия и торговли иностранной. Во Франции те же неудобства, но здесь (то-есть, во Франции) труднее обратиться в истинным началам политической экономии, ибо зло давно уже существует. Но мало-по-малу Франция обязана будет отказаться от теперешней системы de protection» (как сказать: покровительства или предпочтения? А. Т.) «или претерпеть всякого рода невыгоды. Везде вокруг неё образуется система, невыгодная для неё в теперешнем её положении. Бельгия может приступит к немецкому Zollverein. Некоторые кантоны Швейцарии сего желают. Теперешнее министерство хочет соединиться с Бельгиею торговым трактатом; но в сем случае надобно будет согласиться впустить бельгийское железо, а сего боятся здешние мануфактуристы, кои сильны в камерах. Трактата Франции с Англиею нельзя надеяться полезного и действительного в теперешнем расположении умов французских.

