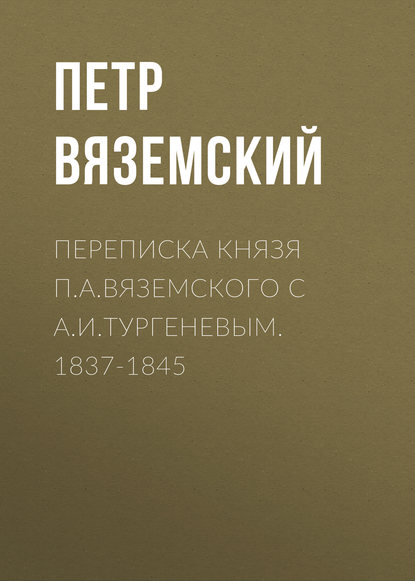 Полная версия
Полная версияПереписка князя П.А.Вяземского с А.И.Тургеневым. 1837-1845
Одним словом, Франция терпит теперь от последствий покровительства фабрик. Дело дошло до того, что министерство предлагало уже запретить и уничтожить все свекольные фабрики, дав фабрикантам 40 миллионов франков вознаграждения. И по сию пору многие, именно все морские порты, требуют сей меры. Между тем сколько пожертвований стоило Франции заведение сих фабрик! Сколько декламаций о важности сих фабрик, о выгодах заменевия сахара свеклою! И все для того, чтобы все это истребить. Колонии французские разорились от свеклы, и теперь трудно их поправить даже и истреблением свеклы. Этот пример участи свеклы и результатов покровительства искусственного, кажется, должен бы открыть глаза самым закоснелым мечтателям меркантилизма. «Journal des Débats» говорил о какой-то книге, написанной каким-то русским conseiller d'état о католиках в Россия и о булле папы о том же предмете. Когда дело шло о русских мужиках, «Journal des Débats» говорил, что этот предмет не заслуживает внимания Европы. Но когда дело идет о католиках, то он говорит противное и жалуется, что журналы мало занимаются делами религии. Сегодня (14 octobre) он толкует об уменьшении доходов в Англии в последних трех месяцах, не смотря на income-tax. Уменьшение оказалось особенно в акцизе, то-есть, с предметов, служащих для продовольствия масс народных. Конечно, это показывает оскудение способов продовольствия работающего класса и есть, вероятно, следствие последних неустройств в фабриках. Но «Journal des Débats» выводит из этого необходимость налога с доходов и заключает, что он будет сохранен и может быть увеличен по прошествии трех или пяти лет. Мне говорили в Англии, что Миль (Peel), приобретя некоторую популярность введением сей подати, приобретет новую уничтожением оной после трех или пяти лет. Во всяком случае виги предлагали покрыть дефицит без income-tax, и вероятно успели бы в сем случае; но для сего нужно было отказаться от corn-laws, а Пиль сего сделать не мог, хотя, как говорят, он и убежден лично, что эти corn-laws должны быть уничтожены.» «Здесь теперь журналы спорят о торговой связи с Бельгиею.
«Journal des Débats» в пользу сего соединения; «Le Commerce» – против, доказывая, что это соединение разорит железные фабрики во Франции. Говорят, что Гизо хлопочет о заключении коммерческих трактатов с разными державами».
«Я читал вчера в «Лейпцигской Газете» глупую статью о невозможности исполнения указа о крестьянах; редактор сам себе противоречит».
«У меня всегда бродило в голове изложить в самом простом виде главные правила политической экономии, также и основные начала уголовного судопроизводства. Где наши проекты Торгового уложения, Советом и Сперанским одобренные?»
«Вчера савояр с органом остановился пред нашим домом. Саша, заметив, что обезьяна его дрожала от холода, немедленно вынесла ей une robe с куклы своей и одела ее.»
Сию минуту прислал Булгаков за письмом. Посылаю, что успел выписать. Полагаете ли печатать в «Современнике» и эту, и прежнюю выписку; если нет, то должно отдать в другой журнал. Свербеевых ожидаю к 1-му ноября. Высылай же «Римскую церковь». В «Débats» прочти о пей 13 и 15 octobre.
Еще из Франции: «Здесь урожаи были порядочные, смотря по засухе. Исчисление дохода государственного в протекшие девять месяцев показывает, что было дохода 21 миллионом более, нежели в прошлом гаду. Ежегодно доходы здесь увеличиваются от 20 до 25 миллионов. Это показывает, сколь велики ресурсы Франции и сколь прочны (solides) источники её дохода. С лучшей финансовою системой нет сомнения, что богатство народное сделало бы еще большие успехи.»
Писал в спальной Булгакова. Снег, слякоть. Вера Алекс[еевна] Муравьева возвратилась из Киева: еду с ней обедать.
Приписка А. Я. Булгакова.
Прочитав такое письмо, надобно несчастным твоим глазам отдохнуть, а не вновь мучиться, а потому, чтобы не говорить одно, а делать другое, кидаю перо и обнимаю тебя, да и сказать-то нечего тебе на этот раз. 21-го октября.
На обороте: Его сиятельству князю Потру Андреевичу Вяземскому. В С.-Петербурге.
896.
Князь Вяземский Тургеневу.
23-го октября 1842 г. [Петербурга].
Советую тебе не очень пускать в обращение твою книгу. О ней здесь много толков, но никто не признается, что ее имеет или читал. Вообще, кажется, автор прав, не во гнев будь сказано гонителю иезуитов; но есть и промахи. Вигель особенно может быть в претензии: он везде назван Блудовым, из которого делают директора Департамента иностранных исповеданий. Я слышал, что здесь готовится ответ на эту книгу и на статью «Journal des Débats». Впрочем, это городская весть. Блудов, который говорил о книге у великой княгини за обедом, полагает, что она писана Платером, игравшим ролю в последней польской революции. Я знавал в Варшаве одного ИИлатера, ультра-католика. Блудов говорил, что в папской грамоте есть клеветы; что ни один из униатских священников не был в темнице и что, следовательно, сказанное о предсмертной исповеди за стеною – пустая басня.
Ты мне все-таки ничего не объяснил о Мицкевиче. Да, кстати, да не Старынкевич ли говорил тебе о нем? Он и мне что-то сказывал, но я не так, как ты, и не всему сказанному и писанному верю. Старынкевич очень умная и любопытная газета, но газета не Евангелий и даже не истории.
Вот тебе мое желчное письмо, если требуешь. Заранее винюсь и каюсь и прошу прощения, если некоторые выражения слишком жестки и кислы. Я его написал так, сгоряча и сплеча, после не перечитывал и запечатал. Отдели из него, что принадлежит авторскому пылу и лихорадке импровизации, и выбрось этот кипяток, эту нечистую пенку, а пуще всего будь уверен, что я в тебе сердечно и беспредельно люблю внутреннего человека, самородку, по при том часто бешусь на внешнего, на оправу. За сим обнимаю, и не яко Иуда.
Да, еще одно слово: браню тебя в глаза, а за глаза всегда за тебя вступаюсь, то-есть, выставляю внутреннего человека, тогда как свет судит тебя по внешнему.
897.
Тургенев князю Вяземскому.
31-го октября. [Москва].
Вчера получил твои письма и книгу с попутчиком и когда же? – Возвратившись из канцелярии гражданского губернатора, где наконец успел доказать и открыть документ полицейский, что protégé мой с Воробьевых гор отдан фальшиво в рекруты; и сказано о нем, что он без отца и матери, а отец ежедневно у меня и плачет по сыне. Авось, спасем! Вот тебе практичный ответь! Теория твоя напоминает Куракинскую. И лорды-тори, и виги долго противились, при всем опыте теории
А. Смита, и другая теория – без пауки, и самому светлому уму – темна вода в облацех. Нет времени отвечать, но очень больно и грустно за себя и за тебя. Я – фарисей, но мой порок не должен тебя ауторизировать, смеяться над каторжными и ставить их всех в одну теорию: ты – не Блудов. Если бы было еще десять Гаазов, то их не достало бы для одних Воробьевых гор в воскресенье. Он, Гааз, еще недавно спас два семейства; мне ничего или мало удается. Знаешь ли, что меня мучило именно в тот день, как я получил твои письма? Я два воскресенья, от лени и боли в ноге, не был на Воробьевых горах, и моих protégés и, право, не пьяниц, а трезвых, повели в Сибирь. Им и на еду, особливо с детьми (или и они пьяницы, а детей много, и каждое воскресенье?) недостает до Владимира. Грех тебе! Но в моем сердце – сердца на тебя нет, а для тебя всегда и quand même.
Приписка А. Я. Булгакова.
Vous êtes le premier, qui vous glorifiez du titre honorifique de protecteur de galériens et exilés. Je conèois un mouvement de compassion pour un malheureux même de cette espèce, je conèois qu'à la Seward (surtout sa femme et ses enfants), mais de prendre le titre de protecteur des galériens de préférence à quelque autre classe de malheureux de ce bas monde, voilà ce que je ne conèois pas. Cet homme, que je secours a peut être été sans pitié pour un de mes parents et amis. Il est dans le malheur! mais ce malheur est son ouvrage et pas une rigueur non méritée du sort. Quand un hoinine médite un crime, il sait ce qui l'attend, s'il ne réussit pas. Pourquoi faut-il que je pleure avec lui à la Montagne des moineaux de ce que son crime a été manqué et découvert et que le gouvernement l'empêche de commettre de nouveaux crimes? etc., etc.
Вот о чем болтал я с Тургеневым. Он входит ко мне, садится тотчас писать к тебе, говоря: «Меня Вяземский ругает в хвост и голову; я напишу, а ты на, прочти брань его ко мне. – «Какая же тут брань? Не говорил ли я тебе то же самое? Не спорил ли ты о том же у князя Александра Николаевича, когда он был здесь, с самим Филаретом и II. И. Озеровым? Ты помнишь мои слова тогда и совет князя Александра Николаевича? Ты согласишься, что, не уговариваясь, мы все, а теперь и Вяземский, одно и то же тебе твердим». Час я с ним спорил напрасно. Говорит, что я не могу иметь беспристрастного мнения, будучи частицею правительства сам, и бредит глупости: как будто служащему нельзя иметь сострадания и справедливости. Добрейшее и странное существо этот Тургенев!
Сегодня пишу тебе наскоро, кое как. Благодарю за письмо твое от 25-го. Эта встреча с фельдъегерем было особенное несчастие. Это всегда бывало да и будет: отправление посылок частных с курьерами. Все это посылалось не из спекуляции, не для продажи вещей и барышей, а так, для угождения приятелям.
Вчера был я у Сенявиной на вечере, имел несчастие слышать эту Озерову; не есть и не будет никогда певицею, ибо Бог не дал ей музыкальных органов: не чувствует, когда фальшивит, а фальшивит беспрестанно, ni timbre, ni justesse, ni force, ni fléxibilité, ni agrément dans la voix, то-есть, скажу об ней то, что ты говоришь о зиме: «О каналья, о бестия! и вздумала петь «Grâce, grâce!» Не достойна стирать на Бартеневу. «Eh bien, qu'en dites-vous», спросила меня вчера Louise Galitzine. «Mais pendant qu'elle chantait «Grâce», moi aussi, princesse, je criais: «grâce, grâce!» В прочем ничего нет нового у нас. Прощай! Обнимаю! Еще видел я Четвертинских у Сенявиной и новоприбывшего Мейендорфа парижского.
898.
Тургенев князю Вяземскому.
14-го ноября 1842 г. Москва.
Ты желал иметь переписку Нелединского: вот она. Е. А. Свербеева поручила мне тебе ее доставить. Сочти листы и привели их сам в порядок; тут и важные документы, напри- мер: духовная его. Я прочел все. Замечательное явление и похожее на тебя, каким бы ты был в XVIII веке, который отчасти в нем выразился. Я читал Нелединского и радуясь его доброму сердцу и здравому уму, и религиозному чувству, и страдая за него и за детей, к коим писал отец о своих любовницах и давал им часть в карточной игре. Я много о сем думал и даже записал в свою книгу, по не для тебя уже, ибо опасаюсь твоего обвинения в фарисействе.
Я получил письмо из Парижа: Клара и Сашка были больны; но Клара лежит, и движение ей запрещено. Это смутило меня чрезмерно, ибо помню, что мне сказано было при последней её беременности, от коей она едва спасена была. Еще не знаю, точно ли беременна.
Письмо брата прислал бы к Плетневу, по оно об указе 2-го апреля. С Сашей Карамзиным часто встречаюсь у Мещерских.
Чаадаев отдал мне письмо его 1837 г. ко мне, в коем нахожу следующие строки:
«Сейчас прочел я Вяземского «Пожар». Je ne le savais ni si lion franèais, ni si bon russe. Зачем он прежде не вздумал писать по-бусурмански? Не во гнев ему будь сказано, он гораздо лучше пишет по-французски, нежели как по-русски. Вот действие хороших образцов, коих, но несчастию, у нас еще не имеется. Для того, чтобы писать хорошо на нашем языке, надо быть необыкновенным человеком, надо быть Пушкину или Карамзину. Я говорю о прозе: поэт везде необыкновенный человек. Я знаю, что нынче немногие захотят признать Карамзина за необыкновенного человека. Фанатизм так называемой народности – слово, но моему мнению, без грамматического значения у народа, который пользуется всем избытком своего громадного бытия в том виде, в котором оно составлено необходимостью; этот фанатизм, говорю я, многих заставляет нынче забывать, при каких условиях развивается ум человеческий, и чего стоит у нас человеку, родившемуся с великими способностями, сотворить себя хорошим писателем. «Effectrix eloquentiae est audieutium approbatio», говорит Цицерон, и это относится до всякого художественного произведении. Что касается в особенности до Карамзина, то скажу тебе, что с каждым днем научаюсь чтить его память. Какая была возвышенность в этой душе, какая теплота в этом сердце! Как здраво, как толково любил он свое отечество! Как простодушно любовался он его огромностью и как хорошо разумел, что весь смысл России заключается в этой огромности, а между тем как и всему чужому знал цену и отдавал должную справедливость! Где это нынче найдешь? А как писатель: что за стройный, звучный период, какое верное эстетическое чувство! Живописность его пера необычайна; в истории же России это главное дело; мысль разрушила бы нашу историю; кистью одною можно ее создать. Нынче говорят: «Что нам до слога? Пиши, как хочешь, только ниши дело!» Дело, дело! Да где его взять и кому его слушать?»
(Вот тебе и смысл огромности! Замечание не Чаадаева).
«Я знаю, что не так развивался ум у других народов; там мысль подавала руку воображению, и оба шли вместе; там долго думали на готовом языке, по другие нам не пример; у нас свой путь.– Pour revenir à Wiazemsky. Никто, по моему мнению, не в состоянии лучше его познакомить Европу с Россиею. Его оборот ума именно тот самый, который нынче нравится европейской публике. Подумаешь, что он вырос на улице St.-Honoré, а не у Колымажного двора.
Где бы напечатать немецкия выписки мои (Карамзина рукою в оригинале) из Кёнигсбергского архива о русской истории?
Скажи барону д'Андре, что я просил Гаранта прислать мне, чрез него или чрез тебя, брошюру его о Montlosier, к коей вероятно приложена будет и другая: «Sur la France et la Russie». Автора я, кажется, знаю, но имя забыл; он долго жил в Остзейских губерниях и женился на дочери филантропа сенатора Сиверса, но уехал во Францию от лифляндского аристократизма; впрочем, наверное не знаю.
Приписка А. Я. Булгакова.
Тургенев пришел, брякнул мне кучу эту писем и свое письмо и, сказав: «На, отправь это все к Вяземскому, меня внизу ждут дамы», дал тягу из моего кабинета. Я и не знал, что ты хочешь написать биографию Нелединского: я сообщу тебе анекдот об нем и императоре Павле. Не знаю только, в котором это месте записок моих. Непременно отыщу, а это достойно помянутия. До сих пор нет ни Рубини у вас, ни Листа здесь. Немцы нас очень утешают. Я вне себя от «Нормы», которую никогда всю не слыхал. Обстановка «Жидовки» великолепна, но музыку я еще не расчухал: только раз слышал; она не так то меня поразила, но уже мы были ужасно поражены шумом труб и вообще духового оркестра. Во вторник «Вильгельм Телл» на бенефис Ферзинга. Намедни он нас восхитил на вечере у Луизы Тр[офимовны] Голицыной. Он в комнате очень приятен. Скарлатинный карантин твоей кузины кончился: она и принимает, и выезжает. Ольга здорова. В городе совершенно ничего нет нового. Обнимаю тебя.
Завтра Додо Ростопчина едет к вам, ежели не сегодня вечером. Я не видал её.
899.
Князь Вяземский Тургеневу.
26-го ноября 1842 г. [Петербурга].
Спасибо за бумаги Нелединского, но не спасибо за то, что ты на меня дуешься и даже не пишешь. Ты на меня так сердит, что самого себя наказываешь, лишь бы только доказать мне свой гнев. Я все выжидал от тебя всемилостивейшего манифеста, но, потеряв надежду, решился на подлость и сам задираю тебя; а между тем не писал и потому, что право нет двух чистых минут утром и нет двух светлых мыслей в голове. Департамент не владеет всем моим временем, но портит все мое время. Когда у меня есть черное пятно в глазу, то все чернеет в глазах. Не умею иметь твоей деятельности, расторопности и умоподвижности.
Я получил от Жуковского родительское и счастьем дышущее письмо, которое этим кончается: «Уведомь о Тургеневе»; а как я уведомлю, когда и сам не уведомлен? Напиши же ему и давай русских вестей. Он спрашивает меня о каком-то ссыльном еще при Бироне и сюда явившемся на 130 году от рождения. Это по твоей части. Здесь говорят, что он в Москве.
Я читал «La France et la Russie». Здесь все брошюркою очень довольны. Она, консчпо, умно написана, но много в ней и поверхностного. Тот же автор написал «Un diner», который, кажется, я отослал тебе.
Сейчас была у меня Леонтьева. Жена моя хворает, и это еще более туманит мою голову.
Когда же будешь сюда? Ведь тебе смерть хочется приехать, признайся, а проклятое умничанье не пускает. Кланяйся от меня Чаадаеву и скажи, что письмо его с живописцем очень поздно до меня дошло; что я охотно вызвался служить ему, но он раз побывал у меня и более не показывался. Обнимаю!
900.
Тургенев князю Вяземскому.
2-го декабря 1842 г. Москва.
«Зачем далеко – и здесь хорошо», отвечаю тебе лапидарною надписью в садике покойного вашего Ганина на твой призывной голос в Петербург. Ни на Петербург, ни на тебя, право, не сержусь, а тебя и люблю по прежнему; следовательно, не так, как люблю Петербург, но что-то не влечет меня туда, а объяснить это охлаждение – нужно быть тонким психологом и с досугом.
Очень больно за милую княгиню: авось, пройдет, и дорогое здоровье возвратится! Если позволит, то поцелуй за меня у ней ручки и ножки и скажи, что, по просту, молю Бога за нее.
К Жуковскому писал несколько строк по получении доброй семейной вести. Написал бы больше, по как писать из России к другу?
О ссыльном при Бироне здесь что-то врали, но, кажется, оказался лжессыльным и лжестарцем. Справлюсь.
Читал ли речь Мейендорфа? Да что он здесь? Знаю, что смешон шарлатанством, но что еще? Чаадаеву передам о живописце сегодня, на его середном утреннике. Хоть не хочешь, да поезжай: по приказу Е. А. Свербеевой, которая похварывает, хотя и вылетает из многодетного гнезда своего. «France et Russie» знаю еще только по выпискам, но автора называли мне: зять Сиверса. Так ли?
О моем житье-бытье узнаешь от милой и для меня бесценной княжны Софьи И[вановны] Мещерской. Скажи ей, что она меня избаловала и, следовательно, для меня незаменима здесь; что я после обдумал все пространство моей потери. Она возвратится, когда уже меня здесь не будет. Попроси ее, чтобы рекомендовала меня Елене Мещерской. Я узнал ее и полюбил, как любят старики: на веки и не для себя, а за нее и для другого – дай Бог – достойного: c'est trop dire. С княжной Софьей и её почти лишился: c'est trop pour un jour. С горя чуть не попал в будку, простившись с ними третьего дня. Но удалось засадить туда двух проезжих красавиц, а сам – в возок, да и поминай как звали или как не назвался: иначе бы попался в просак!
Tibi et igni: Говорят, то-есть, Мейендорф говорил, что граф Бенкендорф сказал ему, что в Москве есть общество раскольников или их любителей; что они посылали в Симбирск депутата (вероятно, Валуева, который лежит больной у Хомякова, в деревне) для распространения своего раскола, то-есть, старины-любия; эти раскольники – паши приятели: но делом им! Хвалят даже Ивана Васильевича для того, что он жил не в нашем веке. Любят Россию страстно. Кажется, вина небольшая! Но где же общество? Где же раскол? Одно невежество с примесью часто близнеца его – фанатизма; но много и знают, только о старобытной России, а не о покой Европе, которую дерут и в хвост, и в голову: ничем не угодишь! Они издают «Синбирский сборник», коего листы передо мною – со справками Разрядного архива: о службе Кикина и пр. И нашего века Кикин разве не раскольник же? Будете ли вы отвечать на речь Мейендорфа? Кто из вас дал ему право врать?
Я получил любопытные бумаги из Вифании. Прости! Перешли поцелуй Жуковскому и домочадцам его. Читал ли Милькеева, protégé Жуковского из Сибири. Как скоро отпечатается – пришлю. «Разбитый колокол» его гудит превосходно и наводит какое-то безотчетное уныние на душу. Есть и другие хорошие стишки, хотя не первоклассные; но и то много для секретаря губернаторского, из Сибири вырвавшагося.
Сколько благословений на душу и на потомство Жуковского несется отовсюду: из хижин, из замков и дворцов и даже из келий! C'est le soir d'un beau jour. Сказал бы еще что-нибудь, по боюсь с тобой обмолвиться если не порядочным стихом, то европейским замечанием,
А Боже упаси того!На обороте: Его сиятельству князю Потру Андреевичу Вяземскому.
901.
Тургенев князю Вяземскому.
Le 10/22 décembre 1842. Moscou.
Ne pourriez-vous pas prier de ma part m-r le baron d'André d'expédier le plutôt possible ce petit paquet à sou adresse? Il ne contient que quelques paires de pantouffles russo-persannes pour ma belle-soeur, sa petite et sa soeur et quelques papiers pour mon frère. Si vous voulez y ajouter quelques articles ou quelques brochures sur la grande question, qui vous occupe, ou sur telle autre, vous êtes libre de le faire. Je vous préviens que je lui envoie l'article anonyme du № 11 d' «Отечественные Записки», et la réponse de Волков à Хомяков, manuscrit (?).
В случае если барон d'André откажется, чего не предполагаю, и другой верной оказии не будет, то возврати. Не пошлешь ли своего «Фонвизина» для Мицкевича (я дал ему первые четыре листа) и другой экземпляр для брата или для меня в Париж?
Письма нет в пакете, а только реестр посылаемому. С нетерпением жду добрых вестей о здоровье княгини, а сам в беспрерывном беспокойстве за Клару: письма брата не успокоивают, а более смущают меня.
Помолвки тебе известны: Обол[енской] с Мещерским, Анненковой (дочери ссыльного) с Тепловым, Вревского с Ланской – и… будущей, в надежде, о которой желал бы провраться княжне Софье Ивановне.
Росетти собирается в обратный путь, по я его сборам не верю. Князь Иван Сергеевич Гагарин возвратился из деревни. Завтра бал у Софьи П[етровны] Апраксиной.
Я с вечеринки на вечер и с утренника на завтрак; вчерашний продолжался до шестого часа по полудни, с милыми и умными приятельницами; не поспеваю и на третью часть приглашений; с Филаретом умничаю и с другими православными совопросничаю. Но Клара, Клара все на сердце!
Priez m-r le baron d'André de faire remettre le paquet à mon frère, sans délai: c'est tout près du ministère des affaires étrangères.
902.
Тургенев князю Вяземскому.
16-ro декабря 1842 г. Москва.
Из препровождаемого при сем письма моего к Дмитрию Михайловичу Прокоповичу-Антонскому ты увидишь, что с меня требуют 3 рубля серебром за знак отличия.
Если для тебя нет ни малейшего затруднения поручить снова г. казначею, Демьяну Страховскому, получить за меня причитающуюся мне пенсию с 1-го августа по 1-е января 1843 г., то передай ему прилагаемую у сего доверенность на твое имя; если же это затруднительно, то изорви бумагу и уведомь немедленно, ибо в таком случае я вышлю доверенность на самого Прокоповича-Антонского; но уведомь поскорее, ибо мне нужны деньги к 1-му января или в первых числах оного. Если же деньги получишь, то перешли 10 1/2 рублей ассигнациями или 3 рубля серебром Антонскому, при письме моем, а остальные поручи доставить ко мне прежним порядком, то-есть, внести в контору транспортов, которая препроводит оные сюда или велит выдать здесь под мою росписку. Пожалуйста, не хлопочи, если затруднительно, и возврати все скорее. Если в декабре нельзя получить всей суммы (до 1-го января), то можно подождать; но чем скорее, тем лучше, ибо нужно.
Если сегодня не успею засвидетельствовать в полиции доверенности, то пришлю ее завтра, а ты приготовь между тем г. казначея Страховского. Вот и засвидетельствованная доверенность.
903.
Тургенев князю Вяземскому.
21-го декабря. Москва.
Сейчас принесли ко мне от управителя Валуева пакет с рукописью, вероятно, берлинскою, с твоим адресом. Уведомь поскорее, от кого и когда ты получил ее? При пей не было ни слова, ни письма от приславшего, вероятно, Старчевского; но я не знаю, все ли переписано? Должен ли я ожидать еще, и прочее. Словом, верно было письмо от него или от других. Кто тебе бумаги доставил и когда?
Письмецо твое подучил. Отвечать некогда. Страшусь за милую Перовскую, как и за свою Клару, от коей письмо было вчера сердечное, но беспокоющее. Может быть, придется и до весны в Париж собраться: не до Петербурга, где нечего делать, ибо любить тебя можно и издали, а Жуковского нет там. Присылать ли парижские рассуждения кое о чем? Мицкевич читал прекрасное предисловие к польской поэме и начал свои польско- литературные лекции. Прости!
Из келий на балы, с проповеди на салонную болтовню. Из салопа Рекамье-Свербеевой, которая говорит: «Я его (то-есть, тебя) ужасно люблю, то-есть, лучше вас всех, то-есть, вас и Чаадаева», mais ce n'est pas nommer tout, le monde. Sapienti sat!

