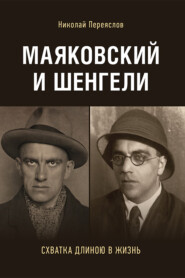скачать книгу бесплатно
Неплохо зная поэта и его творчество, выросший в Одессе Эдуард Багрицкий не простил ему некоторого высокомерия и вспомнил о нем уже в свои московские годы жизни. Описывая вечера в литературном Доме Герцена, он вскользь (но от этого не менее ехидно) упомянул о своем старшем (всего лишь на один год) соратнике:
Там Уткин – не Уткин, а Шелли,
и корчит поэта Шенгели.
Живший в годы своей молодости в Одессе, поэт Игорь Сельвинский тоже вслед за Багрицким саркастически откликнулся своими стихами на мотив поэзии Шенгели, пародируя его творчество:
В лоскутных ямбиках с кандовочкой коварной
То пушкинзоновский, то брюсовский язык,
И лишь тогда вопрет шенгелиевский лик,
Когда он переводит из Верхарна.
А в другой раз Сельвинский поймал поэта на слиянии соседних букв в одной из его строчек и тут же повеселился на этот счет своим каламбуром:
«И шаг мой стих…» —
Сказал Шенгели.
И в самом деле:
Ишак твой стих.
Как демонстрировала себя реальная жизнь, у многих одесских поэтов на всю жизнь сохранялись в сознании негативные юношеские впечатления, которые давали себя знать в их творчестве в последующие годы. Надо сказать, что одесситы всегда хвалились своими остротами, вот и Георгий Шенгели в воспоминаниях о Дорошевиче записал такой случай: «Хейфец, у которого тот печатался в Одессе, однажды сказал: “Знаете, какая разница между Дорошевичем и проституткой? Он получает за день, а она за ночь”, – объяснил он. Дорошевич, узнав об этом, спросил: “А знаете, какая разница между Хейфецем и проституткой?” – “Не знаем”, – пожали плечами остальные. – “И я тоже не знаю”, – сказал он. И больше Хейфец не острил».
В культурной жизни Крыма и Одессы времен Гражданской войны Шенгели был фигурой настолько заметной и значительной, что в сохранившемся в архиве Паустовского остроумном «уставе» товарищества молодых одесских литераторов «Под яблоневым деревом» есть отдельный пункт: «Не говорить о Шенгели». Стало быть – о нем тогда говорили, и, видимо, очень часто…
Валентин Катаев в своей книге «Алмазный мой венец» вскользь упоминает о «Поэте-классике», носившем большие пушкинские бакенбарды. Эта же деталь вызывала раздражение у беспринципного молодого поэта Семена Кирсанова. Вот как он описывает свое отношение к поселившемуся в Одессе Георгию Аркадьевичу:
«Однажды Шенгели устроил свой “поэзо-вечер”. Мы решили эпатировать. Была приобретена черепаха, отпечатаны листовки, а один из нас загримирован под Шенгели. В самый лирический момент во время чтения Шенгели стихов черепаха была пущена на сунец, с балкона в публику полетели листовки, а в зале под общий хохот появился Шенгели № 2. Вечер был сорван, а Шенгели для Одессы окончен.
Нужно прибавить, что кроме своих исследований и стихов Шенгели отличался оригинальной внешностью. Он носил густые черные баки и на плечах шерстяное одеяло вместо плаща. Однажды, когда Шенгели читал стихи, в зале раздался робкий детский голос:
– Мамоцка, это Пуцкин?
Это так повлияло на мэтра, что он оставил Одессу для более славных лавров».
Но вот как, спустя много лет, вспоминал уже без всякой иронии и предвзятости своего старшего собрата поэт и сказочник Юрий Карлович Олеша: «Он поразил меня, потряс навсегда. В черном сюртуке, молодой, красивый, таинственный, мерцая золотыми, как мне тогда показалось, глазами, он читал необычайной красоты стихи, из которых я понял, что это рыцарь звука, слова, воображения. Одним из тех, кто были для меня ангелами, провожавшими меня в мир искусства, и, может быть, с наиболее пламенным мечом, – был именно Георгий Шенгели.
Все можно было нести на его суд – стихи, прозу, драму, замысел, намек… Он все понимал, и, если ему нравилось – вдруг сверкал на меня великолепным оскалом улыбки. Он написал чудные вещи. Сонет о Гамлете, где говорит о железных ботфортах Фортинбраса. У него ни одной ошибки в применении эпитета. Он точный мастер…
Лучшее стихотворение о Пушкине в русской литературе после Лермонтова написано им. Он говорит, что Пушкин на экзамене перед Державиным выбежал, “лицом сверкая обезьяньим”. Гениально!
У него пронизанные поэзией стихи о море, о капитанских жилищах, о Керчи, которые я всегда ношу в своем сердце… Он назвал одну из своих книг “Планер”!
Он навсегда остался в моей памяти как железный мастер, как рыцарь поэзии, как красивый и благородный человек – как человек, одержимый служением слову, образу, воображению. Я верю, что где-то сейчас он живет на маяке с огромными окнами и огромным морем у подножия…»
Весьма нерегулярно получая скромные гонорары за публикацию своих стихов, Шенгели наедался досыта лишь в день получки. Однажды за такой трапезой его, икающего после съеденной в изрядном количестве колбасы, сидящего босиком на раскладушке, застал Эдуард Багрицкий, и тут же громогласно произнес свой каламбур:
И колбасой —
икал босой!
В то же время Багрицким и Шенгели была совместно написана шуточная пьеса в стихах, которая была поставлена ими в одесском театре «Крот», хотя прошла там недолго.
Большой творческой и организаторской активностью, а также редкостной интеллектуальной производительностью, которые окрепли и проявились у него еще в 1914–1919 годах в Харькове, было отмечено время пребывания Шенгели и в Одессе. В своем творчестве он по-прежнему оставался неутомимым и полным энергии, несмотря на политическую чехарду, на непредсказуемые и опасные смены режимов и властей. Работа велась день за днем – даже вопреки трагедии, постигшей его семью в декабре 1920 года, когда в Керчи расстреляли двух старших братьев Георгия – Евгения и Владимира Шенгели, офицеров Добровольческой армии. Они остались в Керчи по-видимому в надежде, что их пощадят. Война закончилась, они признали свое поражение и остались в своем городе, рядом со своими семьями. А может быть, они руководствовались не столько чувством патриотизма, сколько, как им казалось, здравым смыслом: они не знали, что их ждет на чужбине, да и куда они могли уезжать от своих близких?..
Георгий сотрудничал в газетах, издавал журналы, организовывал литературные студии, был комиссаром по делам искусств, откровенно используя «служебное положение», чтобы помогать выжить занесенным на юг многочисленным писателям, художникам, артистам. Скрывался в подполье, жил по подложным документам, совершил опаснейший вояж по занятым «добровольцами» городам – от Керчи до Одессы, где и наблюдал, в конце концов, отправление последних эмигрантских пароходов – в Константинополь.
В начале февраля 1920 года Одессу окончательно и эффектно занимают части Красной армии под предводительством Григория Котовского. В феврале 1920 года вчерашний петлюровский казак Владимир Сосюра решился посетить на улице Петра Великого собрание одесского «Коллектива поэтов», и этот вечер словно рассыпал небрежною рукою над ним по небу янтари. Когда он впервые читал свои стихи, в которых были такие слова, как «хлопцы», «девчата», «половники», и спросил: «Я поэт?» – юноша с орлиными глазами и соколиным профилем отозвался с подоконника: «Да, поэт, украинский поэт».
То был Эдуард Багрицкий.
Став курсантом военно-политических курсов при 41-й стрелковой дивизии, он познакомится вдобавок к Багрицкому еще и с Олешей и Шенгели, которые, как пишет Сосюра: «в светлые и добрые руки взяли мое сердце и показали ему дорогу в лазурное небо поэзии», – расскажет он позднее в своей автобиографии, а в июле 1920 года напишет в Одессе стихотворение: «Шагами шумными, в шинели, шелком шитой, к Шенгели спешно шел…»
«Я стал украинским поэтом, – напишет потом Владимир Сосюра. – Потом, после гражданской войны, в Харькове я познакомился с поэтами Куликом, Блакитным и другими, но встречи с Шенгели, Багрицким и Олешей навсегда запечатлелись в моем сердце. Багрицкий говорил: “Надо развить свой художественный вкус”, – а лозунгом Юрия Олеши было: “Слово должно светиться”».
Здесь же, в Одессе, пробующий свои литературные силы Георгий Паустовский впервые попал в среду молодых писателей. Среди сотрудников газеты «Моряк» были молодые одесские поэты и прозаики Катаев, Ильф, Багрицкий, Шенгели, Лев Славин, Бабель, Андрей Соболь, Семен Кирсанов и даже престарелый писатель Юшкевич. Паустовский тогда жил у самого моря, и много писал, но еще не печатался, считая, что он еще не добился умения овладевать любым материалом и жанром.
С января 1920 по август 1921 года Шенгели является главным редактором Одесского «Губиздата». В 1920 году здесь вышли «Избранные сонеты» Эредиа, переведенные им, и второе издание его «Еврейских поэм». А в 1921 году были напечатаны его драматическая поэма «1871 год» и сборник стихотворений «Изразец». Еще в 1919 году в Одессе им были опубликованы отдельными изданиями драматическая поэма «Нечаев» и большая теоретическая работа «Трактат о русском стихе. Органическая метрика». Основная часть этого «Трактата» была наработана Шенгели еще в Харькове, так же, как и переводы из Жозе Марии де Эредиа, среди которых просто нельзя не выделить его замечательного «Козопаса»:
По спутанным следам в овраге этом диком
Зачем преследуешь козлиное руно?
Ты не найдешь его: становится темно.
Здесь ночи ранние в лесу под горным пиком.
Давай присядем здесь. Внимая птичьим крикам,
Пробудем до утра. Есть фиги и вино.
Но тише говори: Дианы луч давно
Осеребрил весь лес, и боги в сне великом.
Гляди: вон узкий грот. Теперь укрылся в нем
Сатир приветливый. И если не вспугнем,
Он выйдет, может быть, из этой темной щели.
Ты слышишь? Ветерок свирели звук пронес.
Он! Видишь, как рога его за луч задели,
Как он плясать повел моих ленивых коз!
Здесь же, в Одессе, в 1920 году было вообще положено начало циклу сонетов Шенгели, которые занимают особое место в его творчестве, заслуживая наименование «постгойевских», близких к фантасмагории. Эти стихи – воплощенные в безупречную классическую форму страшных картин Гражданской войны, кровавой междоусобицы, безжалостной бойни, очевидцем которой пришлось быть Шенгели в 1918–1921 годах в Харькове и Керчи, в Севастополе и Одессе. Уже сама стыковка совершенной поэтической формы сонетов с описанием в них сцен безудержного насилия, разрушения и жестокости несомненно являет собой сильный стилистический и психологический ход. Вряд ли следует видеть в этом жесте признаки некой авторской отстраненности. Скорее, здесь и звучит, и молчаливо насыщает собой контекст интонация неодолимой горечи и бесконечного сожаления, как в сонете «Комендантский час»:
Норд-ост ревет и бьет о дом пустой.
Слепая тьма ведет меня в трущобы,
Где каменные обмерзают гробы.
Но – поворот, и вот над чернотой
Стеклянный куб, сияньем налитой,
Тень от штыка втыкается в сугробы,
И часовых полночные ознобы
Вдруг застывают в ледяное «стой!».
И пуговица путается туго
Под пальцами, и вырывает вьюга
Измятые мандаты, а латыш
Глядит в глаза и ничему не верит:
Он знает все, чего и нет… Вдоль крыш
Лязг проводов верстою время мерит.
Аскетически строгая старинная форма сонета резко контрастировала с голой, почти документальной правдой о жизни и нравах времени, которое так долго героизировали. Суть и содержание сонетов оказались сродни обжигающей прозе Артема Веселого, его жестокой правде о Гражданской войне. Эти сонеты не отпускали Шенгели еще очень долгое время, требуя возвращения к себе авторской правки и в 1933 году, и в 1937-м, так что исследователям сейчас уже и понять не просто, когда именно они были созданы. Цикл хронологически открывается выразительной харьковской зарисовкой 1918 года «“Дух” и “Материя”»:
Архиерей уперся: «Нет, пойду!
С крестом! На площадь! Прямо в омут вражий!»
Грозит погром. И партизаны стражей
Построились – предотвратить беду.
И «многолетье» рявкал дьякон ражий,
И кликал клир. Толпа пошла, в бреду,
И тяжело мотаясь на ходу,
Хоругвы золотою взмыли пряжей.
Но, глянув искоса, броневики
Вдруг растерзали небо на куски,
И в реве, визге, поросячьем гоне —
Как Медный Всадник, с поднятой рукой, —
Скакал матрос на рыжем першероне,
Из маузера кроя вдоль Сумской.
В этот шенгелиевский цикл черно-белых сонетов-гравюр глубокой и выразительной резьбы входят такие его вещи, как: «Комендантский час», «Своя нужда», «Мать», «Короткий разговор», «Самосуд», «Провокатор», «Интервенты», «Здесь пир чумной…» и близкие им по духу стихотворения. К ним тематически и интонационно примыкают стихи и 1919 года, дополняя собой ту же фантасмагорическую картину судного часа:
На фронте бред. В бригадах по сто сабель.
Мороз. Патронов мало. Фуража
И хлеба нет. Противник жмет. Дрожа,
О пополнениях взывает кабель.
Здесь тоже бред. О смертных рангах табель:
Сыпняк, брюшняк, возвратный. Смрад и ржа.
Шалеют доктора и сторожа,
И мертвецы – за штабелями штабель…
В 1921 году Шенгели написал поэму «Поручик Мертвецов», а на следующий год у него вышел сборник «Раковина», знаменующий переход к более аскетической стилистике и демонстрирующий отточенную технику и литературную эрудицию. Перечитывая сегодня входящие в нее стихи, невозможно удержаться от глубокого вздоха, встречая перед собой удивительную и прекрасную поэзию. Даже если Георгий иногда и нарушал в стихах ударения.
Обитавший одно время в Одессе Константин Паустовский писал, что Шенгели даже дистанционно помогал ему выжить в холодную зиму. Вот как он об этом вспоминал:
«Зимой 1921 года я жил в Одессе, в бывшем магазине готового платья “Альшванг и компания”. Я занял явочным порядком примерочную на втором этаже. В моем распоряжении были три большие комнаты с зеркалами из бемского стекла. Зеркала так крепко были вмурованы в стены, что все попытки – и мои, и поэта Эдуарда Багрицкого – выломать эти зеркала, чтобы обменять их на продукты на Новом базаре, ни к чему не привели. Ни одно зеркало даже не треснуло.
В примерочной не было никакой мебели, кроме трех пустых ящиков с гнилой стружкой. Хорошо еще, что стеклянная дверь легко снималась с петель. Каждый вечер я снимал ее, клал на два ящика и устраивал на этой двери свою постель.
Стеклянная дверь была очень скользкая, и потому по нескольку раз за ночь старый тюфяк сползал с нее вместе со мной и сваливался на пол.
Как только тюфяк начинал двигаться, я тотчас просыпался и лежал, не дыша, боясь пошевелить даже пальцем, глупо надеясь, что, может быть, тюфяк остановится. Но он сползал медленно и неумолимо, и моя хитрость не помогала.
Это было совсем не смешно. Зима стояла свирепая. Море замерзло от порта до Малого Фонтана. Жестокий норд-ост полировал гранитные мостовые. Снег не выпал ни разу, и от этого холод казался гораздо холоднее, чем если бы на улицах лежал снег.
В примерочной стояла маленькая жестяная печка-“буржуйка”. Топить ее было нечем. Да и невозможно было согреть этой жалкой печуркой три огромные комнаты. Поэтому на “буржуйке” я только кипятил морковный чай. Для этого хватало нескольких старых газет.
На третьем ящике был устроен стол. На нем по вечерам я зажигал коптилку.
Я ложился, наваливал на себя все теплое, что у меня было, и читал при свете коптилки стихи Хозе Мария Эредиа в переводе Георгия Шенгели. Стихи эти были изданы в Одессе в этот голодный год, и я могу засвидетельствовать, что они не ослабили нашего мужества. Мы чувствовали себя стойкими, как римляне, и вспоминали стихи того же Шенгели: “Друзья, мы римляне. Мы истекаем кровью…”».
К счастью, до истечения настоящей кровью тогда не доходило, поэтов спасала от всех невзгод молодость. Оглядываясь впоследствии на прошедшие через годы трудности, Георгий об этом времени писал:
Узнаю тебя, молодость: голод;
В темной комнате холод и мрак;
Ум тревогой тяжелой надколот, —
И вплотную под городом враг.
Было только не так одиноко,
Было только тоскливо не так:
Ветер с юга и солнце с востока
Залетали ко мне на чердак.
Да и было терпенье «во имя»,
Хоть не помню, во имя чего,
Что делил я с друзьями моими,
И люблю я друзей оттого…
Нет, не молодость. Только похоже, —
Но похуже: темней, холодней;
И стихи – отражение дрожи,
Черной ряби на заводях дней.
Вспоминая свои встречи в Одессе, писатель Юрий Олеша писал: «Шенгели говорил мне как-то, что он хотел бы жить на маяке. Ну, что ж, это неплохая фантазия! А что там, на маяке? Какой формы там жилище? Что это – комната, несколько комнат, маленькая казарма? Ничего нельзя себе представить! Я не был на маяке, я только видел, как он горит. Мало сказать, видел, вся молодость прошла под вращение этого гигантского то рубина, то изумруда. Он зажигался вдали – сравнительно не так уж далеко: километрах в двух, что при чистоте морского простора – ничто! – зажигался в темноте морской южной ночи, как бы вдруг появляясь из-за угла, как бы вдруг взглядывая именно на вас. Боже мой, сколько красок можно подыскать здесь, описывая такое чудо, как маяк, – такую древнюю штуку, такого давнего гостя поэзии, истории, философии…
Теперь маяки, кажется, светятся неоном.
Шенгели вообще удаются всякие, так сказать, морские, береговые размышления – это потому, что их питают у него воспоминания юности. Он жил в Керчи. Он говорил мне, что по происхождению он цыган. Вряд ли. Очень талантливый человек.
Вдали оранжево-топазовая
Величественная река
Колышет, в зеркале показывая,
Расплавленные облака.
Это не слишком хороший отрывок (дань Северянину, которому нельзя подражать) – да я еще и наврал что-то. У него прелестные, именно морские стихотворения – о каком-то капитанском домике в Керчи и т. п. Чистые, точно поставленные слова, великолепные эпитеты и, главное, – поэзия! Поэзия!
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: