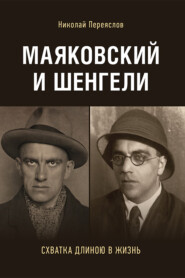скачать книгу бесплатно
– Есть места. Вот у Вас “голос, хриплый как тюремная дверь”; это ничего; это образ.
Бурлюк сказал мне несколько любезных фраз, меня совершенно опьянивших, и затем стал разбирать прочитанное. И я впервые увидел “профессиональный”, “технологический” подход к стихам. Как ни поверхностны, как ни случайны были его высказывания, я в этот миг понял раз и навсегда, что стихи прежде всего – искусство и что о них можно говорить без упоминания об “искренности”, “задушевности”, “взволнованности” и прочем подобном.
Жизнь определилась в этот миг. Я уверовал, что я поэт и что я прав, любя слово, ритм и звук…
Два-три замечания в связи с бурлюковским анализом обронили и другие. Маяковский отметил банальную рифму; Северянину понравились “часы, где вместо стрелок ползают серебряные черепахи”, – и его замечание не было только любезностью, так как года через четыре эти черепахи появились у него:
Как серебряные черепахи
В полдень проползают серны…
Милый мой Игорь! Он не похищал у меня образа, он просто забыл, что запомнил его, и нашел у себя как свой.
Совершенно влюбленный в моих новых друзей, я стал откланиваться. И вдруг Бурлюк сказал мне, что сегодня они идут в театр, уже заказали ложу и будут рады меня в ней видеть.
Значит… значит, я действительно им (или хотя бы ему) понравился.
Я летел по городу. В гимназию идти не стоило: кончался пятый урок. Я вскочил на извозчика и помчал в театр покупать билет на сегодняшний спектакль. Абсолютно не помню, какая шла пьеса!..
До вечера я был как в бреду. То я садился писать стихи, – ничего не лезло; то в десятый раз звонил моему другу Коле Петрову, с которым мы составляли “левоэстетическую” фракцию класса, умоляя его не опоздать в театр (мне смерть как хотелось познакомить его с поэтами), – так что он, в конце концов, назвал меня эпилептиком и послал к черту.
И вот я в театре. Узкие коридоры наполняются публикой. Вдруг движение, говор восклицания, смех, – и через публику протискиваются поэты. Баян в цилиндре, из-под которого его кудри выбиваются как из-под кучерской шляпы, Маяковский в широкополом мятом сомбреро, Северянин в меховой шапке, Бурлюк в банальном котелке. Но лицо у него (очень напряженное, с невидящими глазами) – расписано. Синим гримировальным карандашом начерчены на щеках и крыльях носа какие-то треугольники и животное, похожее на пряничного конька. Не замечая меня, они проходят в свою ложу…»
В этом же 1914 году Георгий Шенгели благополучно закончил Керченскую Александрийскую гимназию, что несколько позже отразилось в его большой оде, посвященной этому событию:
Quousque tandem… Uns… Zusammen…
Бойль – Мариотт… Июнь, жара…
Но вот последний сдан экзамен, —
И на свободе мы! Ура!
Как вдохновенно и крылато
Слетала явью к нам мечта:
Пред гордым флагом аттестата
Жизнь распахнула ворота.
Все можно: трубку вдвинуть в зубы,
Сбить на затылок синий блин
И обходить ночные клубы
С повадкой опытных мужчин.
Или немедленно в тетради
Начать по химии трактат
И с тихой гордостью во взгляде
Встречать курсисток робкий взгляд.
Или в собранье гарнизонном,
Под локоть комендантшу взяв,
Ей овевать лицо озоном
Ревнивых чувств и дерзких прав… – и так далее
на протяжении еще 13 строф.
А через три недели после окончания гимназии бывшие одноклассники устроили в Английском клубе города благотворительный вечер, и первым номером программы, как о том написал «Керченский курьер», было выступление Георгия Шенгели, который читал там свои поэтические произведения. Другой хроникер в газете «Блестки» написал: «Любители всего оригинального, вплоть до красивой бессмыслицы, послушали бы юного Шенгели – вдохновенного Бурлюком».
Вскоре после этого Георгий издал дебютную книгу своих стихов «Розы с кладбища», отмеченную сильным влиянием творчества Игоря Северянина и украшенную посвящением Евгении Добровой, к которой он пробовал свататься, но получил отказ. Похоже, что его распирала горевшая в нем молодая сила, и это толкало его на раннюю женитьбу.
Тогда же Шенгели выступил со своей первой публичной лекцией «Символизм и футуризм», в которой он говорил следующее:
«Произведения искусства не есть нечто обособленное от жизни. В них отражается дух эпохи.
Иногда гениальный художник создает такие произведения, которые не бывают поняты современниками, но которыми восхищаются будущие поколения. Это значит, что гений художника предвосхитил грядущую эпоху…
Главный принцип футуризма заключается в следующем: цель и смысл жизни заключается в утверждении нашего «я» – целиком… Повсюду, во всех предметах и явлениях мы видим ее, чарующую красоту… Мы поем наслаждение, мы поем страдание, поем чайные розы тела девушки, мы поем черно-красные опухлости Антонова огня, мы поем любовь, мы поем смерть…»
На следующий день Шенгели в «Керченском курьере» прочитал: «Кто такой Георгий Шенгели? Изволите спросить меня, читатель. Георгий Шенгели – молодой человек, только что окончивший гимназию.
И хотя он «только что», но, тем не менее, уже имеет свое – поэтическое «кредо».
Не дожидаясь чужих признаний, Георгий Шенгели стал в позу и сказал:
– Я поэт.
А посему Георгий Шенгели и читает лекцию – о футуризме…»
Тем же летом 1914 года Георгий поступил на юридический факультет Московского университета; несколько месяцев жил в Москве, гостил на даче у Давида Бурлюка на хуторе под Москвой. На московских бульварах несколько раз встречался с Маяковским – но «отношения не налаживались», встречи неизменно кончались обоюдной пикировкой. Да и сама московская жизнь на этот раз не задалась. Поэтому поздней осенью этого года Георгий Шенгели перевелся «по прошению» из Московского университета в Харьковский, где служил брат его рано умершей матери, его дядя – профессор химии Владимир Андреевич Дыбский, чья дочь Юлия вскоре станет первой женой Георгия. Эта молодая, красивая женщина с грустным бледным лицом и удивительными зелеными глазами была одновременно и его жена, и двоюродная сестра. Да еще и служила корректором.
Имя Георгия Шенгели надолго запомнилось харьковским литераторам периода 1914–1922 годов, когда по его приглашению в город приезжали Алексей Толстой, Максимилиан Волошин, Анна Ахматова, Осип Мандельштам. Несмотря на свою молодость, Шенгели пользовался неподдельным авторитетом в кругах творческой интеллигенции Москвы и Петрограда. Его уважали как подлинного поэта, блестящего переводчика и одного из лучших теоретиков стиха своего времени. Не случайно Максимилиан Волошин в одном из своих писем писал о Шенгели: «Это самый серьезный из молодых крымских поэтов (керчанин) и очень видный теоретик стиха».
В Харькове в предреволюционный период Шенгели организовал литературно-художественный кружок, деятельность и структура которого послужили образцом для создания в начале 20-х годов первых украинских литературных объединений.
Одними из ближайших друзей и единомышленников Георгия стали с той поры Евгений Львович Ланн и Александра Владимировна Кривцова, известные переводчики английской классики. Их знакомство относится ко времени, когда в 1914 году Шенгели приехал в Харьков и поступил на юридический факультет университета. Тогда же в Харькове началась его литературная карьера: вышла небольшая книжечка стихотворений «Розы с кладбища». Он был увлечен французскими парнасцами, новейшими достижениями в поэтике западноевропейского стиха. Его университетом, как он сам позднее признавался, была Харьковская публичная библиотека, где он пропадал целые дни.
Вот как писали о начале своей дружбы с Георгием Шенгели его керченские друзья Евгений Ланн и Людмила Кривцова:
«Худой, стройный, с матовым, оливкового оттенка, точеным лицом, с глазами большими – не то бедуина, не то индийца – появился этот юноша в просторном читальном зале Харьковской общественной библиотеки. Раньше его никто здесь не видел, стало быть, он приехал недавно. И каждый раз, когда мы видели его там – а это было почти ежедневно – он уносил от стойки к своему столу кипы книг… Он не только читал, он что-то писал, а когда отрывался от тетрадки, смотрел куда-то в пространство, не мигая, сквозь стекла пенсне и, закрывая глаза, неслышно шевелил губами…
Вот таким мы увидели Георгия Шенгели и, как все завсегдатаи читального зала, не могли не задать себе вопрос – кто этот пришелец? Узнали мы его имя скоро, так же скоро узнали о том, что он поэт, студент юридического факультета Харьковского университета, и также скоро познакомились с ним – познакомились, чтобы до конца его недавно оборвавшейся жизни считать близким, родным человеком этого большого поэта нелегкой судьбы. Здесь, в Харькове, Шенгели и состоялся как поэт, хотя в своей судьбе не стал восприниматься как «харьковчанин». Он уже выступал вместе с Северяниным, и многие харьковские поэты, несмотря на его возраст, воспринимали его как мэтра. «Он был потрясающе красив в молодости! – говорил о нем в поздние годы поэт и переводчик Лев Минаевич Пеньковский. – Георгий был королем для всех нас… Читал он блистательно! Этот рокочущий баритон, он навевал поэтические эмоции, ласкал слух! Началом своего поэтического осознания я обязан ему».
Шел девятьсот четырнадцатый год. Первая мировая война уже началась. В Харькове не было литературных журналов, и харьковские газеты “Южный край” и “Утро” не очень нуждались в поэте, для которого в ту пору любовь к Верхарну и Эредиа была такой же насущной, как насущная нужда в куске хлеба…
Он был очень горд – Георгий Шенгели. Только много лет спустя, уже в Москве (куда мы и он переехали почти одновременно в начале 1922 года), мы узнали, что бывали в 14-м и 15-м году времена, когда Георгий Шенгели лежал круглые сутки у себя на лежанке в какой-то клетушке на Журавлевке в районе Технологического сада – лежал потому, что ему нечего было есть, а он знал, что в таком лежачем положении он сэкономит себе малую толику сил. А наши глаза, к сожалению, не были зоркими. Мы не задавали себе вопроса, на какие лишения должен был обречь себя Георгий, чтобы издать первую “толстую” книгу стихов. Эта книга называлась “Гонг”, на титуле красовалось название издательства “L’oiseau bleu”, но этой Синей Птицей был сам поэт Георгий Шенгели…
(Это для друзей он старался всегда найти что-нибудь полезное, отрывая его от самого себя, чтобы помочь им, а сам старался преодолеть любые проблемы, даже голод, побеждая его терпением и “отлеживанием”. Душа оказывается сильнее желудка…)
…И так же, закрыв глаза, мы видим его сегодня на эстраде читального зала Харьковской библиотеки (зал по вечерам превращался из читального зала в концертный), поэта с только что изданным “Гонгом”, легко и удобно лежащим в раскрытой его ладони. Поэт облачен в узкий застегнутый черный сюртук – он куплен по случаю и, конечно, по дешевке, но поэту повезло – лучший портной не сумел бы скроить этот сюртук более мастерски. В этом одеянии поэт походит на молодого диссентерского (т. е. – нонконформиста или протестанта, находившихся в оппозиции к английской церкви, как поясняет Ольга Резниченко) пастора. Мы слышим его грудной, баритональный, глубокий голос. Поэт обладает абсолютным ритмическим стихотворным слухом – это врожденное его свойство, и мы слышим, как Георгий Шенгели с эстрады читает стихи из “Гонга”: “Читать испанские имброглио / В громадном зале библиотеки, / Когда мерцающе сиренево / В углах прольются фонари…” Это – стихи о читальном зале той библиотеки, где мы впервые увидели нашего друга, большого русского поэта Георгия Шенгели».
Вспоминая спустя прошедшие годы то далекое время, Георгий Шенгели писал: «Мои интересы лежали в области литературы, поэтики, языкознания, истории, истории культуры, словом – в среде филологической, и здесь моим “университетом” была Харьковская публичная библиотека, где я пропадал целые дни».
К 1916 году вокруг Георгия Шенгели образуется постоянный круг людей, пишущих стихи и желающих заниматься их изучением. В этом же году они выпускают альманах «Сириус», а в 1917 году издают ежемесячник «Ипокрена». В 1918 году – «Камена», а в 1919-м – журнал «Творчество». Основную задачу создатели этих журналов формулируют как «собирание искусства, отстаивание его от всякого рода посягательств, горячая проповедь искусства. Отметание всего случайного и временного, шаблонного, борьба с застывшими формами». Примеры таких произведений и демонстрировал в этих альманахах и при устных выступлениях Георгий Шенгели, который с каждым днем все активнее овладевал поэтическим творчеством:
Трагические эхо Эльсинора!
И до меня домчался ваш раскат.
Бессонница. И слышу, как звучат
Преступные шаги вдоль коридора.
И слышу заглушенный лязг запора:
Там спящему вливают в ухо яд!
Вскочить! Бежать! Но мускулы молчат.
И в сердце боль тупеет слишком скоро.
Я не боец. Я мерзостно умен.
Не по руке мне хищный эспадрон,
Не по груди мне смелая кираса.
Но упивайтесь кровью поскорей:
Уже гремят у брошенных дверей
Железные ботфорты Фортинбраса.
Журнал «Камена» выходил под редакцией П. Краснова и Г. Шенгели, причем одновременно в Москве, Петрограде и Харькове. Это, скорее всего, и определило состав авторов издания. Здесь были опубликованы стихи М. Волошина, Г. Иванова, Г. Шенгели, Р. Ивнева, П. Краснова, О. Мандельштама, а также неизданные ранее произведения Фета и Щербины с примечаниями И. Айзенштока и две солидные литературоведческие статьи («Искусство и ритм» А. Я. Денисова и «Морфология русского шестистопного ямба» Г. Шенгели). Издательство «Камена» успело выпустить несколько поэтических сборников, в их числе – «Демоны глухонемые» М. Волошина.
Наиболее интересен и в содержательном, и в оформительском смысле журнал «Творчество», выходивший с перерывами в 1918–1921 годах под эгидой харьковского «Художественного цеха» (организации художников, поэтов, артистов и близких им искусствоведов). Редактировал его художник И. Рабинович, впоследствии, в 50–60-е – главный художник московского театра им. Е. Вахтангова. «Творчество» четко ориентировалось на Москву и Петроград (в разделе «Хроника» тщательно отслеживались события культурной жизни обеих столиц). Литературная часть содержала стихи А. Блока, Н. Гумилева, А. Ахматовой, Ф. Сологуба, М. Кузмина, О. Мандельштама, К. Бальмонта, Г. Шенгели, рассказы М. Осоргина, А. Ремизова, пьесу Ромена Роллана «Дантон» и другие.
В альманахи и журналы, связанные с Художественным Цехом – «Парус», «Художественная мысль» и «Художественная жизнь», – помещают свои произведения М. Волошин, В. Нарбут, О. Мандельштам и А. Ахматова. Из старшего поколения писателей в этих изданиях печатались Ф. Сологуб, А. Белый, А. Блок и А. Ремизов. Свои стихи и прозу издавали также малоизвестные, не включенные в собрания сочинений произведения писателей более ранней поры…
2 мая 1919 года Шенгели послал В. Я. Брюсову письмо с предложением принять участие в рассказываемых ему ранее харьковских журналах:
«Валерий Яковлевич. Издаваемый Харьковским Цехом журнал, о котором я говорил Вам в январе, в настоящее время достиг тиража в 7000 экз. и увеличивает его. В силу этого журнал сей, как единственный в России свободный литературно-художественный орган, приобретает особенное значение. Цех принимает все меры к его улучшению и обогащению. Редактором ныне приглашен М. Волошин, приезжающий в Харьков. Сотрудничают в журнале, между пр., Ахматова, Гиппиус, Бальмонт, В. Иванов, А. Белый, Ремизов, С. А. Венгеров, Гершензон, Горнфельд. Обращаюсь к Вам от имени редакции, членом которой я состою, с просьбою реализовать Ваше январское обещание сотрудничества и прислать 1) стихи, 2) критический очерк всех литературных новинок сезона, 3) статью о современной поэзии армян, 4) небольшой, размером 30–40 000 печ. знаков рассказ или более-менее законченный отрывок романа, повести. Журнал платит: за строчку стихов 5 р., за статьи – 3 коп. печ. знак, за художественную прозу – 5 к. печ. зн. Очень просим Вас, не откладывая, известить о согласии. По получении извещения аванс будет немедленно переведен. Адрес: Харьков, ул. Либкнехта, 14, Худож. Цех, редакция журн. «Творчество». Искренне Вас уважающий Георгий Шенгели. Если гонорарные условия покажутся Вам неподходящими, не откажите указать желаемые».
Харьков этого времени был частью стремительно менявшегося на глазах мира, одна власть сменяла другую, и все между собой непрерывно воевали: УНРовцы, деникинцы, немцы, белополяки, гетьманцы, Директория – пока всех их, в конце концов, не одолели большевики, основательно закрепившись в Харькове в конце 1919 года.
В те же дни было объявлено о закрытии Кружка и роспуске организации. Ненадолго его жизнь возобновилась в начале 1922 года, когда Шенгели назначили председателем Харьковского Губернского литературного комитета. Но в этом же году Валерий Брюсов пригласил его переехать в Москву, чтобы читать в Литературном институте курс энциклопедии стиха.
Ну, а до этого, в 1914 году, Шенгели выпустил свою первую книгу стихов «Розы с кладбища», а в 1915-м – два сборника стихов: «Зеркала потускневшие» и «Лебеди закатные». Через год, в 1916-м, у него вышла новая книга «Гонг», которая была отмечена в петербургской газете «Речь», где она удостоилась пространной и лестной рецензии известного тогда критика Ю. Айхенвальда, который отметил, что автор «тщательно выписывает образ».
Георгий Шенгели подробно вспоминает о событиях того года: «Весною 16-го года вышел мой “Гонг” – довольно слабая, хотя и звонкая книга, имевшая неожиданно значительный успех. Подвал Айхенвальда в “Речи” сразу сделал меня “знаменитым”. Выступая со стихами из “Гонга” в Петербурге на одном из вечеров Северянина в громадном, до отказу набитом зале Городской Думы, я вызвал овацию, бисировал четырнадцать раз; в антракте несколько сот экземпляров “Гонга” были раскуплены (в фойе стоял столик с книгами Северянина и моими), и в “артистическую” ломились юноши и девушки с белыми томиками в руках, прося автографов. Мне было только двадцать два года… Я послал один экземпляр “Гонга” Брюсову с почтительной, но сдержанной надписью».
Пожалуй, подтверждением того, какими полными молодых надежд и нерастраченной творческой энергии были для Шенгели годы его становления в Харькове, и в частности, годы написания и издания «Гонга», являются его слова в одном из писем к Марии Шкапской, в котором он пишет: «…Любая мелочь, – прохожий, вызолотивший вечером, зажигая спичку, свое лицо; зеркальный шкаф, несомый по улице; футлярчик для мундштука, похожий на сафьяновый гроб, – все было источником лирического переживания, все рождало стихотворение. В первом моем томе, в “Гонге” – 80 стихотворений, написанных в 2 года, но это не более 1/5 всего, что за эти годы написалось…»
Его ранние стихи находились в значительной степени под влиянием пленившего его своей музыкальностью «учителя» – Игоря Северянина, который, по словам Шенгели, «обладал самым демоническим умом, какой я только встречал», но позднее Георгий перешел к более аскетической стилистике, демонстрируя отточенную технику и литературную эрудицию. Что же касается Северянина, то, по свидетельству Шенгели, он никогда (за редкими исключениями) ни с кем не говорил серьезно: «Ему доставляло удовольствие пороть перед Венгеровым чушь и видеть, как тот корежится “от стыда за человека”. Игорь каждого видел насквозь, непостижимым чутьем, толстовской хваткой проникал в душу, и всегда чувствовал себя умнее собеседника, – но это ощущение неуклонно сопрягалось в нем с чувством презрения. Вы спросите, – где гарантия, что и меня не рядил он в дураки? Голову на отсечение не дам…»
В 1916–1917 годах Шенгели был приглашен Игорем Северяниным в турне по городам России, Украины и Кавказа с предложением читать в каждом городе о нем доклады, а также читать свои собственные стихи. В одном из своих стихотворений Северянин так написал об этих выступлениях в своем сборнике «Соловей» под названием «Георгий Шенгели»:
Ты, кто в плаще и в шляпе мягкой,
Вставай за дирижерский пульт!
Я славлю культ помпезный Вакха,
Ты – Аполлона строгий культ!
В твоем оркестре мало скрипок:
В нем все корнеты-а-пистон.
Ищи средь нотных белых кипок
Тетрадь, где – смерть и цепий стон!
Ведь так ли, и?наче (ина?че?..)
Контрастней раков и стрекоз,
Сойдемся мы в одной задаче:
Познать непознанный наркоз…
Ты, завсегдатай мудрых келий,
Поющий смерть, и я, моряк,
Пребудем в дружбе: нам, Шенгели,
Сужден везде один маяк.
Предложенная Северяниным поездка длилась в течение всего 1916-го и первой половины 1917 года, в нее входили города Петроград, Москва, Одесса, Кутаис, Тифлис, Баку, Армавир, Екатеринодар, Новороссийск, Ростов, Таганрог, Харьков, Батуми… Проходивший в каждом из этих городов поэзоконцерт (или поэзовечер) открывался докладом Шенгели о творчестве Северянина – «Поэт вселенчества», после чего еще читался доклад о каком-нибудь интересном зарубежном поэте, вроде Верхарна, затем выступали кто-то из артистов, а в завершение вечера читал свои поэзы сам Игорь Северянин.
Вот как описывала один из таких поэзоконцертов газета «Тифлисский листок» в статье «1-й вечер Игоря Северянина» в № 23 за 28 января 1917 года:
«Вечер открылся чтением лекции г. Шенгели, ознакомившим обширную аудиторию с разными течениями современной русской поэзии и с основными мотивами творчества Игоря Северянина, ярким апологетом которого является лектор.
Как содержание лекции, так и изложение ее вполне положительно, красиво, обстоятельно. Единственным дефектом этой лекции надо считать некоторую тенденцию г. Шенгели возвысить своего любимца, Игоря Северянина, не только за счет современных писателей, как, например, Валерия Брюсова, на которого он поминутно замахивался, но и за счет Некрасова. Это, по нашему мнению, не этично, тем более, что г. Шенгели разъезжает с г. Северяниным вместе и в данном случае как бы говорят в один голос…
Затем г. Шенгели прочел свои стихи, из которых особенно хороши: “В аметистовом сумраке”, “Мне было пять лет” и много других на бесконечные “бис” публики.
Стихи г. Шенгели красивы, поэтичны, полны чувств и создают желанное автору настроение. Поэта наградили аплодисментами и цветами. Кроме того, г. Шенгели, кстати сказать, прекрасный декламатор, прочел с большим подъемом чувств несколько прекрасных стихотворений Игоря Северянина».
В вечернем выпуске харьковской газеты «Южный край» за 18 февраля 1917 года статья без подписи называлась «Поэзовечер Игоря Северянина», и в ней гласилось:
«Свой доклад г. Шенгели начал развенчанием символизма в русской литературе, признав полную его исчерпанность и в то же время невыполненность намеченных представителями символизма задач и целей. В подтверждение своего взгляда г. Шенгели приводил цитаты из произведений символистов.
Вторая часть доклада была посвящена новому, намечавшемуся в современной литературе течению, в котором г. Шенгели видит залог будущего “пушкинства”. Представителем этого нарождающегося течения г. Шенгели привел Волошина и др., причем очень выразительно прочел одно из лучших стихотворений г. Волошина».
На следующий день в той же газете появилась еще одна статья, на этот раз под фамилией А. Станкевича – «Поэзовечер Игоря Северянина»:
«…Далее прочел несколько своих стихотворений из сборника “Гонг” Шенгели – выбор и исполнение были удачны. И, наконец, наступил центральный момент и появился сам Игорь Северянин, встреченный бурными аплодисментами…»
По мнению всех посетителей концертов (то есть – «поэзоконцертов»), Шенгели выделялся и обращал на себя всеобщее внимание: красавец, похожий на бедуина, экзотичный, точеное лицо, пенсне, смуглая кожа, громадные глаза, устремлявшиеся поверх собеседника, когда ему на ум приходила особенно удачная строчка…
Будучи в Москве, он решил воспользоваться случаем и познакомиться со своим любимым поэтом Валерием Брюсовым. Вот как он сам описывает эту памятную для него встречу:
«Брюсов встретил меня у двери, учтиво поклонившись, сказал банальную любезность, – вроде того, что он рад со мной познакомиться, – и усадил в кресло у письменного стола, маленького и невыразительного. На столе с краю лежал фарфоровый кирпичик для беглых записей и стояла стеклянная коробочка с тоненькими папиросками, которыми Брюсов тут же стал меня угощать.
Брюсов оказался выше ростом, чем я думал, и удивил меня глухим голосом, в котором было нечто от орлиного клекота, и гортанным произношением звука “р”. Мне казалось, что у него должен быть металлический голос и безупречная дикция.
Я жадно вглядывался в великого поэта. Да, действительно: “веки, опаленные огнем глаз”, кошачий лоб и крутые скулы: некрасив, но прекрасен. Суровое лицо и вдруг – добрая, даже робкая улыбка. Пристальный взгляд огромных, черных, странно прорезанных глаз – и тут же вскид мечтательного взора к потолку, чтобы поймать там цитату или умную формулу.
Короткими вопросами Брюсов заставил меня “заполнить” анкету: кто я, откуда, где рос, где учусь. Узнав, что я студент-юрист, Брюсов одобрил это “несоответствие”.
– Филология необходима поэту, но филологический факультет ему вреден. Там ему навязывают истины, вместо того чтобы их выращивать в его душе. Но лучше было бы, если бы вы учились на математическом.
Но я не успел порадоваться его одобрению. Брюсов спросил:
– А почему вы избрали юридический?
Увы! Я его избрал по соображениям плоско-житейским: юридический диплом открывает несравненно больше практических возможностей, чем другие: судейские должности, любое чиновничество, адвокатура; а с филологическим или же математическим – иди в учителя. Я с полной откровенностью это и сформулировал. Брюсов поглядел на меня и немедленно “подсек”, хмуро спросив:
– Значит, вас интересовала не наука, а карьера?
Я попытался как-то оправдаться, но не очень удачно.
Разговор коснулся моего “Гонга”.
– Вы талантливы, – сказал Брюсов.