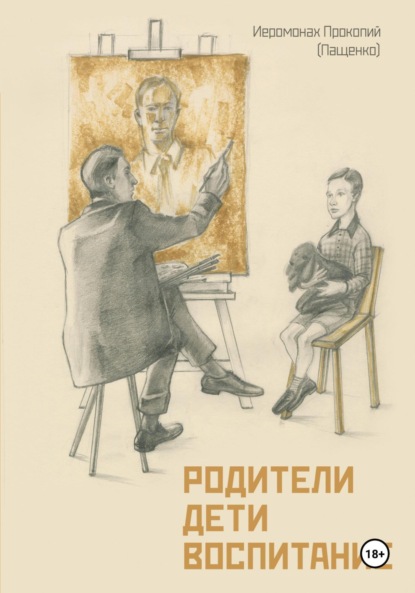
Полная версия:
Родители. Дети. Воспитание.
По крайней мере, необходимо выслушать человека терпеливо. Нам часто не хватает терпения, ведь есть расписание, и нам нужно ехать туда, сюда… Но необходимо искать как-то компромисс, иначе все это растянется во времени.
В любом случае, при необходимости делать замечания. Можно и, извинившись, сказать, что сейчас поговорить невозможно, но вечером поговорим, ты мне расскажешь. Это очень важно, потому что иначе теряется то хрупкое, что невозможно бывает восстановить. Их и так дома и в школе считали за придурков. Если мы пойдем по тому же пути, то ничего не произойдет.
Я несколько раз приводила слова одного удивительного человека – Жана Ванье (он создал во Франции первые общины для умственно отсталых людей – «Ковчег» и «Новый свет») – он ходил по тюрьмам, встречался с людьми, которые были приговорены к пожизненному сроку. Он сделал вывод, что многие люди, которые занимаются социальным служением, социальной работой, когда сталкиваются с маргиналами, то сразу начинают ставить условия: «Я готов тебе помочь, но ты должен измениться. Если ты изменишься – я буду тебе помогать, если нет – то нет». И он говорит – с какой стати взрослый, сформировавшийся человек вдруг будет меняться? Или как в некоторых семьях говорят: «Ты изменись, а потом я тебя полюблю».
Получается наоборот – вначале нужно полюбить, потому что именно любовь может позволить этому взрослому раненому человеку что-то изменить в своей жизни. Никакие установки, никакие условия, ультиматумы не дадут человеку возможности что-то изменить в себе. Именно открытость и любовь дадут такую возможность. «Я полюблю тебя, и тогда ты изменишься».
Мы говорили с владыкой Пантелеимоном, он сказал: «Вот вы с N. ездили в Москву, в Марфо-Мариинскую обитель. Конечно, я стараюсь всех любить, понимать и принимать, но нужно быть честным, и я не могу сказать, что я, увидев Бориса Петровича первый раз в своей жизни, люблю его больше своих внуков – это будет неправда. Но тем не менее он мне очень интересен, и я к нему очень хорошо отношусь. Вы приехали – и я испытываю к нему теплоту и нежность. Это изначально».
Если мы говорим о высочайшем христианском пути, эталоном для нас является Христос. Это уже высокая, очень высокая ступень. Но первой ступенькой к этому может быть просто интерес к человеку, уважение, просто внимательно выслушать его, не перебивая словами: «Что за бред ты несешь?».
Иером. Прокопий: Можно дополнить по поводу «выслушать»?
И. В.: Одним из последствий приема ПАВ, наркотических средств, является так называемая «патологическая обстоятельность»: человек вам хочет что-то рассказать, но рассказывает сперва предысторию, к предыстории еще предысторию и еще какие-то подробности.
Вследствие приема галлюциногенных средств человек утрачивает способность выделять главное. Как отмечено в работах Б.В. Зейгарник, нечто подобное наблюдают у людей, страдающих шизофренией: человек не может выделить главное в том, что хочет до вас донести, поэтому приходится акценты на главном расставлять самому. Может быть, он доберется до сути, но не сразу.
Поэтому, если настраивать себя на то, что все, что он говорит со всеми предысториями, – это и есть то, что он хотел сказать, – сути никогда не поймешь. Она на самом деле, может быть, в конце как-то завуалирована.
У нас есть один батюшка, который обладает даром выслушивать до конца, несмотря всю свою занятость. Я не считаю себя каким-то богословом, на самом деле книжек прочитал очень мало, но все, что прочитал, – это благодаря ему, он никогда не давал мне возможности остановиться.
Времени на Соловках мало, поэтому если бы на какой-то мой вопрос о богословии, когда было что-то непонятно в книжке, он бы мне ответил «некогда», тогда я просто отложил бы эту книжку в сторону. А он никогда не давал возможности бросить книгу на полку. Говорил: «Ну, пойдем в библиотеку», и в библиотеке отвечал уже на вопрос по существу.
Некоторые дети с родителями перестают советоваться, потому что родители иногда отвечают: «Посмотри в энциклопедии». Раз спросил, два, три – всё в энциклопедии. Потом ребенок может перестать спрашивать, потому что знает заранее их ответ (конечно, иногда человека с его вопросом можно и к энциклопедии подвести, и человек может принять такую постановку вопроса от старшего, если старший говорит об энциклопедии ответственно: может, действительно, не знает ответа или читал в энциклопедии хорошую статью по поводу обсуждаемого вопроса).
А этот батюшка спускался в библиотеку со мной, давал вкратце ответ, но говорил: «Если хочешь лучше познакомиться с вопросом, я тебе советую такой-то источник, именно эти две главы». Он всегда давал стимул двигаться дальше.
Когда в самом начале пытаешься что-то понять в богословии, это чем-то напоминает патологическую обстоятельность: то есть пока не сформировалось какое-то видение, какой-то костяк, каркас, бывает такой наплыв мыслей в голове, что не всегда удается сформулировать точно, что именно пытаешься сказать. Этот батюшка всегда внимательно слушал, один раз только мне сделал замечание, сказав: «Отец Прокопий, ты бы записал себя в следующий раз на диктофон, послушал бы и сам бы на свой вопрос ответил».
В течение нескольких лет он меня научил задавать вопросы, не обличая. Я захожу к нему в кабинет, бывает, времени мало. И говорю примерно по такой схеме: «Будет вводное к вопросу, потом последует сам вопрос». Говорю: «Вводное к вопросу» – и объясняю, в связи с чем вопрос появился в поле зрения. Потом задаю сам вопрос.
Сейчас мы уже общаемся быстро. Мы с этим батюшкой прошли путь лет в пять или семь. И многое из того, что я знаю о христианстве, знаю благодаря ему, потому что мне не приходилось штудировать весь массив источников – он всегда указывал то, что нужно читать – даже какие-то отдельные страницы, статьи из дореволюционных изданий, где был буквально дан ответ на какой-то вопрос.
Но если бы он заранее оборвал те мои первые неумелые попытки, вопросы, не было бы и этого семилетнего пути – все бы так и заглохло. Хотя многого и не требовалось – нужно было выслушать до конца, понять, правда, вопросы бывают головоломные. Но он никогда не говорил: «Я такой большой человек, а ты меня такой ерундой отвлекаешь».
Все важно, потому что сегодня, например, человек задает глупый вопрос, но ты его не отвергаешь. Через два года он вырастет и станет задавать умные вопросы, а через три станет твоим ближайшим помощником.
Когда этот батюшка пришел в монастырь, он был единственным, кто имел богословское образование (требовать, чтобы священник перед рукоположением окончил семинарию, стали позднее).
Раньше ему приходилось все делать самому. Но он взялся за воспитание послушников, иноков и несколько лет нас терпеливо выслушивал, отвечал на вопросы, возможно, самые банальные, но всегда давал человеку стимул для роста. Такая его терпеливая позиция привела к тому, что постепенно он окружил себя помощниками.
Если теперь приедет какой-нибудь профессор, с каким-нибудь сложным вопросом, то ему уже не придется самому тратить время, он воспитал для этих целей человека, который ответит на любой вопрос. Еще какой-то вопрос – есть уже человек, который знает ответ на него. То есть, передав свой опыт и знания, он научил людей думать. Соответственно, и уровень монастыря поднял, и получилось, что его самого не заваливают работой.
Ведь мы даже не знаем, где находятся наши ближайшие помощники, может быть, они рядом. Может, мы им шанса просто не даем?
Часть II
Бесполезно ли воспитание?
Беседа с сотрудниками Центра свт. Василия Великого о принципах общения с трудными подростками
Данный текст представляет собой расшифровку беседы с сотрудниками центра социальной адаптации свт. Василия Великого. В беседе разбирался вопрос: является ли бесполезным или нет дело, которым мы – и педагоги, и воспитатели, и священники, – каждый со своей стороны, занимаемся? Речь идет о воспитании. И тема беседы формулируется так: бесполезно ли воспитание?
Вопрос этот важен. Ведь когда мы чем-то занимаемся, необходимы веские аргументы, которые помогли бы нам продолжать делать, что делаем. Ведь если человек знает, что его усилия полезны и нужны, он делает свое дело несмотря на встречающиеся трудности. Если же человек видит, что никому его усилия не нужны, что никого идеи, реализуемые им, не греют, то руки у него опускаются очень быстро. Если человек знает, что у дела, которое он делает, есть перспектива, то его не смущает то, что на некотором этапе своей деятельности он не наблюдает ее плодов. Он спокойно делает свое дело. Он знает, что семя, которое он сеет, принципиально может взойти.
В беседе было решено поделиться некоторыми мыслями и наблюдениями, а также – описаниями ситуаций, которые могут стать необходимыми аргументами, поддерживающими нашу надежду. Во время беседы буду просить директора центра рассказать истории, которые произошли на самом деле и которые комментируют повествуемое. Здесь ничего никому не навязывается. Каждый человек, знакомящийся с приведенными мыслями, наблюдениями и описаниями ситуаций, выводы может сделать сам.
Повторение некоторых мыслей с прошлой беседы
Начать хотелось бы с мысли, на которой мы остановились в прошлый раз, когда говорили о том, как нужно общаться с трудными людьми вообще. Речь шла даже не столько о ваших воспитанниках, сколько о мужьях, сыновьях – о ком угодно. Сейчас все люди очень сложные.
Хотел бы привести слова человека, который обладает большим жизненным опытом. Это писатель Виктор Николаев, который не просто пишет книги, – он ездит, общается с людьми, то есть опыт у этого человека колоссальный.
После общения с беспризорниками и детдомовцами, когда он посещал колонии для малолетних, он обобщил свой опыт, свои впечатления в книге «БезОтцовщина». Очень понравились его слова: «Подростки с их искореженной психикой и разбитой судьбой, как никто, мгновенно чувствуют фальшь, подлость, вкрадчивое заигрывание, и, наблюдая подобное, сразу отворачиваются от такого человека. Вернуть же их расположение к себе после этого очень и очень сложно. А чаще невозможно»[28].
* * *Как было сказано в прошлый раз, архимандрит Трифон (Новиков), окормляющий Сергиево-Посадское СИЗО, говорил, что люди, которые там находятся, мгновенно видят, кто ты есть. Если будешь играть какую-то роль, то они очень быстро это почувствуют. А если ты искренен, то, даже испытывая к тебе какое-то недоверие, все равно рано или поздно они тебе поверят. Это как с золотом: даже если его запачкать, то достаточно потом чуть-чуть потереть, чтобы было стало ясно, что это золото.
* * *Восстанавливая основные тезисы прошлой беседы в памяти тех, кто на ней присутствовал, еще раз повторю, что вера в человека не означает глупой наивности; веря в возможность возрождения для человека, мы не должны уподобляться в поступках сентиментальным старичкам и старушкам – например, оставлять ценности без присмотра, «ключи от квартиры, где деньги лежат», по выражению Остапа Бендера.
Мы учитываем, что у человека было греховное прошлое. Допустим, человек, имеющий печальный опыт употребления наркотиков, способен обычно весьма талантливо манипулировать людьми, раздавая клятвы и обещания, уверяя в благих намерениях.
Поэтому, веря, что и этот человек может духовно возродиться, мы всё-таки отвечаем ему «нет»: «Я понимаю, что тебе нужны деньги, но, зная тебя, я понимаю, что тебе это будет не во благо. Если ты говоришь, что тебе надо завтра поесть, – давай приезжай, я дам тебе еды, бутерброды, заберешь с собой. Но я считаю, что деньги для тебя не полезны». Если мы искренни, человек на такой ответ не обидится.
Люди, особенно с наркотическим прошлым, начинают по привычке настаивать: «Что ты мне постоянно запрещаешь!?». Однако со временем они перестают «давить», потому что чувствуют, что вы говорите справедливо. Для них очень важно, что вы говорите правду не под влиянием собственных эмоций: «Ты такой плохой, ты меня всегда обманываешь…», а вы говорите по существу – это черное, это белое. Им больше ничего не надо. Они видят, что вы говорите так, потому что у вас есть определенные твердые жизненные принципы.
О центре свт. Василия Великого
То, чем, в частности, этот Центр занимается, – очень нужно и важно. Как считают некоторые исследователи, на антинаркотическую пропаганду тратятся колоссальные средства. И здесь вопрос скорее не в том, что если есть такие средства, то почему их на это не тратить? Вопрос поставлен неверно. Вопрос в том – нужно ли их тратить?
По мнению ряда исследователей, самая опасная, уязвимая группа – это подростки 14–16 лет, так как это возраст, когда решается вопрос: человек либо пойдет по нормальному пути развития, либо – по криминальному.
Потом, когда он уже чуть подрастет, подразберется в жизни, в принципе войти в криминальную среду будет уже не так легко – появится перспектива работы, определенные представления о жизни, и он хотя бы узнает, что такое боль, столкнется с тем, что может быть очень плохо в жизни, получит отрицательный опыт. Подросткам же обычно море по колено.
Колоссальные деньги тратятся на попытку вернуть к нормальной жизни людей, которые уже сформировались, людей 30-летних. Но если бы заниматься ими, когда они были более молодыми, когда они еще только-только думали о жизни, то эти средства можно было бы сократить. Возраст 14–16 лет и, возможно, чуть постарше – это самый уязвимый период, и если бы сосредоточить все усилия именно на этой группе, то такого колоссального масштаба проблем, по крайней мере, с наркотиками, может быть, удалось бы избежать.
Хотя через Центр прошло не так много воспитанников – несколько сот, но, как мы с Иулианией Владимировной говорили, на самом деле, эта цифра – колоссальная. Из нескольких сотен воспитанников более половины не возвращается к преступной деятельности.
На первый взгляд, цифра небольшая, но если представить, что за каждым человеком, который сознательно выбрал преступную деятельность, стоит еще множество людей, которых он в это дело вовлекает… Личности здесь попадаются очень харизматичные, в своем роде. Мне приходилось знать людей, которые втянули в употребление наркотиков десятки, а то и сотню человек, потому что они были харизматичными наркоманами.
Напротив, тот человек, у которого были криминальные склонности, но он нашел себя и, по-новому переосмыслив свою жизнь, начал жить нормально, – этот человек обладает уже уникальным опытом, и он в течение своей жизни поможет перестроиться и другим. Прошедшие через Центр люди потом затягивают в свой «водоворот» и других, и детей своих они будут воспитывать уже в соответствии с правильными принципами. Выходит, спираль от этого человека будет закручиваться или в добро, или во зло.
Если смотреть на работу сотрудников Центра с точки зрения профессора С.Г. Кара-Мурзы, это молекулярная работа, и только так и можно действовать. То есть то, что здесь помогают кому-то доучиться – это уже великое дело. Ведь если 16-летний парень не сможет выучиться, дальше жизнь его пойдет по накатанной дороге, и что с ним будет – очевидно. В итоге общество получит асоциального элемента, которого можно только изолировать, и еще тратить на него средства, чтобы кормить и обслуживать. Если же здесь дать ему опыт нормального поведения, получится нормальная социально адаптированная личность, человек сможет в дальнейшем принести даже какую-то пользу обществу.
Когда мне приходилось собирать какую-то информацию (она не за один день возникла, может быть, копилась в течение многих лет), общался со многими людьми и всегда задавался вопросом о том, нужно ли вообще то, что я делаю, или же все это вообще бесполезно и я напрасно трачу время. Несколько лет назад сильно утешили слова святителя Феофана Затворника о том, что семя, брошенное с любовью, непременно прорастает. Может быть, не сразу, но непременно прорастает.
Чтобы прокомментировать эту мысль, мы попросили Иулианию Владимировну Никитину, исполнительного директора Центра социальной адаптации святителя Василия Великого, рассказать об уроках рисования.
Проявить добро и человечность
Иулиания Владимировна: Это уроки рисования в Колпинской воспитательной колонии, которые на протяжении уже долгого времени проводит Виктор (иконописец).
Он очень хороший человек, необыкновенный в том смысле, что очень открытый и понимающий. Его любовь и открытое отношение ко всем людям – передаются. Я видела, как проходят эти уроки рисования: очень часто бывает, что приходят на занятие люди, садятся и – засыпают. Почему это происходит, что они засыпают? Они чувствуют безопасность, потому что ночью спать очень тяжело – человек во сне крайне беззащитен. Некоторым вообще там не дают спать. Эта возможность поспать выпадает на занятии – поспать 1,5–2 часа.
И он, у которого много заказов на иконы, у которого очень много дел, очень умный человек, образованный – он каждую неделю ездит в Колпинскую колонию проводить уроки рисования, чтобы пришла небольшая компания молодых людей поспать, потом попить чай и уйти. Но в тот момент, когда пьют чай и когда спят, Виктор разговаривает и, как он, смеясь, говорит: «Я богословствую. Я им говорю о Боге, о любви. Они спят. Кто-то послушает. Потом мы пьем чай, я тоже рассказываю какие-то истории».
Причем он не обличает и не говорит: «Как? Я ведь такой занятой человек, приехал к вам, а вы тут мне такое устраиваете?». Ни одного слова претензии. Хотя ему ехать – «за семь верст киселя хлебать» – пока доберешься до этого Колпино. А вечером, зимой, выйти из этой колонии, машины у него нет, и там никакого транспорта нет. Пока дойдешь до этой электрички – место такое…
Но это очень важно. Потом многие из тех, кто был в этой группе, говорили, что у них остались удивительные воспоминания, связанные с тем, что вместе, где для добра и чего-то человеческого, сокровенного, для Божественной любви, нет места, – вдруг появляется человек, который несет всё это.
Сила воздействия сравнима с силой целой машины ФСИН (воспитатели, режимники, опера). А этот человек приходит всего раз в неделю, и его помнят. В памяти это остается навсегда.
Иером. Прокопий: Вы рассказывали, что те, кто ходил на занятия, интересовались потом, чем живет этот человек и что заставляет его ходить сюда. Они уже по выходе из колонии начинали как-то узнавать.
И. В.: Туда приезжает очень много представителей разных организаций, в том числе негосударственные организации, благотворители и те, кто привозит гуманитарную помощь, но я не видела, чтобы те, кто потом выходили из колонии, с ними искали встречи так, как с Виктором. Приезжали даже просто поговорить, попить чаю в его маленькой мастерской.
В душе мы все очень отзывчивые, и когда мы чувствуем нечто подлинное, настоящее, мы тоскуем без этого, нам это нужно, хотя мы можем сопротивляться и говорить, что это все бредоносно и ничего в этом такого нет…
Научить примером
– Я вспоминаю свою бабушку. Моя бабушка прожила достаточно долгую жизнь. Знаю, что каждый раз перед Пасхой, в Чистый Четверг, она шла днем, между службами, на рынок и закупала все, чтобы испечь куличи и приготовить пасху. Делала это все сама, дома. Она была уже очень старенькая, у нее болело сердце, все время на таблетках, но все равно она ходила. Каждый год так повторялось.
В последние годы я говорила ей, что это не имеет никакого смысла, но, если уж так важно съесть этот пасхальный кулич, можно же купить кекс «Весенний» или поехать в Лавру (там продают освященные), чтобы не было каких-то сомнений в том, что это действительно то, что необходимо вкушать на Пасхальной трапезе.
Но каждый год она ходила. И это был целый ритуал – она никого не пускала на кухню, она молилась, всех просила: «Только не повышайте голос, все опадет, куличи не любят, когда кто-то ссорится. Только не открывайте окна, потому что будет сквозняк…». То есть она чувствовала, что происходит какое-то таинство раз в году дома, что-то необыкновенное.
И вот она летом умирает.
Приближается Пасха, идет Страстная Седмица. Я с удивлением, даже не понимаю почему, в Четверг иду на рынок, закупаю продукты и всё делаю так, как делала моя бабушка. Меня это так поразило – я даже не могла понять, почему я это делаю – у меня была масса дел, я была занята. Сколько раз я ей сама говорила, что это не имеет ровно никакого смысла.
Тем не менее сейчас, хотя столько уже лет прошло после того, как она умерла (а я хочу сказать, что я хозяйка никудышная, много времени провожу на работе), но что касается Пасхальной трапезы и того, что в Четверг после Литургии нужно идти все закупать и уже в Пятницу, после выноса Плащаницы, начинать все делать – это незыблемо.
Только таким образом мы можем кого-то научить. Это невозможно почерпнуть из книги или как-то научиться… Это как некоторые традиции, которые передаются от одного человека к другому.
Мне видится, что социальная реабилитация и работа с нашими детьми зиждется во многом на той же самой устной традиции и на том, что мы делаем.
Живой опыт, традиции
– Я вспоминаю группу ребят, с которыми мы ездили на юг. Потом несколько раз угощала их кофе в кофейнях, после того как мы ходили с сестрами в одном заведении мыть больных. Нам давали небольшие деньги (кто-то жертвовал), и как раз хватало на кофейню. Ребята себя вначале неловко чувствовали, потом – совершенно по-другому.
Позднее, когда они уже устроились на работу, они все звонили. У них был такой аттракцион – угощать меня кофе со своих зарплат. И сейчас, когда прошло много лет, они тоже звонят и предлагают где-нибудь встретиться – в «Республике кофе» или в «Идеальной чашке» – в какой-нибудь кофейне.
Если бы этого не было, мы бы им рассказывали так: «Знаете, обычно молодые люди не пьют пиво в парадных с девушками. Если у них появляются какие-то деньги, они идут в кафетерий, еще куда-нибудь, в кафе». То есть, если бы мы туда не сходили с ними, ничего бы этого не было, у них не было бы опыта.
Здесь так же – когда мы ходим с ними в музеи, когда мы ходим в театры, когда ездим с ними монастыри, когда мы с ними все это вместе делаем, у них появляется тот самый живой опыт, который передается от одного живого человека к другому живому человеку.
Сила любви
– Батюшка говорил о том, что большая половина ребят после пребывания в Центре живет все-таки вне криминального мира. Но даже те, кто остался в криминальной среде… Я никогда не забуду ситуацию с молодым человеком, который был у нас в Центре, но потом сел. Мы встретились, когда у нас была программа в Колпинской воспитательной колонии. Казалось бы, это молодой человек, который вновь совершает преступление, потом суд, заключение…
Нужно понять, что это такое – воспитательная колония, ведь там все совершенно по-другому. В свое время Жан Ванье сказал, что нежность и милосердие в стенах тюрьмы – это нежность и милосердие, возведенные в степень. Всё не так, как в обыкновенной жизни. Дети там в тяжелом положении, они действительно страдают, они ждут каких-то радостей: что кто-то приедет и им что-то привезет, подарит, хоть ручку. Когда мы с ребятами делали коллажи, ребята спрашивали: «А можно ручку с собой взять?». Или: «А можно я с собой возьму картинку, вырежу?», «можно ли что-то оставить?».
И вдруг перед Новым годом подходит ко мне тот молодой человек с шоколадкой и говорит: «Иулиания Владимировна, поздравляю вас с Новым годом, это вам». Когда я увидела эту шоколадку… Понимаете, это событие просто какого-то космического масштаба.
Надо понимать, что у него была ситуация не очень хорошая – он находился под большим гнетом… В колонии есть ребята, которым эти шоколадки несут, и у них их много, поэтому они могут кому-то пожертвовать одну из многих. В его случае – совершенно другое…
Эта встреча показала, что тот опыт, который он получил в Центре, дает возможность, даже находясь там, в колонии, оставаться человеком и проявлять благородство.
Чтобы прокомментировать слова Иулиании Владимировны по поводу нашего воздействия на другого человека, напомню: в прошлой беседе приводил вам некоторые мысли из «Пастырского богословия» архим. Тихона (Агрикова)[29] о том, что любовь имеет свойство создавать неосознаваемое сразу расположение внутри, в сердце человека, то есть, возможно, он от вас отворачивается, сопротивляется, не хочет вас слушать, но рано или поздно, заглянув внутрь себя, он обнаруживает некое сходство с вами, с теми идеями, которые носите вы – опять же, если вы любили его.

