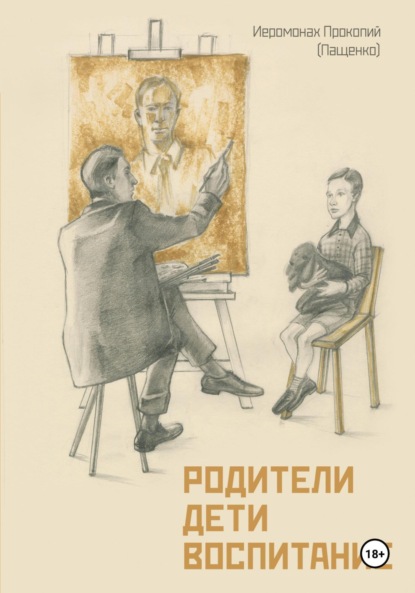
Полная версия:
Родители. Дети. Воспитание.
Дядя Дима был профессиональным военным, здоровый такой, спец по всем этим военным штукам, и я всегда его ждал, прятался за шкаф, а он обычно входил в мою комнату, приговаривая: «Так, так, где он, где он?» – и тогда я прыгал на него из-за шкафа, начинал колошматить, валить на пол, заламывать руки, а он кричал: «А-а-а, как больно, как больно!». Поэтому, спустя десятилетия, когда мне приходилось встречаться с детьми, я понимал, что нужно для них немного побыть дядей Димой.
Когда мы признаем возможность возрождения в другом человеке, что-то происходит между ним и нами, что-то невидимое для глаз, то, что не поддается логике, – он начинает нам доверять.
И другой факт: кто осуждает другого человека, тот перестает его слышать и понимать. Душа осуждаемого человека становится для него непроницаемой тьмой.
Любовь – это не просто слова, призывающие: «нужно любить, потому что нужно любить»… Можно дать рациональное объяснение, почему необходима любовь. Любовь позволяет увидеть другого человека.
Здесь можно провести следующую параллель: в Священном Писании словом «познать» обозначаются самые близкие отношения между мужем и женой («Адам познал Еву, жену свою…» (Быт. 4, 1.)). В латинском языке слово «познать» означает «расчленить»; на языке Библии «познание» означает «слияние с познаваемым предметом».
Отец Тихон (Агриков) и говорит о том, что кто другого человека не любит, его никогда и не поймет – он просто не увидит, не почувствует, что с этим человеком можно сделать.
Если вспомнить евангельские отрывки, Господь не осуждал грешников, он просто говорил с ними, как со всеми людьми. Он побеседовал с Никодимом, и тот, когда другие члены синедриона осуждали Христа, сам будучи членом синедриона, не побоялся подать голос в Его защиту (Ин 7:50), и позднее, рискуя собственной жизнью, содействовал погребению Его тела.
Закхей, мытарь, после того как Христос обратился к нему с ободряющим словом участия, пообещал раздать половину своего имения нищим и воздать вчетверо всем, кого обидел (Лк.19:5–8).
У отца Тихона есть еще очень интересные мысли о призвании человека к возрождению: во-первых, часто наше поверхностное знание о человеке и то, за что мы его осуждаем, совсем не соответствует действительности.
Кроме того, когда мы не верим в возможность возрождения для другого человека, отказываем ему в доверии, то тем самым толкаем его на новые преступления.
Хотел бы отметить мысль отца Тихона (Агрикова), которая в начале моего священнического пути меня глубоко поразила: «Души грешные – это брошенные в грязь жемчужины…»[6]. «Возможность очищения каждого грешника утверждается на остатке в нем естественного добра. В это добро природы, как в расщеп дикой яблони, пастырь может влагать добрый прививок своего попечения».
То есть в каждом человеке есть семена природного, изначально заложенного Богом добра. Насколько бы ни был человек грязен, испачкан, всегда в нем остается что-то неповрежденным. И к этому глубоко сокрытому семени всегда можно привить росток добра, что и делали наши старцы.
Любовь
Еще раз подчеркнем: когда говорят о любви, всегда хочется расшифровать это понятие. Утверждение «просто нужно любить» требует пояснений, о чем идет речь (любовь у буддистов подразумевает одно, в других религиях – совсем другое).
Можно сказать, что любовь меняет человека помимо его воли. Он может даже отворачиваться от того, что вы ему говорите, сопротивляться, не воспринимать ваши слова, но любовь обладает свойством проникать, подобно излучению, сквозь кожный покров и оседать где-то на глубине души человека. Спустя некоторое время, рано или поздно, человек, который вам сопротивлялся, возможно, вас порой ненавидел, обнаруживает, что верит в то, во что верили вы, соглашается с тем, с чем соглашались и вы.
В качестве комментария к взглядам отца Тихона хотелось бы сказать несколько слов о преподобном Амвросии Оптинском. Ежедневно принимая великое множество народа, он вернул к жизни сотни, если не тысячи людей. «Он знал, что в самом сильном искажении человеческом, там, где-то далеко, лежит искра божественного дара, и эту искру чтил отец Амвросий»[7].
И как бы низко ни пал человек, он вновь возвышался благодаря общению с отцом Амвросием, потому что отец Амвросий держал себя на равных, конечно, без панибратства, но не унижая человека, не выступая в роли высокомерного учителя. Человек, чувствуя, что такой всеми почитаемый, мудрый старец смотрит на него как на равного, начинал верить, что и в его собственной жизни еще не все потеряно.
Немного уважения со стороны
Очень интересно было узнать мысли самих бывших наркоманов на тему доверия и веры в человека. Денис, бывший наркоман, пишет: «Давайте же попробуем помочь больным [наркозависимым] людям не упустить их шанс. Им для этого не так уж много надо: чуть-чуть веры в себя и немного уважения со стороны. Поверьте на слово – в большинстве своем они заслуживают его»[8].
Спасла женщина, от которой исходила любовь
Вот признание другого человека: «Спасла меня женщина, непохожая на остальных людей. От нее исходила любовь, доброта, я видел, что этот человек искренне желает мне помочь»[9]. Он вспоминал, что был не согласен с теми христианскими взглядами, о которых она ему рассказывала. Выше я указывал удивительное свойство, присущее любви: пусть человек вначале не принимает, даже ненавидит то, что вы говорите, но рано или поздно каким-то непостижимым образом он это находит в собственной душе.
Так же и этот человек – он согласился с этой женщиной. Сейчас у него совсем другая жизнь, полная радости, мира и любви.
Не терзать прошлым
Интересен опыт и преподобного Порфирия (Кавсокаливита): к нему приезжали и мусульмане, и индуисты – кто только ни приезжал, но он никому не пытался навязать свою позицию и всегда выслушивал человека. У него был принцип беседовать о том, что волнует самого человека. Например, бывало так, что к нему приезжали хиппи, и он говорил с ними о их проблемах, а потом случалось даже, что кто-то из этих людей приезжал отдельно, чтобы побеседовать уже о духовной жизни, и преподобный Порфирий с ними разговаривал.
Важно понять: терпимость преподобного Порфирия происходила не оттого, что он соглашался со взглядами и пороками пришедшего к нему, а оттого что, принимая человека таким, каков он есть на данном этапе, старец давал каждому возможность нравственно возродиться. Как о нем говорили, он хотел людей ввести в новую жизнь, а не терзать их прошлым.
Архимандрит Трифон (Новиков), настоятель храма при Сергиево-Посадском СИЗО
Опыт отца Трифона, настоятеля храма при Сергиево-Посадском СИЗО, также ярко свидетельствует о том, какие плоды дает отношение к человеку, когда его не терзают прошлым, а верят в возможность его нравственного возрождения.
Можно посмотреть фильм-лекцию[10], где отец Трифон очень трогательно рассказывает об этом. Когда я попросил одну паломницу фрагменты его рассказа набрать на компьютере, она сказала, что искренне благодарна, потому что для нее самой многое из фильма стало открытием.
Перескажу некоторые мысли отца Трифона своими словами, близко к исходному тексту.
Отец Трифон рассказывает в фильме, что владыка Феогност дал ему благословение открыть храм в Сергиево-Посадском СИЗО. Надо сказать, что СИЗО – это не колония, где есть хоть какая-то возможность вести работу с тем небольшим процентом заключенных, кто ходит в храм, потому что они стабильно находятся в колонии. В СИЗО контингент постоянно меняется. При каждом новом посещении камеры, как он говорит, состав людей обновляется процентов на шестьдесят.
По словам архимандрита Трифона, возникало ощущение, что они стоят на железнодорожном полотне, подъезжает платформа с землей, они сажают росточки, поливают, окучивают, затем эту платформу увозят и привозят новую. И снова – сажаешь, трудишься, и снова ее увозят.
Всегда хотелось видеть хоть какие-то плоды, потому что возникало такое ощущение, что работали просто вхолостую. К тому же представители администрации говорили, что мы зря это все затеяли, потому что те, кто пробыл здесь два года – это люди уже деградировавшие, и с ними бесполезно вообще о чем-то говорить.
Отец Трифон утверждает, что в итоге увидели обратное. Со временем, не сразу стало это понятно, а лишь когда начали приходить письма с зон. Конечно, большой процент писем – это просьбы о помощи. Кстати, нам на Соловки тоже приходят письма по десять страниц, где написано: «Я верующий, читаю Библию», дальше рассказ автора письма, какой он христианин, а в конце идет список: «а в целом я нуждаюсь в сгущенке, 2 кг печенья…» и пр. Все предыдущее было просто прелюдией к списку. Некоторые, напротив, сразу пишут: «Не подумайте, что мне что-то нужно, поэтому сразу говорю – ничего мне не присылайте…». Возможно, и это своеобразная тактика с дальнего захода…
Но отец Трифон говорит, что начали приходить письма, из которых стало понятно, что плоды все-таки есть. Эти письма невозможно было читать без слёз. Были такие, в которых люди признавались: «Вначале мы были с вами не согласны, считали, что вы говорите не то, но впоследствии попали в такие ситуации, что вспомнили то, о чем вы нам говорили…».
У многих людей произошла переоценка ценностей и начался путь к духовному возрождению.
После лекции я попросил отца Порфирия, наместника и игумена Соловецкого монастыря, так как когда-то он был казначеем в Лавре, дать мне какой-нибудь контакт, чтобы возможно было выйти на отца Трифона. Съездить и с ним лично поговорить не получилось – общались только по телефону. Он хотел свозить на место своего служения, потому что, по его словам, «этого не понять, пока ты там не побудешь».
Надо сказать, что преступный мир – это мир совершенно особый: у многих заключенных есть некий дар своеобразного видения. У некоторых людей в застенке этот дар развивается очень быстро благодаря тому, что они там оказываются в стесненных обстоятельствах.
Буквально через несколько минут после того, как человек входит в камеру, такие люди уже понимают, кто пришел и с чем. Поэтому как бы кто ни пытался выглядеть «добрым дядей», они мгновенно чувствуют фальшь и авторитет теряется. Поэтому к этим людям нельзя ходить ради галочки, им невозможно солгать. Человека понимают и принимают только тогда, когда он искренен.
Отец Трифон отмечает, что и опыт общения с подобными людьми нарабатывается не сразу – ведь не сразу дерево вырастает из семечка, – и здесь так же, все приходит с годами.
И он заметил, как эти люди, искаженные атеизмом, борьбой с религией, как они начинали меняться. Вследствие чего это происходило? «Увидели практически, когда вроде бы из такого преступного мира: убийцы, насильники, грабители, законченные алкоголики пишут нам письма с зоны, письма, которые нельзя читать без слез, стали на исповеди искренне плакать, но (подчеркиваю) только после того, когда увидели, что они нам небезразличны, что их судьбы нас волнуют».[11]
Сопереживать другому
Отец Трифон говорит о том, что брать на себя человеческое горе – это очень непростое дело. В духовничестве есть такой аспект, когда ты берешь на себя горе другого человека, но рекомендовать подобное никому не следует – как это происходит, логически не объяснить, что-то происходит мистически, старцы обладают этим даром.
Когда приходит человек, который находится на грани самоубийства, в страшной депрессии, его мучают какие-то страшные помыслы, он приходит к старцу, делится своей проблемой. А старец ему на это отвечает: «Иди, погуляй…» – «Что, ничего мне не скажете?». И человек уходит расстроенным, что ему ничего не сказали.
Просто он даже не понял, что произошло, но, как только вышел за порог, словно все оставил, все, что его тяготило, и ушел, выпорхнул как птичка. А все, что у него до этого было, вся эта тяжесть, мука от мыслей о самоубийстве – все это каким-то образом перешло на старца, который в течение нескольких следующих часов, ночей или недель должен в себе это все победить, преодолев всё, чем мучился тот человек.
Бывает, матери способны совершать нечто подобное, но это никому нельзя рекомендовать, потому что человек может просто сломаться под таким грузом, не выдержать. Поэтому я бы у отца Трифона эту формулу «брать на себя» вырезал, оставил бы просто – «сопереживать».
Когда ты человеку сочувствуешь в его горе, он это понимает и начинает открываться. Важно помнить: каким бы ты ни был, если ты человеку сопереживаешь, он тебя тоже принимает. Возможно, будет какое-то личное недопонимание, но, главное, если в человеке есть добро, то это можно сравнить с золотом: как его ни пачкай, достаточно протереть, и оно заблестит.
У человека может сложиться о вас какое-то предубежденное мнение, пусть он даже заранее будет готов дать вам отпор во время встречи, но если вы приходите с добром, рано или поздно это станет очевидным. Он вас проверит и после второй, третьей проверки поймет, что вы действительно не желаете ему зла.
Для отца Трифона было настоящим откровением, когда люди начинали плакать: слёзы преступника – это слёзы человека, который прошел через убийства, из него слезу палкой не выбьешь – эти слёзы стоят дорогого, но возникают они тогда, когда начинаешь ему искренне сопереживать.
В настоящее издание включена глава «Дети, которых теряют родители», изданная отдельной брошюрой и размещенная на сайте монастыря[12]. В ней кратко изложены некоторые мысли о молодежной субкультуре готов и о трудных детях вообще, и там среди других примеров включен интересный эпизод из жизни священника Алексея (Мечева).
В XIX – начале XX века, когда жил о. Алексей (Мечев), в высшем аристократическом обществе существовало во многих семьях отчуждение родителей от детей (для ухода и воспитания нанимали гувернеров, нянек). Когда родители с детьми обращались на «вы», и дети так же к родителям – на «вы». И всё в доме, в семье, в отношениях – белое, чистое, безупречное, но словно безжизненное. Родители не считали себя обязанными интересоваться детьми.
Однажды отца Алексея (Мечева) пригласили в подобный великосветский дом, где предпринял попытку к самоубийству молодой человек, видимо, отпрыск знатных аристократических особ[13]. Священник зашел в комнату, где лежал юноша с повязкой на голове. Отец Алексей пытался с ним поговорить (очевидно, юноша был при смерти – его следовало исповедовать, причастить), но умирающий был просто непроницаем, упорно молчал, словно заледенев сердцем.
После долгих безуспешных попыток как-то до него достучаться батюшка просто обнял его голову и по-отечески прижал к себе. После этого жеста без всяких слов юношу будто «прорвало», он зарыдал и стал рассказывать, насколько невыносимо ему жить в таком доме, где есть роскошь, комфорт и деньги, но нет самого главного – душевного тепла.
Исповедуясь, он настолько открылся, что, когда отец Алексей собирался уходить, молодой человек его останавливал со словами: «Я еще об этом хотел рассказать…». Снова батюшка уходить, а он: «Я еще вот это помню…».
Еще можно привести несколько удивительных моментов в жизнеописании святителя Игнатия (Брянчанинова). Воспитание детей можно было бы назвать весьма жестким и порой жестоким, хотя оно принесло хорошие плоды: родной брат святителя Игнатия стал губернатором. Детей кормили крайне скудно и не давали много спать. Возможно, свт. Игнатий (Брянчанинов) не стал бы тем, кем он стал, если бы не воспитывался так строго. К девятому классу он уже знал несколько языков, читал по-гречески, по-латыни. Он был любимцем императора и мог сделать блестящую офицерскую карьеру.
Приведу характерные эпизоды, иллюстрирующие условия, в которых рос будущий святитель.
Однажды, когда к ним были приглашены гости, мальчики из дворянской семьи, им подали к столу белый хлеб. Тогда Дмитрий (так звали святителя Игнатия до монашеского пострига), поскольку ничего похожего ему не давали, решил, раз гостям предлагают, тоже попробовать угощение. За то, что он съел эту булочку, которую поставили гостям, отец заставил его встать на колени и стоять так несколько часов с этой булкой во рту.
Еще один случай, по некоторым свидетельствам, характеризует обстановку того времени. Горничная докладывает маме Дмитрия о здоровье детей.
Мама спрашивает:
– А что София, выздоровела?
Горничная:
– Выздоровела, но еще жар – надо в баню сводить и чепчик пока не снимать, потому что еще температура…
– Нет-нет, в чепце некрасиво. Снимите. И в баню – это некультурно.
Увидеть образ Божий
Приведу еще один пример того, что значит – «увидеть» человека, и насколько это дорого. Возможно, он останется у вас в памяти.
Митрополит Антоний (Сурожский) рассказывал[14], что однажды он шел за одним профессором, у которого попросил денег «профессиональный» нищий. Между ним и профессором начался какой-то разговор, после которого нищий вскочил на ноги и обнял этого профессора.
Митрополит Антоний (кажется, он тогда еще не был митрополитом) очень удивился и решил спросить, что же тогда произошло. Оказалось, что этот профессор не имел денег даже на метро и поэтому шел пешком, а когда человек попросил денег, профессор остановился в растерянности, подумав, что, если он сейчас ему откажет, тот узнает в нем русского (это было в эмиграции) и подумает, мол, «вот еще один человек, которому до меня нет никакого дела». Поэтому, признал профессор, он снял перед нищим шляпу и попросил у него прощения за то, что ничего не может ему дать. После этого нищий встал и обнял его.
Потом выяснилось, что это был «профессиональный» нищий, который зарабатывал за день больше, чем профессор за неделю. Но для нищего ценность поступка профессора была в том, что он утвердил в нем чувство собственного достоинства, что он увидел в нем человека.
Еще мне рассказывали о случае, который произошел с митрополитом Вениамином (Федченковым): один эмигрант уже по-настоящему просил у него денег. Владыка, не имея средств, не смог ничего подать просителю, но так же с уважением и сочувствием, по-человечески с ним обошелся, и этот человек, который просил денег, расплакался и сказал: «Спасибо, вы сделали для меня гораздо больше, чем если бы вы просто дали мне денег. Вы увидели во мне человека».
Разделить грех и человека
Когда мы говорим о человеке, очень важно разграничить грех человека, его проступок и саму человеческую личность. Можно порицать конкретный поступок, действие или строй мыслей, не затрагивая саму личность.
В последовании панихиды есть слова, которые мне очень нравятся. О человеке говорится: «я – это образ Твоей неизреченной славы, хотя и язвы ношу прегрешений». Здесь сказано достаточно: в человеке сокрыт неистребимый образ прекрасного, хотя он и носит язву прегрешений. То есть можно осудить прегрешения, но оставить в покое самого человека.
В качестве примера можно вспомнить картину в Эрмитаже «Даная» Рембрандта – ее облили кислотой. В результате она была очень сильно повреждена, но никому и в голову не пришло ее выбросить на помойку, картину начали бережно восстанавливать, и в итоге мировой шедевр был возрожден.
Подобные мысли есть у некоторых духовных авторов, что человек – как разбитая икона…
Когда один молодой человек хулиганил, папа его отчаивался, говорил: «Всё, всё, нашего сына к жизни не вернуть». Мама на это отвечала: «Давай тогда выкинем его на помойку». Мама здесь хотела отрезвить папу и призвать его к борьбе за жизнь за сына. И они помогли парню встать на ноги.
Когда в человеке видят именно саму его личность, происходят совершенно удивительные вещи, которые сложно логически осмыслить. Как говорится, истина не доказывается, она показывается.
Найти подход
Хотел бы еще обратиться к образу владыки Илариона (Троицкого), особенно к периоду его жизни на Соловках.
Книги владыки всегда являлись для меня эталоном словесности по логике изложения, структуре текста. Я всегда восхищался его слогом. Владыка имел ученую степень магистра богословия, но его отличительной чертой была необыкновенная простота, и в личной жизни он был чрезвычайно простым человеком. Его нельзя было ничем опечалить, его настроение поднимало дух окружающим, хотя он оказался на Соловках в то время, когда Соловки были лагерем особого назначения, и туда посылали не в заключение, а на смерть, чтобы там уничтожить: применялась специальная тактика, чтобы в первые месяцы каторги выжать из человека все, заставить людей потерять свое человеческое достоинство и превратиться в безропотный скот, который в ветхом хлеву доживает свои последние дни.
О владыке Иларионе сохранились такие воспоминания: «…ко всем он относился с подлинной любовью и пониманием. В каждом человеке он ощущал образ и подобие Божие, жизнью каждого человека интересовался искренне. Он часами мог говорить и с офицером, и со студентом, и с профессором, и с представителем уголовного мира, каким-нибудь известным вором, которого он с любопытством расспрашивал о его «деле» и жизни. <…> Его простота скрашивала и смягчала недостатки его собеседников»[15]. Внутренний покой владыки переливался в их измученные сердца.
Благодаря любви и открытости он стал самой популярной личностью из всего контингента заключенных на Соловках: я говорю даже не о богословской среде, хотя в заключении на Соловках находились иерархи Церкви, которые по сану были выше, чем владыка Иларион, но наибольшим авторитетом пользовался именно он. Не только генералы, профессора и студенты знали его. Его также «знала «шпана», уголовщина, преступный мир воров и бандитов именно как хорошего, уважаемого человека, которого нельзя не любить»[16].
Можно было наблюдать, как в периоды отдыха от работы он в монастырском дворе под руку прогуливается с каким-то, как сказано в книге, «экземпляром» из этой среды, но это не было снисхождением, подобным тому, когда великосветские дамы, с опаской как бы не испачкать своих белых перчаток, выдают на какой-нибудь благотворительной акции в детский дом пачку подгузников, чтобы сфотографироваться и продемонстрировать всему свету свою отзывчивость и альтруизм…
Со стороны владыки Илариона не было снисходительного тона по отношению к падшим и погибающим во грехе – владыка разговаривал с каждым, как с равным.
Известно, что так называемая «шпана» очень горда и самолюбива, не прощает высокомерия и пренебрежения. И покоряла всех именно эта манера владыки – не снисхождение, а общение на равных. И он, именно как друг, облагораживал окружающих людей своим присутствием и вниманием.
О принципах
Хотел бы познакомить вас еще с некоторыми примерами. Выводы сможете сделать самостоятельно, так как все вы люди с большим жизненным опытом.
Кто-то говорит без примеров, опираясь на накопленные знания, но у меня нет за плечами пятидесятилетнего опыта, и я не считаю, что имею какое-то право говорить, мол, «вот, нужно так…». Просто есть некоторые принципы, которые работают. Они будут озвучены, а принять или не принять – это уже ваш выбор.
Могу указать на еще одну посвященную нашей теме интересную книгу, которую можно почитать. Это книга Виктора Николаева «БезОтцовщина» – о детях-беспризорниках. Автор написал ее на основе конкретного жизненного материала – он ездил по детским колониям, общался с детьми (беспризорниками, сиротами). Многие из тех, кто оказался в колониях, были детьми из состоятельных семей, однако встали на преступный путь.
Мне очень понравилось замечание о работниках колонии для несовершеннолетних, которую он описывал. Он писал, что заниматься воспитанием ребят, живущих в колонии, может только человек «мужественный, обладающий чуткостью и чувством глубокого сострадания. Все это крепится на фундаменте высокой нравственности и личной ответственности за свои дела. Подростки с их искореженной психикой и разбитой судьбой, как никто, мгновенно чувствуют фальшь, подлость, вкрадчивое заигрывание и, наблюдая подобное, сразу отворачиваются от такого человека. Вернуть же их расположение к себе после этого очень и очень сложно. А чаще невозможно. Руководство, понимая это, главный упор делает на точное соответствие слова и дела»[17].
То есть слово не должно расходиться с делом. Таких людей уважают. Один человек, выросший в хорошей семье, но попавший потом в околобандитскую среду, говорил о себе: «Пацан сказал – пацан сделал!». Понятно, на такого человека не будет иметь влияния тот, у которого на словах – одно, а на деле – другое.
Конечно, здесь речь не идет о жестокости. Я разговаривал с одним человеком, который по долгу службы конвоировал заключенных из тюрьмы в тюрьму. Он был серьезным специалистом по рукопашному бою. Он делился своим опытом: когда конвоируемые заводили какие-то ненужные разговоры, он говорил: «Еще раз – и получишь в ухо». Если опять поднималась эта тема в разговоре – выполнял обещание. Потом спрашивал: «Ты на меня не обиделся?» – ему отвечали: «Начальник, да нет, какие обиды!». Ведь он предупредил, и если бы в ухо не дал, то был бы, с их точки зрения, неправ.

