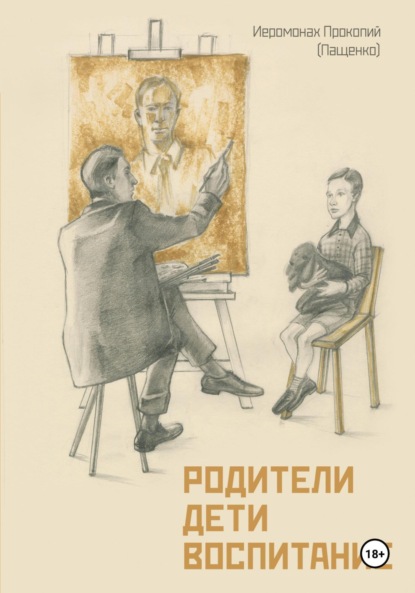
Полная версия:
Родители. Дети. Воспитание.
И. В.: Здесь, в Центре, как мне кажется, очень важно создать условия для того, чтобы человек принял самостоятельно правильное решение. Даже когда проходят родительские конференции и нужно принять какое-то ответственное решение, очень важно не говорить: «Вот – так, так и так! Ты будешь делать это, а это делать не будешь».
Необходимо, чтобы человек самостоятельно принял ответственное решение и дал письменное подтверждение самостоятельности принятого решения. Мы берем такое подтверждение, потому что это очень важно для человека.
Здесь я выскажу свое личное мнение, оно может быть ошибочным, поэтому подчеркиваю, что оно – личное. Поэтому в беседе я ссылался на жития. На мой взгляд, у каждого человека есть определенный лимит авторитета. Если мы делаем какие-то замечания, может быть, нечасто, но по существу, другому человеку, в частности, трудному, то он нас воспринимает. Если замечания постоянные и не всегда по существу – информационный канал перегружается – человек просто его отключает.
Бывает, у родителей звучит одно и то же: допустим, посуда немытая, мама заходит, и только она произносит «и…», сын уже знает: «Мама, не надо мне про посуду, все-все, до свидания», закрывает дверь, начинает тоже огрызаться.
То есть можно сказать что-то по серьезному поводу. Хотя и посуда, конечно, должна быть вымыта. Но есть вещи, может быть, не принципиальные, а человек просто стремится отстоять своё право на определенную свободу: «Я не хочу идти туда…» или «Я хочу прийти позже…». Почему, раз он так хочет, не дать ему возможность прийти позже? Если мама будет тупо настаивать на своем: «Нет, я сказала!..», то и он начнет раздражаться, потому что не видит у мамы четкого мотива, подумав: «Она что, хочет так свою гордыню, власть проявить?».
Был бы четкий мотив, например: «Надо прийти в 8:00, потому что в 8:15 придет сантехник, а меня не будет дома». А тут человек просто видит, что идет принцип на принцип, и сдаваться тоже не хочет.
Поэтому в каких-то спорных ситуациях, где ваша (или моя) позиция слаба и основана больше на эмоциях, чем на фактах, если человек с нею не согласен, – возможно, стоит уступить, пусть будет, как он хочет, но это дает нам шанс настоять в принципиальных вопросах, то есть не исчерпать свой лимит.
Чтобы не опускались руки – нужна Вера
Еще одну тему хотел бы вкратце хотя бы озвучить – проблема духовного выгорания, когда опускаются руки, возникает ощущение безнадежности собственных усилий. У священника Павла (Великанова) есть статья «Кризис пастырского служения»[36]. Она, может быть, и вам подойдет, и родителям, потому что эта статья – вообще о феномене выгорания.
Выгоранию подвержены в основном люди, которые часто вынуждены общаться с другими людьми. Те, кто часто общается с другими, часто переживают кризис. В чем он может проявляться? – «Я к ним со всей любовью и добротой, а они мне в ответ плюют в душу… Я теперь в жизни вообще палец о палец не ударю, вообще никому говорить ничего не буду».
Но, как пишет отец Павел, когда человек переживает кризис, возможно, это и хорошо: если выгорел весь человеческий материал, то, придя к полному нулю, человек должен будет действовать по-новому, он сможет прийти к Богу и свое служение людям основывать уже на других позициях – не на личных эмоциях. То есть, не как некоторые дамы любят помогать бедным: три пирожка раздала и можно на великосветском рауте рассказывать, что кормила бедных. Не так… А черпая силы именно из подлинной веры. Если есть вера в Бога, значит, есть вера в благодать и в ту силу, которая людей возрождает.
На эту тему можно прочитать еще одну очень интересную книгу, от нее оторваться невозможно, поэтому она прочитается очень быстро. Это дореволюционная книга, повесть называется «Архиерей»[37]. Автор – иеромонах Тихон (Барсуков).
В книге есть глава, где вы узнаете себя и родители себя узнают. Священник Герасим пошел учиться в семинарию, чтобы стать священником и помогать людям самым безнадежным, падшим, оказавшимся на дне общества. Когда он учился в семинарии, специально искал проповеди о любви, книги о любви, и когда его назначили на приход, который находился на самой окраине города, священник вышел к этим людям и пламенно говорил о любви, но, как потом выяснилось, вся его проповедь принесла почти нулевой результат.
Потом он пришел в ночлежку, где жили одни бомжи, и пытался проповедовать о морали. Вдруг видит, что лежит пьяный человек в луже рвоты, и начинает всем бомжам говорить о вреде пьянства, что пьянство – это такой порок, который разрушает душу. Они его долго слушали, потом цинично заметили: «Вы знаете, а он умер».
Тут он понимает, что стоит долгое время над трупом, до которого нет никому дела, читает эту проповедь, а человек уже мертв. Его это поразило, он переворачивает человека и видит у него на животе огромную язву от сифилиса.
И он восклицает: «Что же я говорю о любви, когда их лечить надо!». Тогда о. Герасим выбрасывает все свои книги о любви, весь дом заставляет склянками, начинает рыться в медицинских книгах – то есть началось то, о чем пишет отец Павел – испарение Бога.
Этот священник сокращает службы, все в храме покрывается пылью, престол покрывается пылью. Такое выгорание происходит, когда первоначальный импульс, может быть, рожденный религиозным порывом, слабеет и угасает, то есть человек забывает, во имя чего он все затеял. Он начинает помогать, лечить, кормить, и здесь его настигает прямое выгорание, потому что, пытаясь помочь людям, он сталкивается с необъятным морем проблем: выдергивает из нищеты одного, на место этого человека приходят трое. О нем узнают бомжи и уголовники со всей округи, в этот город начинает стекаться множество неустроенных людей, которые ждут от него, как от священника, помощи, исцеления, медикаментов, денег.
Тогда он уже просто разрывается, потому что не может помочь всем нуждающимся. Затем происходит самое тяжелое: они начинают ему доверять и открывают перед ним свои души. Когда он был еще молодым человеком, он и не подозревал, что в человеке может быть столько греха.
Эти бедняки, которых он считал такими славными, невинными страдальцами, вдруг признаются, чем они на самом деле занимаются, и его это по-настоящему потрясает, он понимает, что все, что он пытался в них вложить, – бесполезно, они неисправимы. У него опускаются руки, он закрывается в своей комнате в беспробудной тоске, но главное – он скатился в атеизм, то есть, видя столько страданий, начинает считать, что Бога нет. Мол, если бы был, то не допустил бы таких страданий.
Потом произошла совершенно удивительная беседа этого священника с архиереем. Всем советую почитать. Архиерей был назначен в эту епархию и начал ее осмотр. Что удивительно, везде храмы блестят, все в золоте, и он приезжает в этот храм, где кучи мусора лежат у порога, заходит в храм, там везде паутина, в алтаре пыль, у священника в доме не убрано, сам он обросший, давно не служит.
И вдруг архиерей заявляет, что этот священник является единственным верующим человеком во всей епархии. Такой парадокс.
Архиерей не стал сразу делать выговор, что храм не убран. Он как мудрый человек сразу понял, что просто так это не могло произойти.
Их беседа продолжалась до рассвета. В священнике столько злобы накопилось, столько неотвеченных вопросов, что он заранее приготовился архиерею дать отпор: «Если он сейчас заявит о смирении, мол, смиряйся, брат, с этими трудностями… молись, постись и слушай радио «Радонеж» – я тут же ему все выдам, что я думаю о смирении, о Боге». У него уже сложилось атеистическое мировоззрение.
Архиерей не стал укорять священника за несмирение… Он сказал: «Я понимаю вас… Но в принципе-то, что вы видели? Да, видели двух людей, которые сгнили от сифилиса. А вы знаете…» – и начинает перечислять всё то, что в жизни есть еще страшного и гнусного, о чем этот священник даже не имел никакого понятия. Он говорит о язве, которая «сгрызает» человеческий род, он описывает масштабы этой язвы, этого поражения, которому подвержена наша природа. И говорит: «Вот вы видели только это, а в мире есть еще это, это и это… А еще это и это…».
Потом архиерей сказал батюшке: «Вы принялись бороться с этой язвой своими силами и, конечно, потерпели крах, потому что природа поражена настольно, что человеческими усилиями ее исправить невозможно. Но вы обопритесь на благодать и поставьте своих пасомых под действие благодати, и вы увидите, какая произойдет перемена». В конце повести рассказано, как создается община из этих бомжей, как люди совершенно перерождаются.
Когда читаешь книгу, порой возникает ощущение, что именно так все в жизни не могло происходить – история слишком последовательна, слишком интересна. Но, по всей видимости, автор был очень мудрым человеком – он наблюдал в жизни какие-то конкретные, отдельные события. Может быть, существовала такая община, такой священник, а автор объединил в книге все, что видел в жизни.
Так поступил Виктор Николаев в своей книге «Из рода в род» – он путешествовал по многим тюрьмам, но для единства сюжета, все случаи, которые он собрал, изложил так, будто они происходили с жителями одной колонии, чтобы была композиционная целостность.
Итак, действительно, когда мы опираемся только на себя, то рано или поздно происходит такая же катастрофа, разочарование. Об этом говорится в статье о. Павла (Великанова). В «Пастырском богословии» архим. Тихона (Агрикова) есть глава, посвященная тому, как батюшка начинает служить в своем приходе – он полон рвения и замыслов, что сейчас изменит мир. Чтобы спасти его от гордыни, Господь попускает, чтобы первое время все валилось у него из рук – на него наваливаются какие-то беды, проблемы и искушения, от которых хочется бежать на край света.
Конечно, никуда не надо бежать, надо просто смириться и в уединении, тишине и молитве все это пережить. Потом – выйти снова на свое служение, но уже опираясь на благодать Божию. Потому что, когда нет опоры на благодать, очень тяжело. Когда приходит человек, пытаешься ему помочь, но он все равно уходит. Что остается, если не верить в благодать? – только разочарование в добре и вообще в жизни.
Мне очень понравились слова Наталии Пономаревой об этом. Не знаю, как сейчас, но когда я с ней последний раз общался, она работала в синодальном отделе по тюремному служению, еще вела курсы катехизации при одном храме. Есть очень хорошая традиция – прежде, чем человека крестить, ему в течение года объясняют основы веры. Некоторые люди слушают с интересом, а некоторые завершения годичного курса не дожидаются, уходят.
Она говорит: «Это, конечно, тяжело видеть, когда в человека столько вложил, а он уходит. Но не могу же побежать, взрослого человека схватить за рукав со словами «вернись». Остается только перекрестить уходящую спину, сказать: «Господи, путями, какими ты сам знаешь, спаси этого человека».
Иначе очень тяжело. Прп. Серафим Вырицкий был наделен даром прозорливости – люди к нему приходили, а он знал уже, как их зовут, какие у них вопросы и что им нужно сказать. Как-то обмолвился одному человеку: «Ты не представляешь, насколько это тяжело, когда к тебе приходит человек, ты знаешь его проблему, ты знаешь, как ему помочь, и ты заранее знаешь, что твоего совета он не послушает, а поступит все равно по-своему».
Отсутствие двойных стандартов
Крайне важно, что в вашем Центре существует такой принцип: то, что не разрешается воспитанникам, не разрешается и взрослым. Отсутствие двойных стандартов – это очень правильная вещь. Мы и начали с мысли о. Владимира (Кучумова), что подростки прислушаются к взрослым людям, когда поймут, что их слова – это не ложь и не ханжество.
В первой беседе на эту тему я уже рассказывал про бывшего рецидивиста, который впоследствии встал на путь исправления. Несмотря на то, что родители в детстве его пытались воспитывать, воспитание было специфическим – днем звучали правильные слова («Учись! Будь честным!»), а вечером он ложился спать, и у родителей начинались совсем другая разгульная жизнь… Штрихи повседневности: папа пьяный поперек комнаты лежит, мама ворует на местном рынке. Образ жизни родителей всю их проповедь свел практически к нулю.
– Иулиания Владимировна, вы про Новый год говорили, что ребята тогда хотели воспитателей подловить…
– Да, я помню. Это было достаточно давно. Ребята знали, что здесь, в Центре, совершенно четко соблюдается «сухой закон». Даже несмотря на то, что ребят нет – если какие-то группы уже уехали или еще не собрались, в помещении Центра мы никогда не употребляем спиртное.
Начну с Нового года: ребята знали, что мы распустили всех на Новый год по домам, и решили сами с сотрудниками встретиться в один из дней, друг друга поздравить. У нас было помещение на первом этаже, мы сидели там. Каково же было наше удивление! Темно, зима, мы сидим, пьем чай, поздравляем, у нас подарки припасены друг для друга – вдруг видим в окне лица! Ребята стоят и смотрят! Им нужно было подтверждение, что мы лжем, что не может быть такого, чтобы, когда здесь никого нет, мы вели себя так, как мы говорим.
То же самое произошло, когда мы поехали первый раз на юг, в Крым. Весь опыт этих детей говорил о том, что взрослые, вожатые, их родственники, когда они с ними проводят время – днем все такие благообразные, вечером детей укладывают, а сами начинают если не «квасить по-черному», то выпивать, но алкоголь обязательно должен присутствовать. Мы их укладывали спать, а потом они потихонечку вставали, пытались нас подловить в том, что мы нарушаем те самые правила, о которых говорим им, но видели, что у нас этого не происходит. Какое же было у них удивление! Но вначале это стало для них и для нас очень тяжелым испытанием…
Модель общения и пример
И еще, наверное, самое главное – то, на чем уже будем заканчивать нашу беседу. Ребята в Центре живут и, конечно, для них очень важно то, что им здесь говорят. Безусловно, есть вещи, которые забываются, но здесь им дают, как Иулиания Владимировна говорит, модель общения. И это важно.
Например, если спросить разных людей, то многие себе даже не представляют, как можно без алкоголя что-то отмечать. У них просто нет навыков такого общения. Здесь человек живет и эту модель не просто видит, он ее усваивает. Это как в спорте. Я хоть и не специалист по рукопашному бою, но благодаря тому, что чуть-чуть занимался, знаю, что недостаточно просто увидеть прием. Даже если ты знаешь, как этот прием правильно выполняется (например, удар ногой в прыжке) – пройдет длительное время, пока он у тебя начнет получаться. Ты должен это «запомнить» всем телом.
Или пение. Сколько людей занимались вокалом: в принципе правильно поставить голос можно очень быстро. Проблема в том, что человеку с одного раза этого не запомнить. Если с тобой час занимается профессиональный вокалист, он тебе горло «растянул» правильно, ты стал петь. Но буквально на следующий день ты это состояние забываешь – тебе его не вспомнить. Только если ты занимаешься ежедневно довольно длительное время, ты можешь это состояние запомнить и за одну секунду его восстановить, взять какую-то нужную ноту.
Так же и здесь – когда у детей, которые живут, происходят какие-то столкновения, возникают проблемы, с вашей помощью они учатся преодолевать их бесконфликтно. Может быть, не всегда воспитанники сейчас с вами согласны, но сама модель запоминается.
Что происходит потом? Ребята выходят (не только из этого Центра, кто-то выходит из семьи, любые другие ребята), и они, конечно, считают, что все, чему их учили, что они видели, – это идиотизм, что все это неправильно, но потом, когда наступает второй период жизни и они пытаются идти своей дорогой, жить по-своему, самостоятельно, то везде натыкаются на тупики. Им кажется, что они будут жить так, как они считают нужным, и будут счастливы – увы, случается здесь прокол, тут прокол, там прокол. Многие потом скатываются к разгулам и пьянству. Конечно, у кого-то это происходит более цивильно, не так грубо, не столь на внешний взгляд разрушительно, но в итоге все равно оказываются в тупике.
Потом человеку ничего не остается, кроме как вспомнить ту модель поведения, которую ему предлагали.
И я многократно это сам переживал – когда, бывало, мой духовный отец мне что-то объясняет, кажется, что это глупо, что он тебя вообще не понимает, что ты говоришь одно, а он тебе совершенно о другом. Ты ему о мягком, а он тебе – о теплом.
Начинается период непослушания. Ты думаешь, что так поступать невозможно, и если я буду поступать так, то испорчу все дело. Начинаешь делать по-своему. Раз – прокол, два – прокол, три – прокол. И когда все варианты испробуешь – вообще никакого выхода не остается, просто уткнулся в стену.
Вдруг вспоминаешь тот совет, который тебе показался глупым. Думаешь, неужели этот глупый совет можно вообще как-то в жизни применить. Но так как ничего уже не остается – дай попробую. Потом оказывается, что это было единственное верное решение. Когда ты этот совет принимаешь, в стене появляется дверь. Просто потом понимаешь, что тот, кто давал тебе совет, эту ситуацию прошел уже неоднократно, и знает ее до подробностей. Но и то, что, может быть, сейчас ребята не соглашаются со своими наставниками – согласятся, когда, возможно, окажутся в тупике, когда у них будут уже свои дети.
Молитва как основа всего
Закончить хотелось бы, приведя воспоминания одной женщины, духовной дочери отца Севастиана Карагандинского – не знаю, почему включил этот рассказ, когда готовился к беседе, он мне на ум пришёл. Здесь не все религиозные, конечно, но тем не менее…
Эта женщина работала на скорой помощи – детский врач. Не очень признавала какие-то духовные аспекты. Однажды отец Севастиан сказал ей: «Не суетись. Старайся помолиться немножко». Она сперва не поняла, зачем молиться: «Я же врач, надо быстрее ехать к ребенку». Но всё-таки пока они ехали, старалась молиться, читала «Богородице, Дево, радуйся…». Со временем она совершенно твёрдо убедилась, что стало происходить колоссальное количество случаев, когда к их приезду вопрос уже был решен (кость из горла выскочила, что-то еще подобное). То есть ей как врачу приходилось действовать уже гораздо меньше.
Часть III
Уважение за уважение
Третья часть проекта «Родители и дети» продолжает тему воспитания и выявления принципов, на основании которых становится возможным построение отношений не только с детьми, но и со взрослыми (ведь дети когда-то становятся взрослыми?). Главный принцип, рассматриваемый в третьей части, – принцип развития.
Развиваясь, человек становится способным понять других. Развиваясь в любви, строя жизнь на этом основании, родители в долгосрочной перспективе закладывают в отношения со своими детьми то, что в итоге может привести их к сближению. Утрачивая этот главенствующий принцип жизни, человек утрачивает способность понимать других. Запускаются определенные процессы, следствием которых является появление в сознании человека искаженного образа мира и образов людей, расходящихся с тем, кем люди являются в реальности.
Если родители не только в своей жизни реализуют указанный принцип, но и каким-то образом сумеют привить его детям, но вместе с ним дети получат если не все, то многое. В их жизни появится база для развития отношения с ближними и дальними (следовательно, развитие и в плане образования/ обучения), обретения и углубления веры. Такие дети имеют шанс не потеряться на просторах мира.
Текстовый проект «Родители и дети. Воспитание» поддерживается циклом бесед с одноименным названием (тексты и беседы не повторяют друг друга).
Развиваться, чтобы иметь возможность понять другого
Чтобы главная идея третьей части с ходу стала бы понятной, двум мыслям, изложенным в преамбуле, сразу последуют два комментария.
Понять другого и установить с ним связь удается, если сам развиваешься, если в твоем сознании формируется образ другого адекватный тому, каким другой является в реальности. Эту мысль комментирует рассказ одного человека, пришедшего однажды в гости к другу, которого не видел много лет. В роскошном доме друга (особняке) он увидел девочку, дочку друга, водящей пальчиком по экрану смартфона. Эту девочку в последний раз он видел совсем-совсем ребенком, тогда в виду разных причин общения не состоялось, но в этот раз он сказал: «Привет!». Девочка (скорее уже – девушка), оторвавшись от телефона, ответила на приветствие. И как бы само собой сложилось, что завязался разговор: чем занимаешься, чем увлекаешься и прочее, и прочее.
Примечательно, что говоривший с девочкой, был в курсе идей, изложенных далее. И хотя трудно было предугадать, поймет ли девочка, как, с точки зрения нейрофизиологии, формируется в сознании образ мира и другого, попытка объяснить сие все же была предпринята. И то дивно, что девочка все прекрасно поняла. Уровень сложности разговора все повышался и повышался, аж дух стало захватывать, настолько интересным стал разговор. При повышении уровня сложности еще на ступеньку, девочка была спрошена – доступен ли ее пониманию ход предлагаемого рассуждения. Она говорила, что ей все понятно, и тогда уровень сложности разговора повышался еще.
Они прекрасно поговорили, возможно, даже подружились. Но ведь ситуация могла развернуться в иную сторону и начать развиваться в ином направлении. Вот в обширную комнату особняка заходит человек и видит сидящую девочку, водящую пальчиком по экрану смартфона. Легко подумать, что избалованная девочка привыкшая в праздности проводить все дни напролет, предается очередному бестолковому развлечению, не так ли?
И если первое допущение сделано, то на его основе в сознании формируется образ девочки неадекватный реальности. Если допущение сделано, желания вступить в беседу по принципу «уважение за уважение» может и не возникнуть. Чтобы не показаться невежливым, человек все-таки может и решиться на пустой, формальный вопрос. Думая, что девочка смотрит мультики, человек задает вопрос, чтобы «вписаться» в сформированную парадигму. Чувствуя отсутствие интереса в вопросе и ощущая бесперспективность (глупость?) поставленного вопроса, девочка что-то отмечает, спешит удалиться в свою комнату.
Как реагирует человек на ее поспешное удаление? Думает про себя: какой невоспитанный ребенок у моего друга! И, возможно, не только думает, но и другу говорит о том: слушай, хотел с твоим чадом «поболтать», а она взяла и ушла. И за общим столом папа спрашивает дочку: «Ты чего ушла, когда с тобой хотели поговорить?».
Клин вбивается между девочкой и папиным другом. Подрастая, она все более и более будет оттачивать неприятие его, а он, в свою очередь, будет находит все новые и новые подтверждения ее «избалованности».
И так день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом. Клинья, клинья, все новые клинья. Но их ведь могло и не быть. Более того, день за днем (и так далее) отношения могли бы укрепляться, развиваться, обогащая взаимно участников диалога.
Стоит привести ответ девочки на вопрос о том, что ей нравится. Если не знать ее ответа заранее, то ни за что ни догадаться. Оказалось, что ей нравится даже не столько сама математика, сколько то, что «в математике сходится все тютелька-в-тютельку».
После такого ответа сам собой завязался разговор насчет того, что понять реальность можно лишь тогда, когда не сбрасываешь непонятного факта со счетов. Ведь нередко возникает соблазн закрыть глаза на то, что в данный момент непонятно. Но если есть черта, отмеченная девочкой, человек не делает поспешных выводов, пока не накопится достаточно данных, чтобы свести пазлы «тютелька-в-тютельку».
Бывает, что пазлов у человека, скажем, 15-ть, и из них не получается сложить цельный рисунок, угадывается лишь какая-то часть фигуры. Чтобы собрать всю фигуру целиком, необходимо собрать все 100 сегментов, но человек, допустим, не утруждает себя поиском их. Из имеющихся 15-ти он составляет «нечто» и объявляет это «нечто» конечным рисунком, подрезая ножницами при том какие-то наслаивающиеся друг на друга пазлы («подгоняет факты», пристрастно и искаженно их интерпретируя). Так выносятся ошибочные суждения, ставятся неверные диагнозы, проектируются быстро выходящие из строя механизмы.
Внимание к факту – великое дело. О том читаем в докладе академика Павлова «Об уме вообще, о русском уме в частности», в котором он описывает свойства, присущие уму настоящего ученого (такого, который способен предугадать течение реальности). А также – в докладе академика Ухтомского «И. М. Сеченов в Ленинградском университете», в котором Ухтомский рассказывал о том, как вследствие внимания к факту совершались великие открытия.
Внимание к факту и способность проявить интерес, внимание к реальности – основа для построения целостной картины мира. Внимание к факту и интерес к миру (скорее, – любовь) можно уподобить двум нитям, на которые нанизываются аминокислоты в ДНК. ДНК – в крошечном, по меркам макромира, объеме может содержаться зародыш, план, проект, зерно того, что, развернувшись во времени и пространстве, будет опознано как масштабное явление, уникальная форма жизни.

