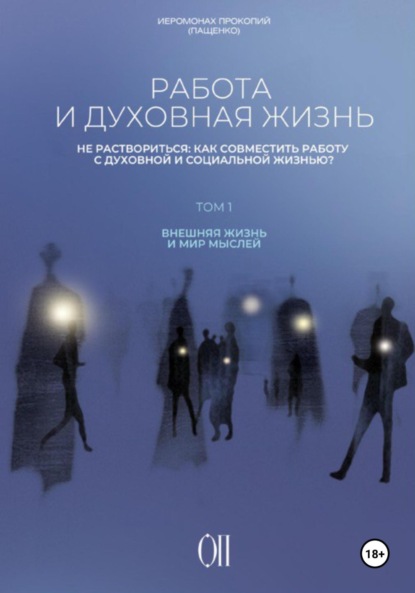
Полная версия:
Работа и духовная жизнь
Жизнь вечная как продолжение жизни настоящей
Наша жизнь и наши цели, как они связаны с вечной жизнью? Многие читали о беседе преподобного Серафима Саровского с Н. А. Мотовиловым «О цели христианской жизни» на тему стяжания Святого Духа. Но как можно конкретизировать?
Конкретизация дается:
– В главе «Смысл и цель христианской жизни» из первой части текста «Преодоление травматического опыта: христианские и психологические аспекты»[180].
– В главе «Целостное изменение жизни и приобщенность к благодати Святого Духа» из части 2/2 текста «Брешь в стене»[181].
Один батюшка рассказывал, как сдавал в академии экзамен, где преподавателю бодро отвечал студент: «Христос пришел взять наши грехи». А преподаватель спрашивал студента: «Как Он пришел их взять? Их можно засыпать в мешок, положить на плечо?»
И как вообще следует понимать «вечную жизнь»? Это центральный вопрос христианства, и, если его не понять, то все, что мы с вами обсуждаем, не принесет пользы. Вечная жизнь – наша цель. Об этом писали многие авторы, например, преподобный Макарий Великий[182]. Очень обширное рассуждение на эту тему содержится у патриарха Сергия (Страгородского) в труде «Православное учение о спасении», где в главе «Возмездие» объясняется, как в христианстве понимается вечная жизнь.
См. подробнее:
– Главу «В чем суть такого явления как посмертное воздание» части 2 текста «Мировоззренческий сдвиг – детонатор наркотического бума и распада общества»[183].
– Главу «Православное учение о загробной жизни» из книги «“Победить свое прошлое”: Исповедь – начало новой жизни»[184].
Вечная жизнь понимается как развитие жизни земной. То состояние души, которое мы формируем во время земной жизни, переносим с собой в жизнь вечную. Там продолжаем развиваться в том направлении, которое избрали здесь. Если вследствие реализации зла человек наполнился мраком, то он сам себя обрекает на страдание. Этот мрак будет мучить его и разъедать. Если вследствие реализации блага человек изменился внутренне, стал способным воспринимать благодать Святого Духа, то его устроение становится основанием для вечного блаженства.
Злым или добрым человек становится, по большей мере, не вследствие одного поступка (иногда и один поступок может враз изменить всего человека[185]). Череда поступков формирует в человеке определенную склонность, устроение (если сказать по-современному, психофизический статус).
Как в здоровой кроне дерева одна гнилая ветка не очень заметна, не формирует общее впечатление, так и у человека: если прошел по нервным путям один неверный сигнал, то он скоро пропадет, и мы продолжает жить. А бывают люди, в кроне которых одно гнилье, и если появилась одна здоровая ветка, то на общем на фоне она становится малозаметной. Человек, например, в какой-то ситуации совершил акт милосердия, но милосердие к нему не привилось. Вследствие только одного поступка он еще вряд ли может считаться милостивым, ведь милосердие не стало навыком его души, частью его внутреннего мира (а внутренний мир выражает себя в поступках).
Соответственно, мы должны выстраивать свою земную жизнь так, чтобы сформировалось то состояние, которое мы заберем в жизнь вечную. Способность быть приобщенным к Благодати тесно связана с внутренним миром. То есть цель – в том, чтобы научиться жить здесь так, чтобы более или менее пребывать в состоянии внутреннего мира. По благодати Божией это возможно. Благодать дает такую способность, когда ты осознаешь, что у тебя есть трудности, но они не довлеют над тобой, не вызывают каких-то острых переживаний.
Каким образом понимание «вечной жизни» может помочь человеку, живущему в мегаполисе?
Подчиненность внешнему воздействию. «Музыкальные черви» и маниакальное повторение действий
Изучал в течение нескольких лет мемуары людей, которые жили в концентрационных лагерях в аномальных условиях. В каком-то смысле эту тему можно переложить и на современные условия. Допустим, человек долго жил в аномальной среде, где, например, в семье кто-то пил, брат бегал с топором, родители издевались, или человек работает в компании, где наличествует бесчеловечное отношение к персоналу. Естественно, через некоторое время, если нет внутренней жизни, он пропитывается теми ритмами, которые ему навязывает извне среда. Чем отличается человек, лежащий на берегу океана, от трупа, лежащего на берегу океана? Температурой тела и ритмом.
Внешняя среда наделяет объект своими свойствами, деформирует его, и человек теряет себя. Мы можем сказать, что человек жив, пока температура его тела не сравнялась с температурой океана. Когда же температура тела и температура океана придут к общему знаменателю, для человека это означает смерть. Пока его сердце бьется, температура его тела будет отличаться от температуры среды. Отличает живого человека от трупа также и собственный ритм. Труп двигается в ритме волн, а живой человек, даже если его колеблют волны, пытается внести в траекторию движения что-то свое. Есть такое правило: если у вас не будет своего ритма, вы поневоле начнете настраиваться на внешний. Если в человеке нет внутренней жизни, то он либо «пережевывает» свои внутренние страхи, либо погружается во внешние проблемы.
О подобного рода открытости внешним импульсам рассказывает британский невролог и нейропсихолог Оливер Сакс в своей книге «Музыкофилия». В частности, он приводит данные насчет явления музыкальных червей – навязчивых мелодий. Он приводит разные взгляды, почему подобные мелодии нас штурмуют, есть люди, для которых это явление – настоящая катастрофа. От этого не спасает даже глухота. Мы по привычке считаем, что глухой человек ничего не слышит, но на самом деле это не так.
Комментируя истории, можно сказать, что если у человека нет внешней стимуляции, но при этом нет и внутренней жизни, то у него может начаться внутренний шум, причем от такого шума невозможно избавиться. Часто таким образом происходит инфернальное воздействие, когда демоны издеваются над людьми, что было описано в книге «На горах Кавказа».
Так один монах, когда уходил в горы молиться, вдруг начинал слышать оркестр – реальный, масштабный. Он даже различал, как звучат различные инструменты, начинал дирижировать, а правило при этом так и оставалось непрочитанным. И, когда он обратил внимание, что оркестр играет каждый раз, когда он выходит читать правило, то понял, что дело нечисто[186].
Вы, наверное, обращали внимание, что во время молитвы прекращается внутреннее бормотание, которое иногда связано с инфернальными моментами, но может присутствовать и гул «белого шума». Один человек рассказывал, как он полюбил Иисусову молитву: у него были навязчивые мысли, а во время молитвы наступала тишина. Как только молитва прекращалась – мысли снова возобновлялись. На Соловки приезжал один наркоман и поделился своим опытом. Он не мог молиться на службе – его неотступно преследовали мысли снять в храме икону и продать. Но при словах «Господи, помилуй» наступала тишина, и помыслы отступали.
Мысли имеют различный источник, они могут проистекать из прежде воспринятых впечатлений. Может быть и комбинированный вариант: мысли, проистекающие из прежних впечатлений при определенных условиях до уровня страшной навязчивости могут быть усилены инфернальным воздействием[187].
Феномен инфернального воздействия раскрыт в аскетических трудах, но нас сейчас интересует неврологический аспект. Одна из предположительных версий на этот счет: если мы не даем стимуляцию мозгу, то он сам начинает производить обратную стимуляцию.
Как наша тема связана с вечной жизнью и музыкальными червями? Допустим, человек трудится на конвейерной линии, и у него унифицирована и стандартизирована рабочая схема. Сейчас век стандартизации, когда прописано все. Мы знаем, что при определенном числе повторении какого-либо действия, оно воспроизводится автоматически – так образуется навык. То же самое относится и к страстям. Например, знакомый из велоспорта рассказывал, что часто просыпается по ночам с намотанным на ноги одеялом. Привычка к кручению педалей заставляет повторять его определенные движения даже во сне.
Как-то проводился конкурс – необходимо было нарисовать идеальный круг, и победителем стал шарманщик. Он многократно крутил ручку шарманки, и его рука приобрела навык движения по кругу.
Конвейерная линия предполагает выработку алгоритма поведения, и человек, даже придя домой, где можно расслабиться, маниакально начинает это движение повторять.
Есть и другой феномен, связанный с деформацией, которая транслируется средой. Например, человек долго жил на войне или прошел множество ситуаций, где было много крови и смертей, однако, приезжая домой, он испытывает непреодолимое желание вернуться обратно.
Это стремление некоторые авторы объясняют в русле идеи «выученной беспомощности». Отчасти, в данном ключе этот пример приводится и здесь. Но стоит отметить, что, возможно, в некоторых случаях стремление вернуться на место трагедии связано не с деформацией психики, а наоборот. Со стремлением вернуться на место трагедии, чтобы вызвать в памяти весь объем переживаний и путем внесения в него конструктивных смыслов перестроить его.
См. главы «ПРЕДИСЛОВИЕ к историям на тему прощения родителей; когда простить – трудно», «Скукоживание личности, травматический опыт и чувство вины (о книге Блейна Хардена “Побег из лагеря смерти)” из части 4.3 текста «Преодоление травматического опыта: христианские и психологические аспекты»[188].
А также из одноименного цикла бесед пункт 10b. «ПТСР-РОСТ (Мемуары – вернуться в прошлое, чтобы перестроить травматический опыт. О чем далее пойдет речь)».
Люди, подвергшиеся деформации, пытаются наладить социальные контакты, но за счет долгого пребывания в аномальной среде у них преобладает только один тип реагирования. Человек продолжает, например, ругаться, а если наладить общение не получается, то единственным выходом для него становится «отвернуться». Или человек жил в семье, где были пьющие люди, и у него сформировался свой алгоритм – закрыться. И потом он оказывается в нормальной студенческой среде, где при каждом удобном случае начинает транслировать подобную модель, хотя жизнь предоставляет ему массу других возможностей реагирования.
Подробнее о формировании неконструктивных моделей поведения и их преодолении см. в части 4.2 текста «Преодоление травматического опыта: христианские и психологические аспекты»[189].
Возможно также, что у человека, длительно находившегося в деформирующей среде, формируется доминанта восприятия, которая начинает его манить. Этот очаг возбуждения в коре головного мозга обладает двумя свойствами: он притягивает к себе все импульсы (например, честолюбивый регент любой шепот воспринимает как комплимент его пению), но одновременно тормозятся прочие отделы коры головного мозга (например, в момент гнева мы забываем, что разгневавший нас человек сделал нам много хорошего).
Так человек выходит из рабочего процесса, в котором ему было плохо, но дома найти себя не может и снова возвращается туда, где было плохо (в свой выходной возвращается в офис). Но это единственное место, где он вообще может быть. В другом же месте он вынужден встретиться с собой, у него раскрывается внутренняя жизнь, и в состоянии тишины он находиться не может, потому что внутреннее его пространство не упорядочено. В нем преобладает «белый шум», который в момент остановки от «жизненного бега» уж очень сильно может давать о себе знать.
Это было хорошо показано в фильме Френсиса Коппола «Апокалипсис сегодня». Конечно, речь идет о фильме, и, как говорил Никодим Карульский во время наставлений: «Если я даю какие-то наставления, то вы лучше проверяйте, может я ошибаюсь…»[190]. В фильме главный герой, спецназовец, поехал в джунгли выполнять задание, а когда вернулся, не мог найти себя. Ему мерещились джунгли; психоз, боевая психическая травма. То есть человек вне войны уже себя не мыслил.
Эти же механизмы действуют и на нас. Например, человек проводит на работе в должности начальника по 8 часов в день, а за 40 минут, пока едет домой, не успевает перестроиться, и остается начальником и дома. Если он ошибочно полагает, что его жизнь – это пятнадцать минут, проведенные перед телевизором под речь диктора, то получается абсурдная ситуация.
Интересны идеи постмодернистского автора Ги Дебор – французского экспериментатора искусства, можно даже сказать, революционера, который, к сожалению, погиб. Если бы он стал христианином, то, наверное, смог бы выжить. Он протестовал против общества потребления, в котором, на самом деле, не мы радуемся, едим и гуляем. Мы лишь наблюдаем по телевизору, как другие радуются, едят и гуляют[191]. Мы ошибочно полагаем, что все это какое-то отношение имеет и к нам. Сам человек при этом практически не формируется.
Здесь можно провести аналогию с наркотиками. Условно можно сказать, что эмоциональный возраст тридцатилетнего наркомана соответствует тринадцатилетнему ребенку. Проведя большую часть жизни в состоянии анабиоза, он ничего не понимает, а в его голове только детские мысли. Так же и рабочий на конвейерной линии не развивается, если у него нет внутренней жизни, не развивается тот внутренний человек, о котором писал святой апостол Петр, – «сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа» (Пет.3, 3). И когда внутренний возраст отстает от биологического, такой человек может «расправить плечи» только перед телевизором. У него растет тотальная неудовлетворенность жизнью, и вопрос будет решен, только если человек будет собой во все моменты своей жизни.
«Здесь и сейчас» или точка опоры в будущем
Если человек живет во Христе, ему и в прошлом комфортно (он вспоминает прошлое, чтобы анализировать свои ошибки), ему комфортно и в будущем (он предполагает, что будет в результате выполненных действий). Почему я считаю, что состояние «здесь и сейчас» состояние ошибочное?
Если человек привыкает жить здесь и сейчас, то что с ним происходит, если в жизнь вторгается травматический опыт? Как писал один исследователь применительно к теме экстремальных условий существования в концентрационных лагерях, свойство запредельного стресса таково, что сознание фиксируется на том, что происходит. «Прошлое и будущее исчезают. Есть только кошмарное настоящее, оно бесконечно, и это подрывает все силы. Крайне важно думать о том, что будет ПОСЛЕ». Чтобы выжить, необходимо иметь «перспективу будущего». Этот автор упоминал Виктора Франкла – психиатра, имевшего опыт выживания в концентрационном лагере. «Франкл думал о том, как написать книгу о страданиях заключенных, о том, какую пользу она может принести. Он был устремлен в будущее, за горизонт настоящего…»[192].
Тема состояния «здесь и сейчас» поднималась в стихотворении «Карниз и шоссе»[193], в котором моделировалось состояние девушки, желающей прыгнуть с карниза.
«Быть здесь и сейчас,
Это так круто,
Живи just in moment», – учили тети в темных очках.
Здесь – нет уже «нас»,
Сейчас в душе – полный ступор,
В моменте – длящийся сутками страх.
Выводит из состояния ступоры взгляд в прошлое и взгляд в будущее.
Через пару часов уже этой ночью
Ты можешь мчаться к цели на край земли.
К цели – какой, ответ найдешь в прошлом,
И твой светлячок вылетит из пасти волны.
Осознав, что поступок в прошлом, привел к определенным последствиям, она принимает решение эти последствия устранить. Появляется цель.
Примечательно, что израильские переговорщики во время переговоров с потенциальным самоубийцей акцентируют внимание на будущем. Если человек покончит с собой, то он украдет у себя того будущего себя, которым мог бы стать. Эта мысль отражена в стихотворении.
Что если завтра жизнь новые связи
Проложит, а ты в себе слепишь иные черты?
Не узнаешь о том, если, растекшись по грязи,
В себе себя будущую вычеркнешь ты.
Подробнее про спорность состояния «здесь и сейчас» – см. также в беседе 5.3 данного цикла «Внешняя жизнь и мир мыслей».
5.3. «О “здесь и сейчас”. Время. Только работа – катастрофа.
Что-то помимо работы»[194].
В первой части цикла бесед «Преодолеть отчуждение (в том числе, – и о депрессии)», см. пункт 5а, 16а-16 в.
В цикле бесед «Обращение к полноте», см. пункт 1.2.
Виктор Франкл описывал причины гибели людей в лагере, размышляя о точке опоры, которая давала возможность выжить. В условиях жесткой регламентированной среды человек зацикливался на ужасной внешней обстановке, терял надежду, впадал в апатию и постепенно погибал. Чтобы выжить, необходима была точка опоры – действие в будущем[195].
Человек должен был понимать, для чего живет. Кстати, исследования профессора Скулачева о вопросе долголетия показали, что оно мало связано с физическим здоровьем. Оказалось, что на него влияют только два фактора: тебя ждут, твой труд нужен[196]. Когда же человек не видит смысла жить, тогда все быстро начинает рассыпаться и человек умирает.
Виктор Франкл заметил: чтобы выжить, человеку нужна опора на точку в будущем. Но что такое точка опоры в будущем? В Священном Писании сказано: «Проклят человек, который надеется на человека» (Иер. 17, 5). Это вовсе не означает, что любовь – плохо, но если мы всю опору выстраиваем на каком-то человеке, то нужно помнить, что человек может уйти в жизнь вечную. Тогда тот, кто изо всех сил пытался жить для встречи с этим человеком в будущем, может отчаяться, сдаться. О том писал и Виктор Франкл: «Горе тому, кто не найдет в живых любимого человека, мысль о котором единственная поддерживала его в лагере»[197]. Тот, кто рассчитывал на освобождение к определенной дате, также мог погибнуть, если ожидания не реализовывались[198].
Для Христиан эта точка опоры есть: то состояние, которое формируется в нас сейчас, потом разрастется в вечности
Иными словами, когда человек стоит на конвейерной линии, его мозгу нечего анализировать и к штампованной задаче добавить нечего. И если внутренней жизни не будет, человеку придется зафиксироваться на внешней. Этот алгоритм прорастает в человеке, превращая его в зомби. Почему я рассказывал про музыкальных червей?
Иногда люди в подобной ситуации пытаются подогреть чувство собственной идентичности через музыку. Но если музыка не связана напрямую с тобой, то слишком перегружает нервные каналы. Оливер Сакс утверждает, что одна из причин возникновения музыкальных червей – это перегрузка музыкой. Наш мозг не был задуман для постоянного впитывания в себя белых шумов. Если человек пытается так создать чувство идентичности («если пою – значит живу»), то на следующем этапе мелодии начнут его терроризировать. Чтобы уйти от музыкального террора, многие пациенты Оливера Сакса уходят к другой музыке.
Известный психиатр Бруно Беттельгейм так же пытался анализировать выживание людей в экстремальной среде и писал не только о концлагере. Механизмы регрессии личности, действовавшие в концлагерях, действуют и в открытом гражданском обществе, где мы должны по идее прийти к пониманию самих себя.
Его книга «Просвещенное сердце» оптимистична, но и пессимистична одновременно. В конце книги автор признается, что не знает выхода. Он описал все возможные стратегии, которые наблюдал в лагере, но его финальный вывод – все человеческие стратегии приводят к регрессии в такой обстановке, как лагерная. Но ведь принципы подавления личности, обкатанные в лагерях, все более распространяются в жизни современной (см. лекции и тексты проекта «Остаться человеком: Офисы, мегаполисы, концлагеря»).
Человека погружают в аномальную среду, противоречащую его внутренним ритмам, и он постепенно теряет себя и перестает существовать как личность. Попытка сохранить чувство идентичности через чувство собственной исключительности помогает на каком-то этапе, но глобально – только губит. То есть чтобы «не раствориться», человек пытается зафиксироваться на мысли, что он – особенный. Но тогда он стает на тропу, идя по которой, рискует разорвать свои социальные связи.
Одно из главных условий гибели человека – разрыв социальных контактов. Пока у человека есть социальные контакты, он способен держаться на плаву. Человек, который пытается подогреть чувство собственной идентичности через чувство собственной исключительности, разрывает свои социальные контакты еще глубже, больше отдаляется от людей. Или, например, начинает концентрироваться на спорте, начинает принимать участие в мероприятиях типа Iron man. На каком-то этапе эта стратегия вроде бы и вырывает человека на время из офисной «мозгодерки», но на длинной дистанции возникает риск порабощения уже самому Iron man.
В аддиктологии, которую можно назвать наукой о страстях, есть термин «фиксация». Человек, занимаясь какой-то деятельностью, фиксируется на ней и по сути формирует доминанту восприятия, а прочие стороны жизни нивелируются. Например, человек переключается на спорт, чтобы уйти от переживаний, связанных с офисом, но настолько погружается в новую деятельность, что начинает страдать личная жизнь и все другие стороны, не связанные со спортом. Развивается перезависимость, и человек начинает хождение по кругу.
Что происходит, если у человек есть точка опоры в вечности? Человек на конвейерной линии понимает, что если он сейчас раздражен, то это состояние он заберет в жизнь вечную, поэтому ему необходимо с этим состоянием что-то делать. Тогда он начинает молиться, сопротивляться.
Происходит внутренняя работа положительной направленности, благодаря которой внешнее перестает доминировать[199]
Как сторонний наблюдатель, а не как православный священник, могу сказать, что вне православия я не знаю системы, которая бы дала человеку способность внутреннего движения. Да, человек может петь. Но сколько это может продлиться? Может сочинять стихи. Но если что-то болит, получится ли писать? Может думать о чем-то прекрасном, но насколько долго? Мы все пытались уйти от внутренних проблем, стимулируя себя какими-то представлениями, но несостоятельность этой техники, нехватка мотивации не позволяют продолжать дальше.
Если бы мы жили как христиане с пониманием вечности, то состояние, которого пытается достичь психология, мы приобретали бы уже естественным образом. Откуда появилось понятие «здесь и сейчас»? Видимо, психологи смотрели на людей гармоничных, пытаясь понять, как они могут быть радостными и принимающими жизнь в каждый момент времени, даже когда у них нет того, что они хотят. Психология попыталась смоделировать подобное состояние, и так появилась психопрактика. Раньше было больше людей искренне верующих, а истинная вера сопровождается положительными переживаниями. Но когда произошло крушение и люди утратили мировоззренческую основу в мировом масштабе, возник запрос на создание по аналогии положительных эмоций с помощью психотехник.
Если нет внутренней жизни, то возникает открытость для формирования условного рефлекса (зомби)
Когда все процессы прописаны и механически выполняется одна и та же задача, работа начинает отуплять. И неважно, трудитесь ли вы на конвейерной линии в супермаркете или составляете типовые контракты. Мануфактурный тип производства подразумевает разделение труда на этапы, когда человеку поручают все более узкие специализированные задачи. В такой работе вырабатывается условный рефлекс, но как его разорвать? Вспомним академика И. П. Павлова. Нейроны, которые активируются одновременно у собаки во время зажигания лампочки при подаче еды, – связываются. И в следующий раз слюна у нее начнет выделяться автоматически при загоревшейся лампочке даже в отсутствие еды.
Человеку, долго находившемуся в аномальной среде, иногда достаточно увидеть даже намек на его прошлый опыт по телевизору, чтобы всплыл весь спектр переживаний. Академика Павлова часто называли поборником тоталитарной системы за его учение о рефлексах. Но так утверждают только те, кто его не знает. В конце жизни он перестал называть вторую систему сигнальной. В какой-то степени эту систему можно сопоставить с разумом. В течение жизни мы выстраиваем мировоззрение, исходя из которого оцениваем реальность[200].
Если человек пришел на конвейерную линию и у него нет своего взгляда на происходящее, то конвейерная линия будет его травмировать. Если есть – то даже эта травмирующая ситуация будет постоянно его обучать.



