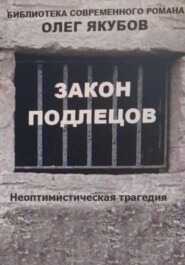 Полная версия
Полная версияЗакон подлецов
– Как ты мог допустить, чтобы адвокаты получили из Лесхоза письмо такого содержания?! Ты что, с этим Морозовым до сих пор не встречался?
– Я предполагал, что они могут обратиться в Лесхоз. Но был уверен, что ответ должны составлять на основании документов, сданных в архив, а архив-то того, сгорел…
– Думал, предполагал, вот тебе и результат, – гневался генерал. – Выходит, в самом Лесхозе сохранились какие-то документы. Значит, так поступишь. Пусть эта твоя Ганибалова организует официальный запрос в Лесхоз, не от своего, понятно, имени. И ответ должен быть такой, как нам надо. Причем, что архиважно, за подписью этого же самого Морозова. А после того, как подпишет – поганой метлой его из Москвы, пусть где-нибудь в тундре оленьи тропы измеряет. Спрячь его так, чтобы найти невозможно было.
Глава тридцать четвертая
«Из чего же, из чего же, из чего же
Сделаны наши мальчишки?
Из веснушек и хлопушек,
Из линеек и батареек
Сделаны наши мальчишки!
Из чего же, из чего же, из чего же
Сделаны наши девчонки?
Из цветочков и звоночков,
Из тетрадок и переглядок
Сделаны наши девчонки!», –задорно пел школьный хор. Во втором ряду хора стояла светленькая девочка, которая не пела, а только для видимости рот открывала. Она не любила хорового пения, и сама песня ей тоже не нравилась. Потому что ни из каких-таких цветочков и переглядок девочка эта сделана не была. Девочка была настолько серьезна и сосредоточена, что учителям и одноклассникам даже в голову не приходило хоть когда-нибудь назвать ее уменьшительно-ласкательно Светочка, а называли не иначе, как Светлана, реже – Света.
В девятом классе Светлана представила завучу по воспитательной работе, были тогда в школах такие завучи, план создания «Высшего школьного суда справедливости». Сразу и решительно вычеркнув слово «Высшего», завуч приступила к изучению плана и оторопела: по мнению ученицы Светланы Журавлевой, школьный суд справедливости брал на себя функции контроля за действиями учителей. Начитавшись в институте Макаренко и несколько раз посмотрев так полюбившийся ей фильм «Республика ШКИД», завуч усвоила, что инициативу школьников губить нельзя, а напротив – надо поощрять. «Школьный суд справедливости» состоялся, возглавила его ученица девятого класса Светлана Журавлева. Закончив школу, она поступать в институт не стала, а пошла работать в районный суд, сотрудницей архива. Выбор шестнадцатилетней девочки странным был только для посторонних, сама-то она твердо знала, чего хочет. А хотела Светлана стать судьей. Даже не так. Она хотела судить. Всех судить, чтобы засудить. Кого и за что – и сама не отдавала отчет. Мальчишка рвется в небо, чтобы летать на сверхзвуковом самолете, будущая актриса бредит ролью Джульетты, кто-то мечтает построить дом. А Светлана, сколько себя помнила, хотела только судить. Такая вот мечта.
К должности судей приходят по-разному, в основном проработав в прокуратуре, следствии, набравшись юридического опыта. Журавлева пришла в суд из суда. Архив, должность технического секретаря, еще две-три технические должности, и вот уже ее, к тому времени закончившую заочный юрфак, избирают народным судьей района.
После того как кандидатуры будущих судей утверждались «на всех уровнях», сами выборы судей в Советском Союзе происходили чрезвычайно просто и абсолютно формально. В предвыборном квитке было две строчки – народный депутат и народный судья. Если биографией будущего депутата, к которому можно прийти с жалобой, хоть кто-то интересовался, то биографией будущего судьи – никто и никогда. Опускали бумажку в урну, выпивали в буфете, по вкусу, пива или лимонад, и отправлялись по своим делам.
Председатель районного суда Антонина Антоновна Скалевая женщиной была властной. Голосом она обладала зычным, поэтому приказы своим судьям отдавала только один раз, повторять не приходилось. Зажимая все еще крепкими зубами папиросу «Казбек», сигарет не признавала, Скалевая заявила своему судье Журавлевой:
– Замуж тебе пора, девка. Незамужняя судья – это объект для пересудов, – и не поясняя свою мысль, почему именно незамужние судьи объект для пересудов, посоветовала, как приказала: – К нам сейчас в суд, по уголовному делу о попытке угнать самолет, капитан один приходит, из КГБ. Тоже неженатый…
Видно, неженатых офицеров в «конторе глубокого бурения» тоже не жаловали, во всяком случае, молодые люди со свадьбой затягивать не стали, хотя амур их своей стрелой не пронзил. Ну разве что пощекотал легонько. Пламенной страстью, безумной любовью с первого взгляда они охвачены не были, но поняли, что друг другу подходят.
Известен такой эпизод. Леонид Ильич Брежнев в разговоре с Сусловым все пытался выяснить, какие у «серого кардинала» отношения с женой. Михаил Андреевич над прямо поставленным вопросом долго и напряженно размышлял, потом твердо ответил: «Я свою жену уважаю». Уважали ли друг друга Илья Ильич и Светлана Алексеевна Ерожины, знают лишь они сами. Очевидно одно – взаимопонимание у супругов было полнейшее. Их семейные застольные разговоры порой напоминали больше производственное совещание, нежели семейный ужин. Илья Ильич карьеру делал стремительно, что в немалой степени способствовало и служебному росту Светланы Алексеевны – все знали, что у Ерожиной муж – «оттуда». Понимая, что ей теперь не только многое дано, но и многое позволено, Ерожина и сама себе стала «позволять».
В те годы, когда ей уже стали поручать рассмотрение крупных уголовных дел, в юридических кругах ходила о ней одна прелюбопытнейшая история. Начиналось все банально. Двое друзей, еще в школе за одной партой все десять лет просидели, создали строительную фирму. Фирма процветала, друзья год от года богатели, стали миллионерами, наслаждались жизнью. Их жены – подруги, дети в одну школу ходят, на отдых к морю – только все вместе. Короче, идиллия. И все бы хорошо, если бы не был в бизнесе один из друзей, обозначим его номером один, президентом фирмы, а другой, соответственно номер два, вице-президентом. Хорошие отношения, как известно, развиваются долго и плавно, прекращаются враз и навсегда. Друг номер два сделал заказ на друга номер один.
Посредник между заказчиком и киллером был осведомителем в МУРе, наемного убийцу сдал. С ним было посложнее, но в итоге и киллера удалось муровцам завербовать. Соблюдая все правила конспирации, встретились с потенциальной жертвой. Долго верить не хотел, но в итоге поверил. Опытный гример так постарался, что сам себя похвалил: «натуральный покойник».
Посредник отправился к заказчику, предъявил фотографию «натурального покойника», получил оговоренную сумму денег. Велась оперативная съемка, щелкнули наручники, коварный и неблагодарный друг оказался в СИЗО. Доказательства были столь неопровержимы и убедительны, что уже вскоре дело передали в суд. Оказалось оно на рассмотрении судьи Ерожиной.
В день вынесения приговора обвиняемый, ожидая пока его поведут в зал суда, купил у конвоира пять минут телефонного разговора и в фешенебельном загородном ресторане заказал банкет на сто человек. Куда сам вечером и прибыл – судья Ерожина вынесла оправдательный приговор и из-под стражи его освободила в зале суда. Говоря о сумме полученной взятки, каждый из рассказчиков закатывал глаза, но при любой озвученной цифре количество нулей было не меньше шести. К тому времени за Светланой Алексеевной признавали одну-единственную слабость – слаба на карман.
История эта Светлане Алексеевне никоим образом не повредила, наоборот, как ни парадоксально, упрочила ее положение. В судейских кругах стали поговаривать, будто Ерожина может все. Что вскоре она и подтвердила. Находясь в одном из кремлевских кабинетов, сумела уловить, куда дует ветер, и провела процесс против одного из воротил современного бизнеса с таким блеском, что подсудимого оправдали полностью, признав невиновным по всем пунктам ранее предъявленных обвинений. Многие тогда недоумевали, чем вызвана такое безрассудство судьи, но Ерожина-то знала, что воротила – не кто иной, как «кошелек» одного из властей предержащих. Сажать столь щедрый источник финансирования за решетку никак невозможно. В том самом кабинете, где направление ветра она учуяла абсолютно верно, способность судьи Ерожиной оценили по достоинству, и Светлана Алексеевна поднялась по служебной лестнице не на одну, а сразу на несколько ступеней выше.
***
Пресловутая фраза о том, что она лично оправдательные приговоры будет рассматривать как некачественную работу судей (именно Ерожиной и принадлежит сей кощунственный и по сути противозаконный постулат), была, несмотря на все кощунство и даже беззаконие, воспринята судьями как указание к действию. Если к тому добавить, что муж-генерал посвятил супругу в подробность, чьей дочерью является подследственная Александра Лисина, то становится вполне понятным поведение судей всех инстанций, где определялась мера пресечения, рассматривались апелляционные и кассационные жалобы адвокатов.
***
Давно канули в Лету те времена, когда народные судьи получали нищенскую зарплату, ютились в тесных хрущобах и были, живые же люди, подвержены, скажем мягко, некоторым соблазнам. Нынче история совсем иная. Судьям государством положено такое жалованье, что ни одна взятка соблазнить судью не может. Задача теперь в том, чтобы удержаться на судейском троне, удержаться любой ценой, дабы не потерять гарантированного на всю оставшуюся жизнь благополучия. И если материально судьи стали одними из самых обеспеченных людей в обществе, то зависимость их пропорционально увеличилась. Они зависели от начальства высокого и высшего, от прокуратуры, от ФСБ. И все меньше и меньше зависели от закона.
Им, разомлевшим от собственного благополучия и трусливым до утраты принципов элементарной человеческой и правовой порядочности, ну какое им было дело до судьбы молодой женщины, оторванной от малых детей, от семьи, от той счастливой жизни, которую пыталась сломать чья-то злая сила. И раз за разом, с неприличным уже упорством, те, кого обязаны называть ваша честь, но честь свою давно утратили, повторяли как заведенные: «Может скрыться, помешать следствию, вступить в сговор…»
***
Только через год немыслимых испытаний тюрьмой ни в чем не виновную Александру Лисину перевели под домашний арест. Но и тут не удержались от мелочной, но отнюдь не мелкой мести: применили к Саше все, без самых малейших исключений, предписанные инструкцией ограничения.
Ей запрещены были даже короткие прогулки. Запрещено было пользоваться телефоном, интернетом, запрещено встречаться с посторонними людьми – только с прямыми родственниками и адвокатами. Даже поездка к врачу была возможной только после многочисленных и долгих согласований. К тому же браслет, в который заковали Сашину ногу, оказался бракованным. Стоило ей зайти в одну из дальних от телефона комнат, браслет переставал подавать сигнал и в квартире тотчас раздавался телефонный звонок из службы слежения: «Лисина, вы где?»
– Да здесь я, куда я денусь? Я же не виновата, что ваш браслет бракованный. Мне что, теперь даже по квартире не передвигаться?
– Не передвигайтесь, – издевательски отвечал равнодушный голос.
***
Каждый раз, когда Саша уезжала из дому на очередное судебное заседание, дети провожали ее до самого порога.
– Мама, ты вернешься? – с тревогой спрашивали они. – Мамочка, обещай нам, что сегодня вернешься. Ты же нас никогда не обманываешь. Скажи, что вернешься.
И они, дети, враз повзрослевшие за этот год, приняли совсем не детское решение.
Однажды, у детей были новогодние каникулы, Саша услышала по телефону, как Лиза отказывается с компанией сверстников идти на каток.
– Ребята, вы совсем никуда не ходите, – сказала Саша. – Пока занятия шли, вы из школы сразу домой. Но теперь-то каникулы, пойдите куда-нибудь, отдохните, развлекитесь.
– Нет, мамуля, – ответила за всех старшая Саша. – Мы решили, что, пока ты из дому выйти не можешь, мы тоже никуда ходить не будем. Вот освободят тебя полностью, и пойдем все вместе, как раньше.
– Но это неправильно, – запротестовала Саша. – Вы не должны замыкаться в этих стенах. У ваших друзей бывают дни рождения, вечеринки, они ходят в кино, у них много разных интересных развлечений. Зачем же вам всего этого себя лишать? Я совершенно не обижусь…
– А вот если бы мы заболели и не могли из дому выйти, а тебе надо было идти куда-то гулять, ты бы пошла? – спросила Лиза и, не дожидаясь ответа, твердо завила: – Вот и мы никуда не пойдем.
Глава тридцать пятая
Мингажеву была необходима, как воздух необходима, встреча с Патроном. А с чем идти? Лисину из СИЗО освободили, и, хотя она под домашним арестом, язвительный Патрон не упустит случая высказаться по этому поводу. Такого случая он ни за что не упустит. Что же касается Аникеева, то он по-прежнему «в бегах». А без решения этого вопроса к Патрону и соваться нечего. Ну что поделаешь, пора зарвавшемуся бизнесмену на нары.
Не очень долго размышляя над тем, кому поручить эту деликатную миссию, Чингисхан остановил свой выбор на Германе Владимировиче Радянском. Некогда сотрудник прокуратуры, потом – блестящий адвокат, а ныне – сибаритствующий пенсионер, Радянский обладал редким даром убеждения. Издерганного своим нелегальным положением, находящегося на грани нервного срыва, подтолкнуть Аникеева к нужному решению не представило особого труда.
– Вам, дорогой Николай Архипович, вовсе не надо брать вину на себя, – убеждал Аникеева Радянский. – Ваши недобросовестные служащие, за вашей, разумеется, спиной и без вашего ведома, совершили ряд, скажем, противозаконных действий. Потрясенные их коварством, вы не прятались, вовсе нет, вы переживали нервный стресс, потрясение, от которого долгое время не могли прийти в себя.
– Целый год – ну, кто же в эту сказку поверит? – сомневался Аникеев.
– Тем и хороши сказки, что в них верят все. Тем более что опровергнуть ваше заявление невозможно. «Нигде я не прятался, а переживал стресс», – стойте на своем, и точка. А сейчас вот пришел в себя, сам, добровольно и осознанно, явился в следственные органы, готов искренне ответить на любые вопросы. Максимум, что вам грозит, – возьмут подписку о невыезде, я думаю, даже без домашнего ареста обойдется.
– Вы полагаете?
– Не полагаю, а убежден, – Радянский смотрел на Аникеева таким кристально честным взглядом, какие бывают только у законченных профессиональных лгунов.
Через два дня все заверения Германа Владимировича сбылись с точностью до наоборот – Аникеева, помурыжив пару суток в «иваси»-ИВС, по решению суда заключили в СИЗО. Потрясенный происшедшим, он поначалу не в состоянии был даже понять, о чем его спрашивает следователь. Впав в ступор, отвечал невпопад и на Сорокину произвел впечатление человека, мягко говоря, неадекватного, если не сказать, слабоумного.
***
Путь к Патрону был открыт, и Мингажев медлить не стал.
– Статья, по которой Аникееву предъявлено обвинение, предусматривает как наказание до десяти лет, так и возможное освобождение из зала суда. Все зависит от квалификации, то бишь, говоря языком не юридическим, от трактовки, – пояснял генерал.
– Увольте меня от юридического ликбеза. Вы опять пытаетесь втянуть меня в ваши подробности, – нахмурился Патрон.
– Отнюдь! – возразил генерал. – Я делюсь с вами соображениями исключительно стратегического порядка, как вы и предпочитаете. Сегодня всей этой шайке из фирмы Аникеева предъявляется всего лишь сговор между собой. А вот если будут доказана организованная преступная группа, то…
– Согласен, вы нашли правильное решение, – признал Патрон, – это может в корне изменить дело. Действуйте.
***
Колесики, шестеренки, рычаги сложной машины уничтожения и разрушения, которая носит пышное , но давно не соответствующее действительности название «Правосудие», закрутились с невиданной быстротой. Дело из следственного управления было передано в следственный комитет. Новому руководителю группы Станиславу Георгиевичу Носову понадобилось всего несколько недель, чтобы изучить более шестидесяти томов, наполненных фальсификацией, состряпанной Ганибаловой, Сорокиной и их подручными. Носов и не собирался ломать глаза над этой галиматьей, ему была поставлена конкретная задача, а для ее осуществления вникать в детали никакой необходимости он не видел. Вывод, которого от него ждали, был готов. Привлеченные по уголовному делу о незаконном использовании государственных земель обвинялись теперь в действиях в составе организованной преступной группы – ОПГ. И если в судебных заседаниях главарем уже открыто называли Аникеева, то, по версии следствия, Лисина была одним из руководителей ОПГ. «Детально продуманная и хорошо организованная конспирация помогла Лисиной заниматься своей преступной деятельностью, оставаясь неизвестной для своих сообщников», – сделал «глубокомысленный» вывод руководитель следственной группы майор Носов.
Опровергая этот бред, который мог прийти только в воспаленный мозг параноика, адвокаты Александры исписали тонну бумаги, обращаясь к генеральному прокурору, начальнику следственного комитета, в министерство юстиции, во все иные властные инстанции и структуры, которые хоть как-то могли, да что там могли – обязаны были прислушаться к голосу разума. И Закона. Но тем и сильна коррупция, что круговая порука защищает каждого, кто входит в этот преступный круг.
Впрочем, Носову было не до размышлений о судьбах своих подследственных. Ему предстояло написать обвинительное заключение. Такое, которое курирующему прокурору останется только завизировать. А что так оно и произойдет, уже испорченный сознанием собственной непогрешимости Носов не сомневался.
***
В свое время Герман Владимирович рвался на следственную работу потому, что она открывала, по его мнению, весьма привлекательные перспективы для полезных связей, что в свою очередь сулило жизнь обеспеченную и потому прекрасную. До сих пор судьба и начальство его громкими делами не баловали. И вдруг – такой подарок. Подарок из тех, это уж он знал точно, которые упускать нельзя ни в коем случае. Хотят ОПГ – пожалуйста, Лисина – тайный руководитель группы – будьте любезны, никаких проблем. И разве имело хоть какое-то значение, что некоторые документы были изготовлены так небрежно, что от них за версту «липой» разило. Не все было ладно и в доказательной базе, но и это следователя не волновало. Он не сомневался, что «концептуальное» решение по этому делу принято, поэтому «шил» обвинительное заключение не просто белыми, а суровыми нитками беззакония.
***
Была такая старая кинокомедия «Семь нянек». Молодой герой, лентяй и незадачливый мошенник, придумал примитивную и не очень удачную схему наживы – брал в прокатных пунктах телевизор, пылесос, магнитофон, а потом сдавал эти вещи в ломбард. Юный Валерик посмотрел фильм еще школьником. Посмотрел и не забыл. Вернее, вспомнил, когда после окончания юридического института стал работать в городской прокуратуре. Был у него закадычный, еще со школьных лет, дружок – Славик. Вот вместе со Славиком и придумали они незатейливое «кидалово». Славик фотографировал начинавшуюся стройку, потом, с фотографиями котлована и стоящих на краю строительных вагончиков, шел в банк и брал кредит под строительство будущего дома или торгового центра. После чего бесследно исчезал. Бесследно для банка. Школьный друг, только теперь уже не Валерик, а сотрудник прокуратуры Валерий Ефимович Гудзь, помогал Славику избегать наказания. Не бесплатно. Таким образом, удовлетворяя свои мелкие молодежные страстишки, друзья развлекались довольно долго. До тех пор, пока Валерий Ефимович не понял, что пора переходить на новый уровень. К тому же его, перспективного молодого юриста, из задрипанного областного центра перевели в Москву.
С годами Валерий Ефимович заматерел, выработал командный голос, когда говорил с подчиненными, и особые интонации для разговоров с начальством. Взятки брал соответственно каждой новой должности. К нему-то, одному из высших сановников российской прокуратуры, и попало на утверждение обвинительное заключение, состряпанное следователем Носовым.
К тому времени обстановка в главной прокуратуре страны сложилась не просто накаленной, а взрывоопасной: пришла «новая метла». И не просто новая, а из той структуры, что конкурировала с прокуратурой извечно. Поэтому «новая метла» не просто мела, а выметала всех старых сотрудников, расчищая место для своих, верных и проверенных соратников. Пора было собирать манатки и Гудзю, тем более что он, по всем раскладам, вообще должен был, при его-то должности, вылететь из главной прокуратуры первым.
Но тут вышел новому главному укорот – на самом верху мягко посоветовали с отставкой Гудзя повременить, до особого распоряжения. Занят-де генерал важной работой, которую, кроме него, никто выполнить не сможет. Работа эта близится к стадии завершения, перепоручать новому лицу нельзя, попросту невозможно, и обсуждать тут нечего.
Так что, пока Носов кропал многостраничное обвинительное заключение, Валерий Ефимович чувствовал себя в полнейшей безопасности. Получив обвинительное заключение на полторы тысячи страниц, пятьсот из них было «посвящено» Александре Лисиной, Гудзь и вовсе воспрял духом – столь объемный труд можно изучать как минимум несколько месяцев. Но тут поступила команда «фас», и верный прихвостень системы завизировал обвинительное заключение ровно через сутки после того, как оно поступило в канцелярию прокуратуры. Поистине случай, достойный того, чтобы его увековечили в анналах отечественной юридической практики. И будущих юристов на этом примере стали бы учить. Они должны знать, что был в прокуратуре такой генерал – Валерий Ефимович Гудзь, который за двадцать четыре часа сумел не только прочитать полторы тысячи страниц документов, но и проанализировать их.
***
С этого момента начался окончательный отсчет времени в деле, которое к тому времени расследовалось уже более двух лет. Рассмотрение дела было назначено в городском суде Фоминска, районного центра, где находились пресловутые земельные участки. В отличие от генерала Гудзя, судья Ашеров не владел методом скоростного чтения. К тому же Геннадий Иванович любил быть в куре всех новостей, газеты читал, телевидение смотрел и в запутанных интернет-сетях ориентировался совсем неплохо. Так что он об этом деле если и подробностей не знал, то был хорошо наслышан. Геннадий Иванович вообще не любил, когда к его делам проявляли слишком пристальное внимание. А тут – и правозащитники, и журналисты… Поэтому он, в отличие от Гудзя, никуда не торопился и дело изучал с максимально пристальным вниманием. Настолько пристальным, что уже пару раз вызывал его председатель суда и интересовался причиной задержки, нервно спрашивая:
– Неужели такое сложное дело, что вы, опытный судья, так долго в нем разбираетесь?
– Дело в принципе не сложное, но очень объемное, – спокойно отвечал Ашеров. – Работаю.
Судья прекрасно понимал, что все необходимые указания председатель уже получил и именно с него будет спрос. Его, рядового судью, пока никто в подробности не посвящает, вот и замечательно.
Геннадий Иванович отнюдь не отличался храбростью, и крутым нравом не обладал. Но был он человеком осторожным, профессионалом отменным и потому наметанным глазом в первые же дни увидел то, что ни следствие, ни прокуратура особо и не прятали – грубую подтасовку основных материалов, явно сфальсифицированные документы, ни к чему не пригодные вещественные доказательства. И поэтому судья тянул время. Тянул не для того, чтобы продолжить изучение материалов дела, а для того, чтобы все как следует взвесить и хорошенько обдумать. Выносить обвинительный приговор на основании этой «липы» – безумие. Подготовить оправдательный приговор ему никто не позволит, это ясно как день. «Соломоново решение» напрашивалось само собой. Прокурор в суде и опомниться не успел, как судья Ашеров отправил дело обратно в прокуратуру для дальнейшего расследования.
Это был удар, которого не ждал никто. Кроме, пожалуй, Патрона, который в своей полной неожиданностей жизни привык ко всякому. Узнав о решении Фоминского городского суда, Патрон глубоко вздохнул. Вздохнул вовсе не по поводу «безумного» решения неведомого ему ранее судьи Ашерова, а потому, что надо переодеваться для выезда в город. Но делать было нечего, Патрон уселся в машину. Дорога в Москву и обратно заняла гораздо больше времени, чем важная встреча, ради которой Патрон предпринял это путешествие. В кабинете, который он посетил, Патрон нашел полное, впрочем, как всегда, понимание.
***
Валерий Ефимович Гудзь укладывал в объемистый портфель последние бумаги из сейфа – приказ о его выходе в отставку в связи с достижением пенсионного возраста уже был подписан, когда раздался телефонный звонок. Этому абоненту Гудзь отвечал двадцать четыре часа в сутки, где бы ни находился.
– Надо в приказе о моей отставке дату на пару дней сдвинуть, – сказал Гудзь, выслушав указания и не проявляя никаких эмоций. Если и был чем-то отныне отставной генерал раздосадован, то отнюдь не строптивостью судьи, а тем, что приходилось менять собственные планы.



