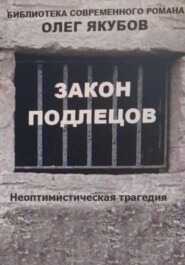 Полная версия
Полная версияЗакон подлецов
Такого же мнения были и другие защитники, работавшие по делу Александры. И чем больше слушал Сергей адвокатов, тем больше убеждался в правоте собственных выводов. Но на один, и очень важный, вопрос ответа не находил: чего они, враги его, хотят от него, каких поступков ждут?
***
…Буквально за несколько дней до начала процесса в Женеве судебный следователь Жорж Загген встретился с одним из адвокатов Михеева.
– Месье адвокат, – напыщенно произнес следственный судья. – Мы ценим то мужество, с которым ваш подзащитный переносит все тяготы тюремного заключения, и то, как он ведет себя на допросах. Но он выбрал совершенно неверную тактику, все отрицая. И мы решили сделать ему весьма заманчивое для него предложение. Я вызову его еще на один допрос, в ходе которого он должен признать хотя бы один из пунктов предъявленных ему обвинений. И тогда мы гарантируем, что приговор суда будет таким, что, с учетом уже отбытого заключения, месье Михеев выйдет на свободу. Вы, господин адвокат, должны применить все свое красноречие, чтобы убедить вашего подзащитного проявить, наконец, благоразумие, что, в конечном результате, в его же интересах.
Воодушевленный таким заманчивым предложением, адвокат помчался в тюрьму Шан-Долон. Каково же было его изумление, когда подзащитный категорически отверг предложение следователя. Михеев, набравшись терпения, втолковывал защитнику:
– Как же вы не понимаете? Это предложение – самое убедительное подтверждение того, что у них на меня ничего нет. И теперь они требуют, чтобы я сам себе вину придумал? Ну уж нет! К тому же, господин адвокат, у меня есть свои жизненные принципы. И какими бы странными они вам не показались, это мои убеждения. Я предпочту невиновным сидеть в тюрьме, чем обвиненным в том, чего не совершал, выйти на свободу.
– У нас с вами разные представления о жизни, – буркнул разочарованный адвокат.
***
Тогда, в Женеве, отказавшись от предложения следователя, Сергей отвечал только сам за себя, за свою судьбу. Обдумывая и выстраивая линию, даже можно сказать, стратегию поведения, он теперь берет на себя ответственность за судьбу самых дорогих для него людей – дочери, ее детей.
Размышляя над этим, Сергей пытался проникнуть в ход мыслей своих, с позволения сказать, оппонентов. И сделать это было невероятно трудно. Мир всегда был разделен не только на два полушария, но и на две полярно противоположные системы. В одной денно и нощно были озабочены, как бы поэффективнее и подешевле уничтожать людей, в другой, также денно и нощно, старались избежать войн, сделать жизнь человечества разумной и осмысленной, безопасной и счастливой. Так же как системы, так и люди живут в разных измерениях. Кто-то рад, когда смеются дети, ну а кто-то счастлив, когда у соседа корова околеет. А если животина по-прежнему дает молока поболе, чем у него, то можно ей в корм и сыпануть чего-нибудь этакого…
***
В начале двадцатого столетия человечество было напугано нашествием микробов и смотрело на них как на угрозу жизни. Гениальный русский ученый Илья Мечников, изучая проблему, смело заявил, что микробы бывают не только злыми, но и добрыми. Начавшаяся Первая мировая война помешала ученому продолжить свои дерзновенные исследования. А жаль! Если бы Мечников сумел до конца довести эксперименты с добрыми микробами, как знать, может, по-другому бы сложилась жизнь на Земле и двуногие животные, населяющие нашу планету, относились друг к другу совсем иначе.
Порядочному человеку проникнуться психологией негодяя и подлеца порой бывает не просто трудно – невозможно. Но именно этим занимался Сергей Михеев с первых дней ареста дочери. Он уже столько лет жил под незримым прессом, что давно привык ко всякого рода неожиданностям. И хотя с таким грузом жить невероятно трудно, постоянно был в состоянии «боевой готовности». Газеты, после женевского процесса, не зря писали, что лучшим защитником на суде был сам Сергей Михеев. Да, ему пришлось изучать право, наблюдать и анализировать работу адвокатов. Он выработал собственную стратегию и собственную тактику защиты, отстаивая свое честное имя и право на свободу.
Понимая, что, в очередной раз, некто из власть имущих снова сводит с ним счеты, Сергей отмел размышления о том, почему, по какой причине, в связи с чем все происходит. Сейчас по большому счету это уже не имело значения. Следовало вновь выработать четкую линию поведения. Причем такую, которая не повредила бы в первую очередь его дочери.
***
Дом Сергея Михеева всегда славился гостеприимством. О хлебосольстве и радушии хозяина по Москве ходили легенды. К нему охотно приходили самые именитые люди страны. За обильным столом сиживали политики и ученые, видные военачальники и популярные артисты, выдающиеся спортсмены и известные бизнесмены. Всем им тепло и уютно, весело и сытно было в этом доме, где потчевали с неизменно широким, еще Гиляровским воспетым, а теперь почти забытым исконно московским гостеприимством и радушием, где не скупились на яства, а вино и разговоры – лились рекой. Кое-кто из именитых гостей, часто посещавших этот дом, когда пришла беда, спрашивали у Сергея, не могут ли они чем-то помочь, и были весьма удивлены и озадачены, когда Михеев скупо и односложно отвечал: «Спасибо, адвокаты работают. Пока большего не требуется».
Нашлись, как же без «злых микробов», когда дует ветер, и такие, кто настойчиво добивался приватной встречи и шепотком предлагал: «У меня есть верный человек, в прокуратуру дверь ногой открывает. Уже завтра ваша дочь будет дома. Но, сами понимаете, необходимы кое-какие расходы». Эти разговоры он обрывал сразу:
– Моя дочь ни в чем не виновата, и поэтому она действительно скоро будет дома. По закону.
Если об истинных целях своих врагов приходилось только догадываться, то в одном Сергей был уверен наверняка. Те, кто затеял это неправое дело, ждут от него нервного срыва, психологической неустойчивости и, как следствие, – самых неадекватных поступков, которые и приведут их к достижению своей коварной цели. Но такого удовольствия он им не доставит. И в разговорах с кем бы то ни было выработал Сергей формулировку, которую теперь озвучивал всем, когда была в этом необходимость: «Я всегда действовал и сейчас действую исключительно в правовом поле».
***
Труднее всего было ему в эти дни дома. И дело не в том, что домашние его не понимали, вовсе нет. Но жена, внуки, младшая дочь – все смотрели на главу семейства, ожидая от него чуда.
В один из первых дней нагрянувшей на семью беды, жена не выдержала и, когда Сергей вечером пришел домой, встретив у самых ворот, с плачем стала его умолять:
– Давай отдадим им все, нам же с тобой ничего не надо. Пусть заберут все, что у нас есть, только Сашу пускай отпустят, – несвязно просила она.
– Люся, ну что ты говоришь? – стал успокаивать он жену. – Кому отдать, что отдать? Ты же знаешь, как и мы все, Шурочка ни в чем не виновата, ее отпустят.
И внукам ему с каждым днем все труднее и труднее было говорить, что мама пока еще занята по работе, но скоро приедет. Хотя ребята особо его не донимали, все свои сомнения они обрушивали на бабушку.
Конечно, он взвалил основной груз ответственности на свои плечи. Так в их семье было всегда, и не могло быть иначе. Но с горестью смотрел он на жену, которая почернела от свалившегося на нее горя. Как часто, в ситуациях и радостных, а порой и безрадостных, говорят родители: даже взрослые дети остаются для нас детьми. И это действительно так. Только отцы и матери разный смысл вкладывают в эти слова. Это пуповину перерезают при рождении. Но того, чья жизнь однажды зародилась под сердцем матери, от материнского сердца уже не отрезать никогда.
***
Стая шакалов, затеявших травлю, только и ждет от него неверного шага, чтобы накинуться и со сладострастным воем терзать. И как ни сложно это «хождение по льду», нужно быть предельно осторожным, чтобы не совершить ни одного необдуманного шага или даже движения. Стоит ему пойти на поводу провокаторов, поддастся уговорам вызволить Шурочку за взятку или благодаря ведомым и неведомым доброхотам, как он сам тут же окажется за решеткой. Но не собственные лишения, не страх перед тюрьмой его останавливали – жизнь сложилась так, что уже давно Сергея Михеева ничем не напугать. Нет, вовсе не за себя он опасался. Он опасался оказаться в такой изоляции, когда уже дочери точно ничем не поможешь. А поэтому и дальше он будет продумывать с такой же тщательностью каждый свой шаг, движение, слово. Он в ответе за свою дочь и твердо верил, убежден был – Саша будет на свободе.
***
«Бегаю, как собака за собственным хвостом», – вынужден был сам себе признаться Чингисхан. Закрывшись от всех на даче и отключив, кроме одного, номер которого знали лишь единицы, все телефоны, Мингажев шаг за шагом анализировал все свое противоборство с «проклятущим Михеем».
Первый болезненный укол он ощутил еще тогда, когда в начале девяностых начинающий кооператор Михеев не испугался угроз и не пристроился под его «крышу», хотя тогдашнему подполковнику было совершенно непонятно, откуда у этого мальчишки такая самоуверенность. Кампания в прессе, откровенно злобные яростные нападки Горчинской, созданный их совместной фантазией миф об «Солнечной» ОПГ и легенда про кровожадного и беспощадного главаря Михея, конечно, сыграли свою роль, но и тут Михей вывернулся, уехал за границу.
А как вовремя повздорил он с амбициозным олигархом Сосновским. Это был подарок. Подарок, которым Мингажев распорядился, как не сумел бы никто иной. Взрыв лимузина в центре Москвы, телерепортажи, фотографии, статьи в прессе. И Раечка, как всегда, не подвела – ее откровенные намеки, а порой и прямые обвинения в том, что покушение на олигарха организовал Михей, ни у кого не должны были вызвать ни тени сомнения в его причастности. Но и тут они вытащили пустышку. Пришлось вступать в опасный контакт с непредсказуемым Сосновским, организовывать эту статью в бельгийской газете, арест в Женеве.
Справедливости ради надо признать, что с этим болваном Укоровым он облажался. Хренов майор, когда услышал, что за лжесвидетельство в Швейцарии дают пять лет, видно, наложил там полные штаны и поспешил отречься от всех своих показаний. Но дело даже не в нем, а в этих приверженцах закона из жюри присяжных. Им, видите ли, документы подавай. Да, такого исхода этого суда не ожидал никто.
Конечно, у себя дома Мингажев набрал миллион очков на этой истории, не без помощи той же Горчинской создал себе непоколебимый имидж бескомпромиссного и бесстрашного борца с коррупцией и организованной преступностью. Но поквитаться с Михеем так и не удалось. Патрон знал, о чем говорит, когда упрекнул его в том, что Михеев вернулся в Россию после громкого судебного процесса как национальный герой, отстоявший в Европе честное имя российского гражданина. С этой компенсацией, что выплатили швейцарцы, его поздравляли так, как не чествуют нобелевских лауреатов.
Генерал прошелся по участку, обогнул причудливой архитектуры фонтан, английскую лужайку, вдохнул аромат чайных роз. Глянул на добротный трехэтажный особняк. Да, это не та допотопная дачка, что была у него когда-то вдали от Москвы и куда добираться приходилось по ухабам сельского бездорожья. Элитный дачный поселок, куда муха без разрешения не залетит, достойный его положения дом, все радовало глаз, покоя только не было.
Вернувшись к своим невеселым мыслям, генерал вспомнил и историю с пропавшим Гараевым. Стоило увидеть ему в доме отца бизнесмена фотографию с часами, как оперативное чутье и многолетний опыт дали сигнал мгновенно. Нет-нет, ему себя упрекнуть не в чем. С точки зрения оперативной комбинации все было разыграно на самом высочайшем профессиональном уровне. Нагрянувший на рассвете спецназ, штурм дома – все произвело должное впечатление. Михей готов был к чему угодно – что ему подбросят наркотик, незарегистрированный ствол, но на часы, как и рассчитывал Мингажев, он внимания никакого не обратил. Чингисхан тогда подумывал, помучить Михеева в тюрьме или через пару дней отравить сразу, чтобы избавиться от него раз и навсегда, забыть и не вспоминать.
Ну кто же мог предположить, что Гараев потащит свои часы в мастерскую на Кипре и они там останутся, да еще и квитанция сохранилась. Нет, такого поворота событий не придумает ни одна самая изощренная фантазия.
Оперативники докладывают, что Михеев на самом деле верующий человек, у него даже дома есть своя церковь и колокольня. Может, и правда ему какие-то высшие силы помогают…
О чем только не думал в эти дни генерал, какие только не перебирал варианты, тщательно и беспристрастно анализируя собственные промахи. Вот только одно не могло прийти ему в голову. Что живут Марат Дамирович Мингажев и Сергей Анатольевич Михеев на разных полюсах. Один из них, упиваясь всевластием, бывал счастлив только тогда, когда приносил людям страдания, видел их унижение, слезы, отчаянье, а слаще всего – страх, животный страх. Другой радовался, когда делал добро, когда веселись и радовались жизни его семья, друзья, близкие люди. Все помнят строчки гения:
«Они сошлись. Волна и камень,
Стихи и проза, лед и пламень».
Но мало кто сегодня вспоминает, что закончил Пушкин эти стихи фразой:
«Ты румян, как маков цвет,
Я, как смерть…»
И никогда им было не сойтись – злобному, все и вся ненавидящему, иссушившему самого себя ненавистью к окружающим, и тому, кто живет полной жизнью, кто любит и любим, почитая это высшим земным благом.
Часть третья
СУДИЛИЩЕ
«Это не отдельное отношение к отдельным людям. Это война подлецов против всех честных людей».
(Из выступления академика
Андрея Сахарова.)
Глава тридцать третья
Около четырех столетий назад немецкий философ и мастер метких афоризмов Лихтенберг изрек: «Я бы хотел написать историю человеческой живодерни. Я полагаю, что мало искусств в мире столь рано достигли полного совершенства, как именно это, и ни одно из них не является столь распространенным». Будучи сызмальства горбат, Георг Лихтенберг с детских лет начал познавать науку под названием «Человекоедение» и наивно полагал, что в его восемнадцатом веке специалисты в этой области достигли совершенства. Хоть и считался Лихтенберг выдающимся ученым, но в наш век, когда человекоедение достигло прогресса небывалого, ему заглянуть было не дано…
«Встать! Суд идет!» – этой сакраментальной фразой начинают теперь свои пытки мастера «человеческой живодерни», как изволил их метко назвать средневековый философ.
***
Каждые три месяца суд продлевал Александре Лисиной содержание под стражей в СИЗО. Изобретенная следователем фраза о том, что подследственная может скрыться или своими действиями помешать расследованию, кочевала из одного решения в другое. Ни суд, ни прокуратура не дали себе труда хоть как-то, хотя бы создавая видимость законности, свои решения мало-мальски аргументировать. Но им и этого делать не хотелось – и так сойдет. И сходило. Многочисленные, безупречно аргументированные, глубоко обоснованные ходатайства, жалобы, протесты, апелляции и кассации адвокатов разбивались об эту глухую стену преступного равнодушия.
В стране, где закон превратился исключительно в оружие наказания, человек, попавший в жернова правоохранительной системы, по определению становился жертвой, ибо никем иным его в упор не видели. Презумпция невиновности стала мифом, превратившись в презумпцию виновности.
Чей страшный приказ выполняют те, кто весь народ превратил в потенциальных преступников? Как в стране с населением в сто сорок миллионов человек количество оправдательных приговоров не достигает даже ОДНОГО ПРОЦЕНТА? Это что же – народ – преступник? Или все же преступники, враги, вредители – это те, кто против своего же народа плетет тайный заговор, превращая всю страну в преступную массу? Те, кто ради собственного благополучия и карьеры стряпает заказные дела, фальсифицирует документы, подтасовывает вещественные доказательства, чтобы в итоге выносить чудовищные обвинительные приговоры ни в чем не повинным людям. Вот они-то и есть истинные враги своего государства, потому что собственной лживой жизнью и своими неправедными действиями вселяют в души людей неверие в избранную власть, неспособную защитить человека.
И имя этим врагам народа – «коррупция», от латинского слова «растлевать».
Россия – страна особая. Во всем, в любых проявлениях. Если в иных странах коррупцию, в широком смысле, рассматривают как сращивание криминала с государственными структурами, то здесь все иначе, по-своему, с особым, неповторимым колоритом и размахом. Ибо те, кто призван охранять закон, нарушая его, сами становятся преступниками. Не те, в прежнем понимании, в кирзовых сапогах, с металлическими фиксами и кистенем за пазухой, а эти, современные, вполне респектабельные внешне. Судьи, прокуроры, полиция, следствие – все они, сращиваясь с властными государственными структурами, и создали истинную российскую коррупцию. Такую, что, как ржавчина, разъедает гражданское общество. И когда один из высших судейских руководителей говорит на служебном совещании, что отныне оправдательный приговор будет считать браком в работе судей, то его самого не под суд, за такое вражеское отношение к своему народу, отдают, а напротив – повышают в должности. Это ли не парадокс? Это ли не коррупция?
***
На одно из первых судебных заседаний по «делу Александры Лисиной» адвокаты принесли несколько ходатайств от известных в стране людей. Это были те, кто хорошо знал Сашу по ее работе в благотворительном фонде. Свои обращения к суду подписали видные политики и общественные деятели, известный космонавт и прославленный полярник – люди, которых знала вся страна, подвигами и делами восхищалась, те, о ком песни пели, книги писали и фильмы снимали. Все они поручились за то, что им лично хорошо известная Александра Лисина, оставаясь во время следствия дома, со своими детьми, никуда не уедет и никакого вреда расследованию не причинит. Они не просто мнение свое высказали, они поручились, что так и будет. Страна этих известных людей любила, уважала, верила им. Но три человека, следователь, прокурор и судья, видно, были жителями другой страны – мнение известных граждан России на них впечатления не произвело. Тогда поднялся со своего места адвокат Гогсадзе. Вместе с Тамарой Геннадьевной Быстровой и Натальей Григорьевной Смирницкой Шота Олегович также защищал Александру.
– Не видя никакой необходимости содержать мать троих малолетних детей под стражей, я заверяю суд, – сказал адвокат, – что моя подзащитная будет неукоснительно соблюдать все предписанные ей условия подписки о невыезде, или домашнего ареста, в зависимости от того, какую меру пресечения изберет суд. Я гарантирую, что Александра Сергеевна Лисина будет вовремя являться на вызовы в следственные органы, не будет иметь никаких контактов с фигурантами по этому делу, тем более, как следует из материалов, что они друг с другом не знакомы. Я понимаю, что моего слова и моих устных гарантий суду может оказаться недостаточно. В виде гарантии я готов сдать прямо сейчас свое адвокатское удостоверение и при всех здесь, в зале суда, присутствующих даю слово, что если Александра Лисина хоть чем-нибудь помешает следствию или предпримет попытку скрыться, то я никогда больше не буду заниматься адвокатской деятельностью.
Если бы адвокат свою речь, такую искреннюю и взволнованную, произнес где-нибудь, ну, скажем, в вагоне метро, или на городской площади, то и тогда это речь, наверное, произвела бы больший эффект. Судья же на слова Гогсадзе не отреагировал никак.
Когда-то, еще в той стране, которая называлась Союзом Советских Социалистических Республик, существовало две государственные структуры – прокуратура и адвокатура. Адвокаты были полноправными участниками процесса, от их мнения нельзя было отмахнуться, как от жужжания назойливой мухи. В современной России адвокатура стала независимой. Ни от чего, ни от кого – главным образом от государства. Но и государство, в лице своих правоохранительных органов и судебной системы, от независимой прокуратуры нынче тоже не зависит.
– Мэтр, я вам аплодирую, – высказал свое восхищение адвокату Гогсадзе правозащитник Андрей Бабушкин. Они давно уже были знакомы по совместной работе в общественном комитете по правам человека.
– Ба, а вы здесь как? – поинтересовался Шота Олегович.
– Как всюду, где меня не ждут и видеть не желают, – шутливо ответил Андрей Владимирович. – Ну не буду вас томить. Мне позвонил один из тех людей, чье поручительство сегодня зачитали и столь небрежно положили под сукно. Наивный человек, он полагает, что с этой девочкой, с Лисиной, творится произвол. А это даже не произвол, это хуже. Тут видна чья-то твердая рука. Твердая и очень жесткая. – А как вы думаете, господа адвокаты, – теперь уже Бабушкин обращался ко всем троим защитникам Саши, – что если я по поводу вашей подопечной соберу пресс-конференцию? Я полагаю, вам есть о чем рассказать прессе, да и своего мнения скрывать не стану. Я, конечно, не преувеличиваю силу и влияние общественного мнения, но и полностью его игнорировать тоже не стоит. Во всяком случае, эти портачи из следствия и прокуратуры должны будут понять, что их действия без внимания не останутся.
***
Правозащитной деятельностью Андрей Бабушкин занимался всю свою сознательную жизнь. Он отстаивал права заключенных и подследственных, и именно его стараниями в закон о полиции было внесено изменение, дающее право на телефонный звонок после задержания.
Журналисты знали, что Бабушкин «по воробьям» не стреляет, на объявленную им пресс-конференцию представителей пятой власти собралось изрядно. Адвокаты не только сами пришли в полном составе, но и пригласили того самого инженера-землеустроителя Лидию Дремову, что делала техническое заключение по поводу лесного массива, где, если верить версии следствия, находились «владения» Лисиной.
Увеличенные и развешенные в зале пресс-конференции фотографии и схемы наглядно свидетельствовали о том, что в этом самом лесу еще не ступала нога человека. Не меньшее впечатление произвела на журналистов и представленная адвокатом Быстровой копия карты Генплана.
– Все, что мы здесь услышали и увидели, довольно убедительно, но ведь у пострадавшей стороны тоже наверняка есть какая-то своя аргументация. Я хочу знать, кто пострадавший? Какой нанесен урон? – спросил въедливый журналист.
– Даже скрывать не стану, как мне хотелось услышать этот вопрос, – ответила Тамара Быстрова. – Дело в том, что формально в нашем деле пострадавшей стороны нет. Это следствие пытается убедить в том, что пострадавшей стороной является государство в лице Лесхоза. Сам же Лесхоз никаких исков не подавал. А не подавал он их по той простой причине, что означенные земли государству давно уже не принадлежат, а являются частной собственностью. Нашей подзащитной инкриминируются баснословные суммы в десятки миллионов рублей, а на самом деле цена этих земель всего несколько тысяч. Но сколько бы эта земля ни стоила – миллионы или копейки, – к Александре Лисиной она отношения не имеет. И сейчас я готова документально подтвердить, что земля Рослесхозу не принадлежит и эта государственная структура себя пострадавшее стороной не считает.
И Тамара Геннадьевна представила журналистам документ, полученный ею несколько дней назад.
«Земельные участки №… имеют статус земли населенного пункта. Земли Лесного фонда в соответствии с действующим законодательством изъяты из оборота, в связи с чем не имеют рыночной стоимости, но имеют налоговую стоимость: одна тысяча рублей за один квадратный метр.
Вопрос об обоснованности признания Лесхоза в качестве потерпевшего относится к компетенции суда. Генеральный директор Лесхоза Морозов», – зачитала документ адвокат Быстрова.
Когда шум в зале от этого сенсационного сообщения поутих и журналисты слегка угомонились, тот же въедливый репортер, не столько обращаясь к кому бы то ни было, сколько делая собственный вывод, заключил:
– Получается, что нет никаких оснований признавать Лесхоз потерпевшей стороной, поскольку земля ему не принадлежит. Не говоря уж о том, что цена ей – ломаный грош в базарный день.
Десятки российских изданий, телевизионных каналов и интернет-сайтов опубликовали на следующий день подробный отчет о пресс-конференции. Социальные сети были просто забиты сообщениями о том, что многодетная мать находится в тюрьме по ложному обвинению. Вывод журналистов и блогеров был однозначен: «дело Александры Лисиной» заказное, заключение многодетной матери в следственный изолятор есть не что иное, как вопиющее нарушение всех законов.
Само собой, вся информация о пресс-конференции по «делу Лисиной» тут же просочилась и на Запад. Подачка была слишком заманчивой и легкой, чтобы ее не подхватили. Западные СМИ с новой силой завопили о том, что в России практически полностью отсутствует правосудие.
***
Генералу Мингажеву не надо было ждать газетных публикаций, аудиозапись с пресс-конференции Прутков передал ему в тот же день.



