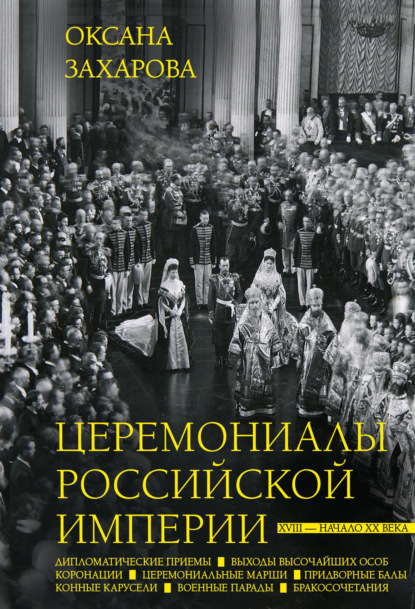
Полная версия:
Церемониалы Российской империи. XVIII – начало XX века
Согласно одной из версий, философ Б.В. Лейбниц посоветовал Петру I издать закон о распределении служебных чинов по рангам. 18 декабря 1713 г. Петр I предписал сенату детально изучить распорядок чинов в государствах Европы. Первый проект нового устава Петру I предоставил граф А.И. Остерман, назвав его Табель о рангах. Остерман, разделив чины на тринадцать рангов, взял за основу придворную службу и по ней построил систему государственного управления. Считая себя недостаточно подготовленным, Остерман не касался морских и армейских чинов. Петр I почти полностью переделал первоначальный вариант, взяв за основу распределения рангов военно-морскую службу. Первый класс он присвоил лишь высшему воинскому чину и только позднее приравнял к нему высший гражданский чин канцлера[93].
Высший придворный чин обер-гофмаршала он повысил до 2-го класса, а число классов увеличил до четырнадцати, выделив корабельных секретарей в отдельный класс. 24 января 1722 г., после того как были учтены замечания сенаторов и коллегий, сенат утвердил Табель о рангах[94].
Документ состоял из росписи чинов по трем ведомствам – военному, статскому и придворному – и девятнадцати разъяснительных статей. Военному ведомству отдавалось предпочтение перед двумя другими, а внутри военного ведомства все офицерские чины гвардейских частей были отнесены на два класса выше по сравнению с такими же чинами армии и флота[95]. Перевод в следующий класс мог осуществляться после определенного числа лет службы, разного для классов.
Как было сказано выше, наряду с гражданскими и военными чинами Табель о рангах предусматривала также придворные чины. Например, 2-му классу соответствовал чин обер-гофмаршала, 3-му – обер-шталмейстера, 4-му – обер-гофмейстера и обер-камергера, 5-му классу – гофмейстера и т. д. В Табель о рангах Петр I включил 44 должности, разбив их по классам (2–9, 12 и 14-й)[96].
Таким образом, при Петре I деление на бояр, окольничих, думных дворян было упразднено. Поместья дворян уравняли с вотчинами, дворянская служба стала пожизненной. Служебное продвижение регламентировалось Табелью о рангах. Талантливые и усердные люди могли получить за службу личное и потомственное дворянство.
Иерархия придворных чинов неоднократно менялась. При Анне Иоанновне высшим считался обер-гофмейстер, при Екатерине II – обер-камергер. Императрица Анна Иоанновна установила присягу для придворных. Звучала она так: «Понеже Ея Императорское Величество всемилостивейше соизволила меня в придворную службу… принять и определить, того ради обещаю и клянусь всемогущим Богом во всем и всегда по моей должности и чину поступать Ея Императорскому Высочеству, как честному служителю надлежит верным и добрым рабом и подданным быть. Службу и интересы Ея Величества прилежнейше и ревностнейше хранить и о всем, что Ея Величеству к какой пользе или вреду касатися может, по лучшему уразумению и по крайней возможности всегда тщательно доносить, и как первое, поспешествовать, так и другое отвращать, по крайнейшей цели и возможности старатися и при том в потребном случае живота своего не щадить…» Придворный клялся хранить тайну происходящего при дворе, верно и честно служить монархине. «…В чем я целую Евангелие и Крест Спасителя моего; к вящему же моего обещания подтверждению сию присягу своеручно подписую»[97].
Серьезно упорядочив придворную службу, Павел I определил общее количество придворных чинов и служителей. На первое место он поставил свиту в составе обер-камергера, 12 титулярных камергеров, 12 титулярных камер-юнкеров и 48 рейт-и яхт-пажей. Далее следовали чины обслуги: один обер-гофмейстер и два гофмейстера, один обер-гофмаршал и два гофмаршала, один обер-егермейстер, один егермейстер и один унтер-егермейстер, один обер-церемониймейстер и два церемониймейстера. В свите императрицы были обер-гофмейстерина, камер-фрейлина. Во 2-м классе тогда числилось три должности – обер-камермейстер, обер-гофмаршал и обер-шталмейстер, остальные были рассредоточены по 3–9-м классам[98].
Придворным званиям соответствовали определенные обязанности. В согласии с утвержденным 30 декабря 1796 г. Павлом I «Придворным штатом»[99] финансами двора ведал обер-гофмейстер, за императорский стол отвечал обер-гофмаршал, обер-шенк смотрел за винными погребами, обер-шталмейстер за конюшнями, обер-церемониймейстер следил за соблюдением дворцового протокола и т. д. За исполнение своих обязанностей придворные чины получали жалованье.
Одними из распространенных придворных чинов в XVIII–XIX вв. были камергеры и камер-юнкеры. В специальном указе о должности и обязанностях камергеров (1762 г.), например, сказано: «…Когда Ея Императорское Величество имеет торжественный выход и карета под короной, тогда обер-камергер едет верхом подле самой кареты, также и при Дворе в церемониях в ассамблеях всегда есть ближайший при Ея Императорском Величестве…»[100] В обер-камергерах в разное время состояли Меншиков, Бирон, Шувалов.
Гвардейский офицер, получая чин камергера или камер-юнкера, допускался на придворные торжества «…в эту «святая святых», куда люди, действительно преданные службе, не могли попасть иначе, как при условии достижения самого высокого чина…»[101].
В конце XVIII столетия придворный чин, равнявшийся военному, был выше чинов гражданских. Поэтому представители высших социальных слоев общества стремились определить своих сыновей в гвардию, где офицеры имели преимущество в два чина перед армейскими, и в то же время получить для них какую-либо должность при дворе. Включенные в иерархию чинов, молодые люди переходили затем на военную или гражданскую службу с большим повышением.
Будучи пожалован в 1798 г. в камергеры, граф М.С. Воронцов, желая служить на военном поприще, мог быть произведен в свои девятнадцать лет в армейские генерал-майоры, что соответствовало его камергерскому званию. Но он просил разрешения начать службу с нижних гвардейских чинов. Просьбу молодого графа удовлетворили, 2 октября 1801 г. его определили поручиком лейб-гвардии в Преображенский полк. Впоследствии Л.А. Нарышкин, А.П. Апраксин рассказывали, что когда при вступлении на военную службу они решили воспользоваться правами, данными камергерскому званию, то им прямо указали на пример графа М.С. Воронцова, и они «…должны были впредь довольствоваться обер-офицерскими чинами»[102].
По характеру своих обязанностей к придворным чинам приближались пажи. Ими обычно становились сыновья и внуки царских сановников первых двух классов. Пажеский корпус, основанный в середине XVIII столетия для подготовки офицеров, считался особо привилегированным учебным заведением. Лучшие по успеваемости пажи получали звание камер-пажей, что давало право поступать в гвардию сразу в звании поручика, что соответствовало в армии чину майора. Церемония производства в камер-пажи напоминала средневековый обряд посвящения в рыцари. Паж преклонял колени, императрица дотрагивалась рукой до его щеки, вручала шпагу. Во время придворных церемоний пажи сопровождали членов императорской фамилии, прислуживали за столом, носили за дамами шлейфы, держали их накидки во время танцев и т. д. При Александре I число придворных должностей свиты было резко сокращено, а звания камергер и камер-юнкер стали в основном знаком причисления гражданских чиновников к свите в «знак особого внимания царского к роду и заслугам предков»[103].
В 1844 г. Николай I произвел последнюю радикальную реформу придворного ведомства, отнеся всех первых лиц придворных чинов с приставкой «обер» ко 2-му классу, вторых лиц – к 3-му. Из штата выбыли все камергеры и камер-юнкеры, кроме обер-камергера, руководившего свитой. Было введено звание флигель-адъютант для штаб-и обер-офицеров «первых» гвардейских полков – Семеновского, Измайловского, Кавалергардского и Конногвардейского[104].
При императорских особах женского пола состояли придворные дамы и девицы, которых возглавляла обер-гофмейстерина. Ей подчинялись статс-дамы, следующие за рангом жен действительных тайных советников. При возведении в ранг статс-дамы ей жаловали портрет императрицы с короной, украшенной бриллиантами. Елизавета Петровна, к примеру, пожаловала статс-дамским портретом Марию Андреевну Румянцеву, внучку А.А. Матвеева, в награду за Абоский мирный договор 1743 г. со Швецией, заключенный ее мужем А.И. Румянцевым. В этом качестве она возглавила двор невесты великого князя Петра Федоровича принцессы Софьи, будущей императрицы Екатерины II. В свою очередь и Екатерина II не обошла ее вниманием, возвела 10 июля 1776 г. в обер-гофмейстерины за заслуги уже сына П.А. Румянцева-Задунайского, героя Русско-турецкой войны. Не осталась без награды и супруга последнего, Екатерина Михайловна, урожденная Голицына, возведенная 15 августа 1773 г. в действительные статс-дамы и назначенная в гофмейстерины к первой жене великого князя Павла Петровича, Наталье Алексеевне[105].
В высокоторжественные дни приглашенные размещались во время церемоний согласно чинам: жены по чинам мужей, девицы по чинам отцов. Во время коронации Екатерины II княгиня Е.Р. Дашкова – одна из активных участниц переворота 1762 г. – будучи женой полковника М.-К.И. Дашкова, находилась в соборе в последнем ряду. По выходе из церкви императрица назначила Дашкову статс-дамой[106], а ее мужа сделала камер-юнкером с чином бригадира и оставила командиром Лейб-кирасирского полка.
При дворе Екатерины состояли «…9 статс-дам, камер-фрейлин, 18 придворных фрейлин и гофмейстерина над оными, 9 камер-юнфер.
При Ее Императорском Высочестве: 3 фрейлины, камер-фрац и камер-юнфера…»[107]. Младшими придворными дамами считались камер-фрейлины и фрейлины. После каждого выпуска из Смольного института благородных девиц шести девушкам, особенно отличившимся знаниями и поведением, давались особые знаки отличия – золотые вензеля императрицы.
Некоторых фрейлин императрица выбирала лично, других – приглашали по рекомендациям, в основном девушек из благородных, но обедневших семей. Императрица могла жаловать фрейлинский шифр после специального разрешения императора. В Зимнем дворце существовал так называемый фрейлинский коридор, вдоль которого были комнаты, где жили фрейлины. Ее величества «…гофмаршал от двора, граф Моден, велел нас отвести в наши комнаты: всего три маленькие конурки. В спальне была перегородка, за которой спала моя неразлучная подруга Александра Александровна Эйлер»[108], – вспоминала А.О. Смирнова-Россет. Фрейлины не имели права выезжать ни в свет, ни в театр без разрешения императрицы.
После раннего подъема императрицы Елизаветы Алексеевны фрейлины сопровождали ее во время весьма продолжительных прогулок. Около полудня они возвращались к себе, а в пять часов вечера собирались обедать в комнатах императрицы.
При императрице Александре Федоровне каждая из семи ее фрейлин в свой день дежурства находилась безотлучно при ней. В случае болезни императрица оплачивала лечение и отдых своих фрейлин. «…Арендт мне советовал ехать в Ревель купаться в море. Я сказала об этом императрице. Она велела мне дать четвероместную дорожную карету, подорожную на шесть лошадей, и все было уплачено. Мне выдали жалованье за три месяца, что составляло пятьсот рублей асс., и я отправилась с Карамзиными в Ревель»[109] – так описывает выезд на лечение А.О. Смирнова-Россет.
Согласно высочайше утвержденному штату двора его императорского высочества, государя наследника цесаревича, великого князя Александра Николаевича годовой оклад гофмейстерины его двора составлял 3116 руб. 49 коп. (включая жалованье – 1715 руб. 52 коп. и столовые – 1400 руб. 97 коп.), гофмаршала – 3145 руб. 12 коп., доктора – 1275 руб. 18 коп. Всего на содержание двора наследника отпускалось 305 602 руб. 80 коп. серебром[110].
Кредиты на содержание двора шли из трех главных источников:
1. Общий бюджет государства, обеспечивающий «цивильный лист», то есть средства на содержание двора государя, государыни и наследника.
2. Уделы, то есть независимые от казны учреждения, освобождающие бюджет страны от расходов на содержание императорской фамилии.
3. Совокупность угодий, принадлежащих лично государю и находившихся в ведении кабинета Е.И.В.[111] (Его Императорского Величества).
Уделы являлись не только недвижимым имуществом для содержания императорской фамилии, но и системой учреждений для управления им. Уделы были выделены в 1797 г. «Учреждением об императорской фамилии»[112] под управлением Департамента уделов во главе с министром: на содержание членов императорской фамилии поступали подати, собиравшиеся с крестьян удельных имений, арендная плата с «доходных статей» (мельниц и др.)[113]. При учреждении уделов в них входило более 4 млн десятин земли в 36 губерниях и 460 тысяч душ дворцовых крестьян[114].
В конце XIX столетия, после выдела наделов бывшим удельным крестьянам, во владении уделов находилось 790 тысяч десятин, в том числе под лесом 572 тысячи. При учреждении уделов годовой их бюджет составил 2,2 млн руб. ассигнациями, в 1896 г. поступало 20 млн руб. За сто лет было израсходовано 236 млн руб. Для увеличения доходов была создана общественная запашка, продукты которой поступали в хлебные магазины на случай неурожаев и для образования вспомогательных капиталов. На эти средства в 1832 г. было создано Земледельческое училище, воспитанники которого обеспечивались землей, породистым скотом, улучшенными орудиями и становились хозяевами «образцовых хозяйств» для влияния на окрестных крестьян[115].
В селениях удельных крестьян было учреждено самоуправление. В 1863 г. удельных крестьян насчитывалось 826 тысяч душ, при освобождении они получили в среднем 4,8 десятины на душу, основной доход стали давать оброчные статьи. Ранее они в основном состояли из мельниц и рыбных ловель, затем стали появляться новые заводы, фабрики, рудники и т. д. Среди значимых предприятий удельного ведомства были: полотняная фабрика в Петербурге для выделки тонких голландских тканей и подготовки мастеров из крестьян, Петергофская писчебумажная фабрика, завод в Самарской губернии, батумские чайные плантации, виноделие в Ливадии, Абрау, Массандре, Кахетин, оросительные работы в Мургабском имении для возрождения земель Мервского оазиса[116].
На местах заведование фамильными императорскими имениями сосредотачивалось в удельных экспедициях, заменены в 1808 г. удельными конторами, а в 1892 г. – управлениями удельных округов[117].
В 1826 г. в связи с образованием Министерства императорского двора и уделов, созданного путем механического объединения многочисленных дворцовых контор, сюда был передан и Департамент уделов, а также кабинет его императорского величества[118].
Кабинет его императорского величества был создан в начале XVIII в. как личная канцелярия государя в качестве высшего учреждения. При Екатерине в его деятельности все большее значение приобретают дворцовые финансово-хозяйственные функции[119]. С ними он и вошел указом от 22 августа 1826 г. в Министерство императорского двора и уделов с последующей реорганизацией в 1827–1828 гг. И прямым подчинением министру, который стал его управляющим[120].
Кабинет состоял из вице-президента и трех членов. В его управлении находились кабинетские земли – собственность императорской фамилии. В основном это были земли на Алтае (с 1747 г.), в Забайкалье (с 1786 г.) и Польше, частично на Урале и под Петербургом. На кабинетских землях находились серебряные рудники, золотые прииски, металлургические заводы, гранильные фабрики, где работали ссыльнокаторжные и кабинетские крестьяне, которые после 1861 г. слились со всем крестьянством.
Личный доход императора пополнялся на счет процентов, хранившихся в английских и германских банках.
Общая стоимость этих имуществ, по оценке 1914 г., достигала 100 млн руб. золотом и не соответствовала их сравнительно скромной доходности, едва достигавшей двух с половиной миллионов рублей в год. Это объяснялось некоторыми политическими причинами. Так, Министерство уделов старалось не делать надлежащую рекламу шампанскому Абрау-Дюрсо, чтобы не вызвать неудовольствие Франции, союзницы России. Оно же откладывало постройку железной дороги по Южному берегу Крыма, чтобы радикальная печать не усмотрела в этом желание вывозить из императорских имений фрукты, и их приходилось продавать на месте за бесценок. Министру двора было категорически запрещено вкладывать деньги в какие-либо иностранные или русские предприятия, чтобы не было подозрения в том, что император заинтересован в развитии какой-либо отрасли промышленности[121].
«Мертвый капитал» императорской семьи оценивался в сумму 160 млн руб., составлявших стоимость драгоценностей дома Романовых, приобретенных за 300 лет царствования. Специалисты в области ювелирного искусства подчеркивали, что никто, кроме монархов России, Германии или Австро-Венгрии, не был заинтересован в покупке больших драгоценных камней. Как остроумно отмечал великий князь Александр Михайлович, большевики оказались в парадоксальном положении купцов, «…которым удалось получить товар путем уничтожения единственных возможных его покупателей»[122].
Согласно существовавшей традиции, русский монарх был обязан заботиться о родственниках. Каждому великому князю полагалась ежегодная рента в 100 тыс. руб. Каждой из великих княжон выдавалось при замужестве приданое – 1 млн руб.[123]
Министерство двора содержало пять больших дворцов, императорские театры – три в Петербурге, два в Москве. Значительной материальной поддержки требовала императорская Академия художеств. Члены императорской семьи, числившиеся ее попечителями, считали своим долгом поддерживать нуждающихся учеников. Из личных средств, например, императора Николая II осуществлялась обширная благотворительная поддержка: обществу Красного Креста переданы 150 тыс. руб. на достройку отделения госпиталя в одном из больших торгово-промышленных центров; король Черногории, повидав в Царском Селе русского монарха, получил чек для своих голодающих подданных; по просьбе директора Пажеского корпуса одному из пажей, подающему большие надежды, выделена ежегодная рента в 10 тыс. руб., дабы тот мог стать офицером одного из блестящих полков. Удовлетворялись и многие другие прошения. Император не мог отказать, например, когда внук заслуженного генерала просил о выдаче 1500 руб. для окончания образования или когда семья убитого при исполнении служебных обязанностей городового осталась без средств и взывала о помощи, а флигель-адъютант двора был обязан в 24 часа выплатить карточный проигрыш в 25 тыс. руб. и молил о снисхождении. Кроме того, император выплачивал вышедшим в отставку дворцовым служащим ежемесячные пенсии, а находящимся на службе ежемесячно платилось жалованье, предоставлялся стол, обмундирование. На Рождество и в день тезоименитства государя гофмаршал, церемониймейстеры, егеря, конюхи, камер-лакеи, камеристки ожидали от царской семьи подарки – золотые портсигары, брошки, кольца и другие ценности[124].
В сравнении с названными выше расходами затраты на проведение придворных церемоний были незначительны. Объяснялось это тем, что для их устройства не требовалось делать специальных покупок. Цветы доставлялись из оранжерей дворцового ведомства, вино – из главного управления уделов, оркестр содержался Министерством двора. Когда в России появились автомобили, император в течение многих лет не получал денег для устройства гаража. В том числе и потому, что при переходе на автомобильный способ передвижения потребовалось бы оставить без работы значительное количество конюхов, тренеров, кучеров и многих других людей из обслуги.
Во время войны царь пожертвовал 200 млн руб., хранившихся на его текущем счете в Английском банке, на нужды раненых, увечных и их семей. Заметим, что в мирное время ни копейки из этого состояния не было потрачено.
Однако, как бы ни был скромен в частной жизни правитель одной шестой части земного шара, принимать гостей он мог только в атмосфере расточительной пышности, которая поражала иностранцев, приезжавших в Россию в XVIII–XX столетиях. Во время придворных церемоний стиралась грань веков. Находясь в Зимнем дворце, можно было «…позабыть деловое двадцатое столетие и перешагнуть в великолепный екатерининский век»[125], – вспоминал великий князь Александр Михайлович.
Русский императорской двор сложился в XVIII столетии и ориентировался на западные образцы, главным образом на королевские дворы Франции, Пруссии и австрийский императорский двор. В России так называемый большой двор в 1728–1732 гг. ненадолго вернулся в Москву. Наследникам престола принадлежали малые дворы[126].
Как известно, в 1730 г. Верховный тайный совет по предложению Д.М. Голицына и В.Л. Долгорукова решил пригласить на русский престол герцогиню Курляндскую Анну Иоанновну, ограничив ее самодержавие «кондициями» (условиями), которые она, впрочем, через месяц разорвала. В ее царствование дочь Петра I Елизавета чувствовала себя лишней при дворе. На протяжении всех лет правления Анны Иоанновны с цесаревны не спускали глаз, следили за ее друзьями. Елизавета стремилась укрыться в своем дворце у Марсова поля (а летом во дворце у Смольного) в кругу близких ей людей[127].
Двор цесаревны был невелик и не превышал (вместе со служителями) ста человек. Среди придворных можно выделить камер-юнкеров двора П.И. и А.И. Шуваловых, М.И. Воронцова. Фрейлинами двора цесаревны были преимущественно ее ближайшие родственницы: двоюродная сестра А.К. Скавронская (с 1742 г. супруга М.И. Воронцова) и сестры Гендриковы. Жизнь двора Елизаветы отличалась от церемонной жизни большого императорского двора. Придворные цесаревны не были обременены государственными обязанностями. Энергичная Елизавета была заводилой поездок за город на прогулки, охоту, маскарады. В 30-х гг. при ее дворе образовался хор, с которым Елизавета пела в церкви[128].
В блестящей толпе придворных, окружавших Елизавету, нужно выделить А.Г. Разумовского, с 1744 г. состоявшего с ней в морганатическом браке. Хотя сам Разумовский и не участвовал в перевороте 25 ноября 1741 г.[129], он был сразу пожалован в поручики лейб-кампании с чином генерал-поручика, стал действительным камергером наравне с братьями А.И. и П.И. Шуваловыми и М.И. Воронцовым. В день коронации он получил орден Святого Андрея Первозванного, чин обер-егермейстера и большое число душ. Разумовские и Шуваловы были двумя соперничающими группировками при дворе. Их борьба влияла на судьбы вовлеченных в нее вельмож. Среди них выделим М.И. Воронцова, который с 1744 по 1758 г. был вице-канцлером, а в 1758 г. сменил А.П. Бестужева-Рюмина на посту канцлера.
Камер-юнкерство при дворе Елизаветы в годы царствования Анны Иоанновны не открывало больших перспектив для М.И. Воронцова. Но он был предан цесаревне и заслужил ее доверие. В ночь на 25 ноября 1741 г. М.И. Воронцов стоял на запятках ее саней. В 1742 г. она выдала за него свою двоюродную сестру А.К. Скавронскую. Следующие за этим три года стали апогеем влияния М.И. Воронцова при дворе.
Если в XVIII – начале XIX в. вдохновителями расправ над монархами являлись сильные дворянские группировки, лица, принадлежащие к малому двору, то во второй половине XIX в. в разгар правительственного кризиса наследник становился важной политической фигурой в борьбе различных общественных сил. Ставка делалась не столько на государственные способности будущего императора, сколько на его близость к правящему монарху, возможность влиять на него.
Находясь в Петербурге, монархи жили в Зимнем дворце, реже в других дворцах столицы. В летнее время двор перебирался в одну из загородных резиденций – в Царское Село или Петергоф. А.М. Грибовский свидетельствует, что Екатерина Великая «…в первых числах мая выезжала, всегда инкогнито, в Царское Село, откуда в сентябре, также инкогнито, в Зимний дворец возвращалась. В Царском Селе пребывание имела в покоях довольно просторных и со вкусом убранных»[130].
Зимний дворец всегда был основным местом пребывания русских самодержцев. Его первый этаж и подвальные помещения занимали хозяйственные службы: кухни, кладовые, мастерские, иные подсобные помещения. На втором этаже находились жилые покои императора, его супруги и их детей, а также парадные залы. На третьем этаже – комнаты фрейлин. В разных концах дворца имелось несколько «запасных половин», которые занимали известные иностранные гости. Несколько помещений занимала одна из лучших частных библиотек в России, насчитывавшая в конце XVIII столетия десять тысяч томов. Уже в XVIII в. Зимний дворец оказался мал для императорского двора и коллекций произведений искусства. К нему были пристроены Малый Эрмитаж (1764–1767 гг.), Старый (1771–1787 гг.), Эрмитажный театр (1783–1787 гг.), а в 1839–1852 гг. – Новый Эрмитаж.
Царская семья посещала две церкви при дворце – Большую и Малую; с ним были связаны и парадные церемониалы. В них происходили венчания членов царской семьи.
В Георгиевском зале Зимнего дворца, выполнявшем в XIX в. функцию тронного, приводили к присяге достигших совершеннолетия членов императорской семьи, устраивали праздничные обеды, давали аудиенции высоким и иностранным гостям. В Бриллиантовой комнате хранились императорские коронационные регалии.



