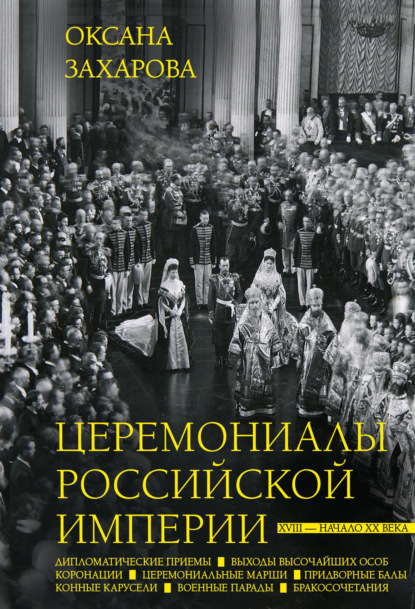
Полная версия:
Церемониалы Российской империи. XVIII – начало XX века
Будучи учреждением общегосударственного значения, высочайший двор включал в себя придворное ведомство с соответствующими частями, придворных служителей и другой обслуживающий персонал. Сюда входили гофмаршальская часть, заведовавшая довольствием двора и придворными служителями, устройством приемов, путешествий; церемониальная часть, организовывавшая придворный церемониал; конюшенная часть; императорская охота; придворное духовенство; придворная певческая капелла; придворный музыкантский хор; собственная его императорского величества библиотека; Императорский Эрмитаж; дирекция Императорских театров; управление собственного Е. И. В. дворца и местное дворцовое управление, заведование строительными работами, убранством, служителями, содержанием, дворцовыми парками и садами, госпиталем дворцового ведомства; Императорская Академия художеств; Императорский Археологический кабинет; рота Дворцовых гренадер. Высочайший двор обслуживали лейб-медики, лейб-хирурги, лейб-окулисты, лейб-педиатры, гоф-медики, камер-фурьеры, гоф-фурьеры[131], камер-фрау[132], камер-юнгферы[133], камердинеры, мундшенки, кофешенки, тафельдекеры, кондитеры, метрдотели, а также низшие служители; камер-лакеи, камер-казаки, скороходы[134], вершинки и другие.
В 1826 г. Николай I учредил Министерство императорского двора и уделов. Возглавлявший его министр был также канцлером царских орденов и подчинялся только императору. Министру императорского двора были подотчетны все придворные подразделения, дирекция Императорских театров, Департамент уделов; он же являлся управляющим Кабинетом его императорского величества. Он получал приказы и подчинялся только императору, «…а другое никакое Правительство никакого отчета по делам, вверяемым его распоряжению, требовать и предписании по оному чинить права на имеет»[135].
Для управления делами по придворной части была создана канцелярия Министерства императорского двора. Ее директор назначался именным высочайшим указом, другие члены канцелярии – министром императорского двора[136]. На содержание штата канцелярии Министерства императорского двора ежегодно отпускалось из государственного казначейства 19 350 руб. Канцелярия состояла из директора (годовое жалованье – 4000 руб.), секретаря (1200 руб.), двух экспедиторов (по 2000 руб.), двух помощников (по 1200 руб.), одного журналиста (1000 руб.), архивариуса (1000 руб.) и пяти чиновников для особых поручений не выше 9-го класса (годовое жалованье – 750 руб.). На содержание сторожей, поездки чиновников, переплет канцелярских журналов, покупку книг и газет, на свечи и другие расходы из государственной казны отпускалось 2000 руб. в год. Оставшуюся после названных расходов сумму по утверждении ее министром разрешалось потратить на награждение чиновников[137].
В 1858 г. к Министерству императорского двора была присоединена экспедиция церемониальных дел, а в 1859 г. – Императорская археологическая комиссия. В 1893 г. учреждена должность помощника министра с правом и обязанностями товарища министра. Министерство императорского двора состояло и включало в себя:
1. Совет при министре;
2. Общие установления;
3. Особенные установления;
4. Капитул императорских и царских орденов;
5. Главное управление уделов.
К общим установлениям относятся:
1. Канцелярия министра императорского дворца и уделов;
2. Кабинет его императорского величества;
3. Контрольный орган;
4. Касса (с отделениями в Москве, Барнауле, Нерчинске);
5. Общий архив;
6. Инспекция врачебной части.
Особенные установления Министерства императорского двора:
управление гофмаршальской части;
экспедиция церемониальных дел;
придворная конюшенная часть;
императорская охота;
придворное духовенство;
придворная певческая капелла;
придворный музыкантский хор;
собственные его императорского величества библиотеки;
Императорский Эрмитаж;
дирекция Императорских театров;
управление собственным его императорского величества дворцом;
дворцовые управления С.-Петербурга, Москвы, Царскосельское;
петергофское, гатчинское, варшавское;
управление г. Павловском;
Императорская Академия художеств;
Императорская археологическая комиссия;
дворы великих князей и великих княгинь;
электротехническая часть;
рота дворцовых гренадер;
управление княжеством Ловическим;
канцелярия его императорского величества государыни императрицы (создана указом Александра III Сенату 16 апреля 1893 г.[138]). Особым учреждением при императоре, созданном для принятия его личных приказаний и исполнения социальных поручений, являлась Императорская главная квартира. Чины ее назначались и увольнялись по личному распоряжению монарха. Это учреждение сопровождало императора в путешествиях и походах, заведовало караулами, объявляло повеления императора всем учреждениям, принимало все жалобы и прошения (с 1884 г. через Канцелярию по принятию прошений)[139], вело делопроизводство. В 1883 г. создана канцелярия Императорской главной квартиры, объединившая собственное Управление и Военно-походную канцелярию[140].
Императорская Главная квартира входила в состав военного ведомства и состояла из командующего, коменданта, штаб-офицера для поручений, лейб-медика, собственного его императорского величества конвоя и канцелярии, а также генерал-адъютантов, генерал-майоров и контр-адмиралов свиты, флигель-адъютантов.
Свита постоянно присутствовала при императоре и участвовала по всех придворных церемониалах. Назначение в свиту происходило по личному усмотрению императора в качестве награды, с правом продолжения прежней службы. В 1809 г. Александр I сделал звание генерал-адъютанта почетным для генералитета 2-го и 3-го классов (лица 1-го класса включались в свиту автоматически)[141]. Генералы свиты дежурили на военных церемониях. Флигель-адъютанты представляли прошения на имя императора и составляли списки лиц для высочайшего представления императору, а дежурный генерал-адъютант их представлял. Чины свиты командировались на места в чрезвычайных обстоятельствах и действовали там именем императора. В 1861 г. флигель-адъютанты были разосланы по губерниям для контроля за исполнением «Положений 19 февраля»[142].
До 1828 г. личная охрана императора состояла из случайных групп кавалерии, главным образом гвардейской[143]. С 1828 г. конвой стал включать представителей основных национальностей и религиозных конфессий, населявших Кавказ. В специальном распоряжении правительства 1856 г.[144] особенно подчеркивалась необходимость подбора в конвой лиц из знатнейших фамилий, имевших влияние на своих соплеменников.
В западноевропейских государствах не везде существовали отдельные министерства двора. В Англии не было учреждения, в котором сосредоточивалось все придворное управление. Оно делилось на три части – гофмаршальская, камергерская и шталмейстерская. С приходом к власти нового кабинета менялись и лица, занимавшие главные придворные должности. В Австро-Венгрии министр иностранных дел являлся и министром двора. В Пруссии с 1819 г. существовало особое министерство королевского двора, в ведении которого находились и дела о правах дворянского состояния. В Италии управление королевским двором поручалось трем лицам: министру двора, отвечающему за хозяйственную часть; префекту дворца и первому генерал-адъютанту. На эти должности назначались лица, не вмешивавшиеся в политические проблемы государства.
В Российской империи министры императорского двора пользовались не только личным расположением императора, но и принимали активное участие в решении политических, экономических, военных проблем. Одновременно с министерским статусом были канцлерами Капитула российских императорских и царских орденов.
В день коронации Николая Павловича первым министром императорского двора и уделов и управляющим кабинетом его императорского величества был назначен князь П.М. Волконский (1776–1852). Он начал службу с чина прапорщика лейб-гвардии Семеновского полка, с 1797 г. – адъютант великого князя Александра Павловича, участник дворцового переворота 11 марта 1801 г. После Тильзитского мира его командировали во Францию для изучения организации французской армии, после чего он принял активное участие в военных реформах 1810–1812 гг. Первый начальник Генерального штаба и управляющий квартирмейстерской частью стал одним из основателей службы Генерального штаба, реорганизатором свиты его императорского величества[145]. Личный друг Александра I в 1814 г., среди придворных носил прозвище Le prince Non («Князь нет»). Фридрих Гогерн замечал, говоря о нем: «Он вел большую бережливость при дворе»[146].
С 1852 по 1872 г. министром императорского двора и уделов был В.Ф. Адлерберг – сын полковника русской службы шведа Густава Фридриха Адлерберга. Офицером гвардии он участвовал в Отечественной войне 1812 г. и заграничном походе русской армии в 1813–1814 гг. Служил адъютантом великого князя Николая Павловича и стал его доверенным лицом. В 1826 г. Адлерберг – помощник правителя дел следственной комиссии по делу о декабристах. С 1828 г. сопровождал Николая I во всех его поездках. В 1841 г. назначен главноуправляющим почт; с 1842 г. – член Государственного совета, член Секретного, впоследствии Главного комитета по крестьянскому вопросу. В своем завещании император Николай I называл Адлерберга своим другом и товарищем. Преемником В.Ф. Адлерберга на посту министра стал его сын – А.В. Адлерберг, принявший активное участие в разработке внутренней политики Александра II. С 1872 по 1881 г. граф Александр Адлерберг был одним из наиболее приближенных к императору лиц, его душеприказчиком. Он один разделял с дежурным камергером право входить к государю без доклада и имел право обращаться к нему на «ты», в 1877 г., во время войны с Турцией, находился неотлучно при императоре. Александр III отмечал особое доверие отца к Адлербергу и то, что тот поручал ему важные государственные и семейные дела. Возглавлял Особую комиссию для обсуждения вопроса о замещении должностей гражданских ведомств, мало чем себя проявившую.
В августе 1881 г. министром императорского двора и уделов стал один из основателей тайного общества по борьбе с крамолой («священной дружины») начальник охраны Александра III граф И.И. Воронцов-Дашков (1837–1916). В 1855 г. он поступил в Московский университет. В 1856 г. перешел на военную службу, в 1858 г. произведен в корнеты лейб-гвардии Конного полка, в 1862 г. назначен флигель-адъютантом. По собственному желанию отправился на Кавказ, участвовал в военных действиях. В 1867 г. его назначили командиром лейб-гвардии Гусарского полка с производством в генерал-майоры и зачислением в свиту. Граф был активным участником Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., затем командовал 2-й гвардейской пехотной дивизией.
Александр III настолько доверял И.И. Воронцову-Дашкову, что просил его, а также генерал-адъютантов О.Б. Рихтера и П.А. Черевина «…помогать ему разбираться в докладах и отчетах», – вспоминал Н.А. Епанчин[147]. В качестве министра провел реформу своего ведомства, превратив удельные капиталы в земельную собственность. Пытался создать своего рода фермерские хозяйства, сдавая в аренду удельные земельные участки[148].
После ходынской катастрофы, в которой, по мнению представителей отдельных кругов тогдашнего российского общества, был виноват министр двора, он стал просить государя об отставке. Но истинной причиной его ухода некоторые современники считали слишком покровительственное отношение министра двора к молодому императору, что вызывало недовольство Александры Федоровны. При оставлении должности И.И. Воронцову-Дашкову было предоставлено право пользоваться придворной каретой и ложей в Императорских театрах[149].
В 1897 г. пост министра двора занял барон В.Б. Фредерикс (1838–1927) (впоследствии получивший титул графа) – потомок плененного русскими войсками шведского офицера, поселенного в Архангельске. Один из предков министра был придворным банкиром Екатерины II. Отец графа участвовал во взятии Парижа и впоследствии состоял генерал-адъютантом Александра II. Как и Воронцов-Дашков, молодой Фредерикс поступил юнкером в лейб-гвардии Конный полк, и оба были одновременно произведены в офицеры. Более восьми лет Фредерикс командовал Конной гвардией. Когда Воронцов был министром двора, Александр III назначил Фредерикса сначала управляющим придворно-конюшенной частью, а затем помощником министра двора. Утверждение Фредерикса в этой должности стало для придворных кругов полной неожиданностью – у него не было больших связей или высокого родства. Между тем в ней не был утвержден императором ни один из многих кандидатов, поддерживаемых группировками при дворе. Царская семья ценила в графе «…его простоту, кристальную честность и умение исполнять их волю с большим тактом»[150].
День министра двора начинался в десять часов утра с доклада начальника канцелярии Министерства двора. Начальник канцелярии (с 1900 по 1916 г. этот пост занимал А.А. Мосолов) подробно докладывал обо всех прошениях, так как Фредерикс считал, что никакие государственные вопросы не должны мешать ему уделять внимание прошениям нуждающихся. Его дела обычно заканчивались в первом часу. С трех часов дня у Фредерикса начинался доклад начальников отдельных частей Министерства двора и прием лиц, которым граф назначил аудиенцию. Докладывали об этих лицах чиновники особых поручений канцелярии. Они же сообщали ее начальнику обо всем происходившем в течение дня у министра и о его приказах на следующий день.
В начале деятельности А.А. Мосолова в должности начальника канцелярии большинство ее чиновников были сыновьями камердинеров великих князей: «…люди без высшего образования и нужного для службы воспитания… Благодаря высокому заступничеству молодые люди считали себя неуязвимыми со стороны своего начальства»[151]. С течением времени их заменили питомцы Александровского лицея и училища правоведения.
Кроме двух докладов в неделю – утром в субботу и в четверг после завтрака – Фредерикс бывал во дворце весьма часто. Не менее двух раз в неделю его звали на все семейные праздники – дни рождения или именины детей, елки и другие неофициальные торжества. По отзывам современников, Фредерикс умел говорить правду их величествам в такой форме, которая их не коробила. Кроме того, если император уклонялся от выражения лично кому-либо своего недовольства, он поручал эту деликатную миссию Фредериксу. «…это был человек глубоко благородный, рыцарь…» – писал о Фредериксе Н.А. Епанчин[152].
Граф занимался не только административными, но и политическими вопросами. Он стал одним из авторов Манифеста 17 октября, в составлении текста которого принимали участие также граф С.Ю. Витте и начальник канцелярии Министерства двора генерал А.А. Мосолов.
Следует заметить, что большая часть представителей свиты императора стремилась придерживаться сферы своих обязанностей и не принимать участия в решении государственных проблем. Граф Фредерикс, будучи одним из лучших командиров лейб-гвардии Конного полка, считал естественным поиск подходящих кандидатов в свиту среди конногвардейцев, «…этой большой, но тесной семьи, к которой он сам принадлежал и которая давала все необходимые гарантии сдержанности, такта и совершенного воспитания»[153].
После обучения в Пажеском корпусе и службы в одном из элегантных полков офицеры, попадая ко двору императора, не успевали достаточно глубоко узнать жизнь представителей других слоев общества и приобрести навыки решения государственных вопросов. Но данная задача и не ставилась перед большинством придворных чинов, которые, являясь политической опорой императора, занимались административными проблемами.
Свита Николая I насчитывала 109 генерал-адъютантов и 224 флигель-адъютанта[154]. Александр II, по отзывам современников, был щедр на включение новых лиц в свиту, которая сократилась при Александре III. В 1908 г. при дворе состояло 150 генерал-адъютантов и генералов свиты. Начальник канцелярии Императорской Главной квартиры, ведавший военной свитой Николая II, граф В.Н. Орлов состоял в переписке с видными политическими деятелями своего времени и был, по словам А.А. Мосолова, «…политически зрелым человеком»[155].
Политическая роль двора проявилась еще в царствование Иоанна Грозного, опричники которого охраняли его от «боярской и земской крамолы»[156]. При Петре I двор состоял из верных царю потомков боярских родов и новых ставленников царя – главных проводников западной культуры. Россия при преемниках Петра I обрела вид сословно-дворянского государства.
Дворцовые перевороты XVIII столетия создали вокруг престола своеобразную правящую прослойку, состоящую из лиц различного социального происхождения. Так, в разное время обер-егермейстером были и А.П. Волынский и А.Г. Разумовский, обер-гофмаршалом – Г.Г. Орлов, обер-гофмейстером – Н.И. Панин.
В XIX столетии двор представлял замкнутую систему – государство в государстве, со своей сословно-бюрократической иерархией, военными формированиями, аппаратом управления, со своей очерченной жизненной территорией.
В начале ХХ столетия придворные составляли особое сословие, окружавшее императора и, по мнению современников, отдалявшее его от народа.
Как справедливо отмечает Л.Е. Шепелев, основной идеей состава, структуры и обычаев российского императорского двора была «демонстрация политического престижа империи и царствующей фамилии»[157].
Использование местных традиций и светских церемоний в процессе нравственного освоения Кавказа. Двор кавказского наместника М.С. Воронцова
Мы вынесли в заголовок понятие «двор» применительно к наместнику при ясном понимании того, что юридически институт двора существовал лишь в рамках императорской фамилии. Напротив, институт наместничества (генерал-губернаторства) – это сугубо административное явление с соответствующими органами и ведомствами. Но жизнь и деятельность генерал-губернатора не ограничивались его руководством губернскими учреждениями. Как наместник царя в регионе (или «крае»), он вольно или невольно переносил сюда правила жизни царствующей семьи. Характер подбора кадров и губернской администрации, организация работы собственной канцелярии, формирование вокруг генерал-губернатора определенного окружения в известной мере повторяли, если не копировали, императорский двор, который эти высшие сановники и представляли. Именно в этом смысле мы и считаем возможным говорить о «дворе наместника» как региональном звене большого и малых императорских дворов на примере в основном М.С. Воронцова.
Граждане различных государств в своей обыденной повседневной жизни постоянно общаются с различными представителями местных органов власти, от деятельности которых зависит во многом стабильность и благополучие как общества в целом, так и отдельной личности в частности.
Структура административного деления связана с историей политического, экономического и культурного развития страны. В Российской империи одной из форм регионального управления на протяжении XVIII–XIX вв. является институт генерал-губернаторства. Крупные административно-территориальные единицы из нескольких губерний и областей были образованы в ходе губернской реформы Екатерины II, хотя должность генерал-губернатора, как и сами административно-территориальные объединения, восходит к местным реформам Петра I.
В России первым генерал-губернатором был А.Д. Меншиков, который в 1703 г. стал генерал-губернатором Санкт-Петербурга, а в 1704 г. был «наименован»[158] нарвским генерал-губернатором. Назначение на эту должность свидетельствовало прежде всего об особом доверии императора, звание генерал-губернатора являлось своеобразным почетным титулом, который даровался за особые заслуги перед Отечеством. При этом А.Д. Меншиков, а вскоре и Ф.М. Апраксин были именно «наименованы» генерал-губернаторами, так как вплоть до правления Екатерины Великой не существовало четкого юридического разделения прав и обязанностей различных представителей местных органов управления. Правовая неопределенность порождала ситуацию, когда одни и те же должности, имея различные названия, не отличались по своим функциям. Так, при Анне Иоанновне вице-губернатор Москвы стал называться генерал-губернатором, но при этом его властные полномочия практически не изменились.
Наставлением 1764 г. Екатерина Великая сделала шаг к переустройству губернского управления, назвав губернатора «своей поверенной особой», «главой и хозяином»[159] губернии. Императрица подчинила его сенату, наделив правами надзора и одновременно управления губернией, но соединение обеих функций – управления и надзора – во власти одного человека было крайне неудобно.
Для изменения сложившейся ситуации был издан указ 1775 г. «Учреждения для управления губерний Всероссийской империи»[160]. Изначально предполагалось, что основной обязанностью генерал-губернатора будет наблюдение за администрацией и сословиями региона, за направлением административной деятельности местных властей. За действиями самого генерал-губернатора наблюдали императрица и сенат. В то же время права и обязанности генерал-губернатора выходили далеко за рамки контроля наместником за действиями местных властей. Права и обязанности государева наместника заключались в следующем: на основании законов он занимается благоустройством в наместничестве, причем «способ к удовольствию каждого законным образом от попечения генерал-губернаторов зависит»[161]. Наместник должен был следить за действиями судебных инстанций и в случае необходимости мог остановить приведение в исполнение приговора до вынесения решения сената по этому вопросу. Кроме того, наместник контролировал запасы продовольствия в своем регионе.
В приграничных губерниях (наместничествах) генерал-губернатор обязан был следить за мерами защиты вверенной ему территории, и в случае внешней угрозы, народных волнений и стихийных бедствий генерал-губернатор отдавал приказ военному командиру о применении должных мер. Если император поручал проведение военных операций другому военному начальнику, то наместник отвечал за снабжение войск всем необходимым.
Из-за неопределенности прав и обязанностей наместника, изложенных в указе 1775 г., надзор, задуманный императрицей, превратился в «личное» управление делами административного региона.
В 1781 г. императрица отступает от изначального плана отождествления губерний с наместничеством. Все созданные губернии, кроме Новороссийской, Малороссийской и Остзейских, соединялись по две и поручались надзору одного из наместников. Новороссийское наместничество первоначально занимало огромную территорию, в него входили Саратовская, Астраханская, Азовская и Новороссийская губернии. Во главе наместничества был поставлен Г.А. Потемкин (1739–1791)[162].
Пост генерал-губернатора в различных регионах империи занимали видные государственные деятели: П.А. Румянцев (1725–1796), А.П. Мельгунов (1722–1788), Я.М. Сиверс (1731–1808). Можно предположить, что при данных исторических обстоятельствах чрезвычайная власть, доверенная этим лицам, была полезна для государства.
Внутреннее управление вверенных наместникам территорий лежало на них. При этом указ «Учреждения для управления губерний» обозначал их деятельность лишь в целом, не указывая конкретных обязанностей. Таким образом, между губернскими учреждениями и центральной властью появилась посредническая инстанция в лице наместника.
Между тем в августе 1783 г. издается указ генерал-губернаторам, обязывающий последних дважды в месяц (1-го и 15-го числа) доставлять императору краткие донесения о «благополучном состоянии губерний, о их спокойствии и безопасности, уведомляя при этом о всех чрезвычайных, важных и «примечания достойных» происшествиях и получая такие же известия от городничих и нижних земских судов, для составления из оных требуемого ныне нами донесения»[163].
Следовательно, функции надзора подтверждались, но, с другой стороны, переписка наместников как раз говорит о наделении их обязанностями управляющих во вверенных им регионах. Между собой наместники общались как «полусуверенные государи»[164], то есть наместник превратился в управляющего внутренними и внешними делами подчинявшихся ему губерний.
Во время второй губернской реформы указом Павла I от 12 декабря 1796 г. «О новом разделении государства на губернии» наместничества (генерал-губернаторства) как повсеместные территориальные единицы были упразднены, но сохранены в столичных губерниях и на окраинах (в Финляндии, Западной и Восточной Сибири, Прибалтике, Оренбургском крае, Новороссии), где трудности связи с центром требовали расширения прав местной администрации[165]. Для этого генерал-губернаторы были снабжены исполнительными органами – канцеляриями генерал-губернатора: вначале, указом от 15 марта 1798 г., при петербургском, затем 25 июля 1798 г. при киевском и малороссийском генерал-губернаторах[166], а с начала XIX в. – повсеместно. В 1826 г. штаты и полномочия канцелярий генерал-губернаторов были существенно расширены[167].



