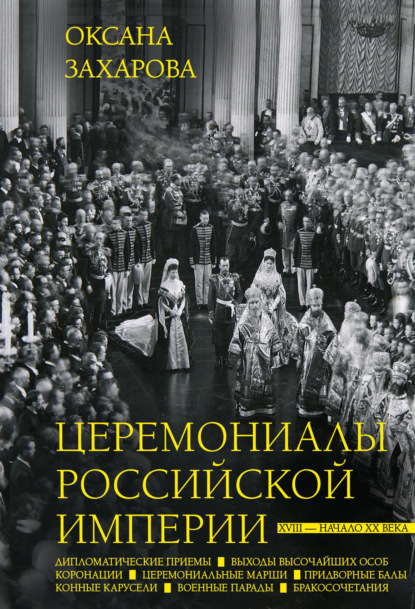
Полная версия:
Церемониалы Российской империи. XVIII – начало XX века
Депутат Шалье внес в Конвент проект постановления о республиканских формах вежливости, одежде, обычаях. «Республиканская вежливость, – говорилось в проекте, – вежливость самой природы»! Этим она противопоставлялась изысканной и условной вежливости аристократии. Шалье выступал против «преувеличенной, искусственной, чопорной учтивости, аристократической элегантности и церемониальности, которые культивировались тиранами для того, чтобы импонировать и властвовать»[61].
Этикет определяет внешние формы поведения и обращения с другими людьми – интонацию, тон, выражение речи, стиль кроя и украшение костюма. Совокупность всех этих свойств называется манерами[62]. Отношение к ним различно у различных социальных групп. Для аристократа благородное поведение означает принадлежность к «высшему свету», это знак исключительного положения в обществе в XVIII–XIX столетиях. Просветители XVIII столетия рассматривали этикет как средство власти. Он объединял европейское дворянство как главную социальную опору монархической власти.
В среде европейского дворянства XVIII – начала XX столетия существовал стиль жизни, получивший собственно название «этикет». Этикет как способ существования придворной публики и европейских монархов.
Одновременно с развитием и укреплением власти третьего сословия – буржуазии – этикет начинает приспосабливаться к изменившимся социальным условиям. Он перестает быть привилегией аристократов, которые, сохраняя знатность, теряют былое богатство и власть. Буржуазия стремится подражать в стиле жизни дворянскому сословию, при этом внешние формы преобладают над содержанием.
Лишь в XX столетии происходит демократизация этикета. Сам стиль жизни становится все более универсальным. Человек предстает в обществе:
– и как участник экономического процесса;
– и как участник политического процесса;
– и как член определенного профессионального сообщества;
– и как турист и т. д.[63]
В наше время европейский этикет потерял свой сословный характер. Выработались принципиально новые формы этикета, основанные: на профессиональных особенностях; на своеобразии тех или иных жизненных ситуаций; на специфичности некоторых сфер жизнедеятельности современного общества.
Человек – существо социальное, общение для него – важная часть жизни. Общаться можно «грамотно» и «безграмотно». Общение может стать стеной, разделяющей людей, либо, напротив, «величайшей роскошью бытия», как отмечал А. де Сент-Экзюпери.
И ритуал и этикет борются с социальным хаосом, но этикет при этом должен обеспечивать удобную эстетическую обстановку для партнеров в общении, ритуал же является выразителем основных нравственных понятий общества. Происходит постоянное и взаимное обогащение этикетного и ритуального общения, изучение последнего может помочь в познании истинного смысла истоков современных правил поведения.
Для эффективного и компетентного взаимоотношения с людьми в процессе профессиональной деятельности руководителю требуется обладать определенной культурой общения.
Государственные и военные церемониалы являются средствами организационной культуры, ее воспроизводства в условиях смены поколений руководителей и рядовых служащих.
Термином «организационная культура» охватывается большая область явлений духовной и материальной жизни коллектива: его моральные нормы и ценности; кодекс поведения и укоренившиеся ритуалы, манеры одеваться и т. д.
Адаптация работников к коллективу – это вхождение в организационную культуру, ее нормы, традиции, это подстройка личности к требованиям социальной структуры, что имеет своим следствием определенный воспитательный эффект[64].
Философия управления задает соответствующую культуру внутриорганизационных отношений. При этом особое внимание следует обращать на «создание и поддержание в коллективе позитивных (в социальном и психологическом плане) традиций», это могут быть церемонии приема новых сотрудников, проводов ветеранов, организация юбилеев и благотворительных акций. В данном случае одна из главных целей проведения церемониала – воспитание чувства гордости за организацию, уважение к ней и коллегам[65].
В каждой культуре, каждом обществе есть своего рода кодекс правил общения, который пронизывает практически все виды и официального, и неофициального взаимодействия. Чем больше потрясений в политической жизни государства, тем резче изменения в формах и бытовых условиях жизни и тем дальше отодвигаются от современных поколений прошедшие эпохи. «Современное общество легко и развязно отрекается от недавних еще законов жизни, с презрением и насмешкой машет рукой на прежний бытовой уклад и умышленно разрывает всякую связь с родным прошлым»[66] – эти слова Е.Н. Опочинина, прозвучавшие в 1909 г., удивительно созвучны сегодняшнему времени. Между тем, чтобы «осмотрительнее и вернее идти вперед, хорошо иногда припоминать, откуда идешь»[67].
Русский императорский двор как социально-политический институт власти
В настоящее время европейский этикет – явление достаточно однородное. Однако это единство возникло не сразу. Сначала этикетные формы носили отпечаток народных традиций, затем приобрели сословный характер.
Светский церемониал сравним с законченной по смыслу художественной фразой. Грамматика церемониала составлялась при дворе императора.
Особые правила, регламентирующие жизнь двора, начали складываться еще в Древнем Риме в период укрепления императорской власти. Византийский император Константин стал вводить иерархические отношения среди аристократии и ввел титулы. Соответственно рангу и титулу каждый придворный участвовал в церемониях, выполняя строго определенные функции[68].
В Средние века возник новый социальный институт – институт двора. Он представлял собой сообщество людей, зависимых от могущественной личности, одной из его функций было поддержание престижа монарха. При дворе помимо профессиональных качеств человек оценивался по своему вкладу в придворную культуру, важными составляющими которой являлись церемонии дипломатических приемов, турниры, охоты, балы. Рыцари, дипломаты, придворные художники имели свой социальный статус и свои строгие правила поведения[69].
Обратимся к Италии, где в XV столетии завершился важнейший переход от феодальных нравов к духу Нового времени.
Подробное описание двора итальянских правителей XVI столетия оставил известный итальянский писатель эпохи Возрождения Балтассар Кастильоне (1478–1529), состоявший на службе у герцога Урбинского Гвидо Убальдо и написавший четырехтомный трактат «Il Cortegiano» («Придворный»), в котором, помимо прочего, пересказал содержание бесед, происходивших на приемах в Урбино.
В роскошно убранных гостиных дворца герцога Урбинского, владевшего одной из лучших европейских библиотек, собрались известные люди своего времени: знаменитый поэт Бернардо Аккольти д’Ареццо, Джулиано Медичи и многие другие. «Двор был один из самых блестящих в Италии. Праздники, танцы, единоборство, турниры и беседы продолжались беспрерывно»[70]. На одном из собраний у герцогини каждый из приглашенных высказывался о том, какие, на его взгляд, качества необходимы кавалеру и даме для полного совершенства и какое воспитание «может лучше всего образовать душу и тело, не только по отношению к гражданским обязанностям, но и к приятностям светской жизни»[71].
От придворного эпохи Возрождения требовались знание литературы, греческого и латинского языков, умение слагать стихи, музицировать, рисовать, изящно танцевать и со вкусом одеваться. Но главными достоинствами для кавалера, как и во времена рыцарства, оставались воинские доблести, готовность совершить подвиг, – все остальные качества служили лишь их украшением.
Граф Балтассар Кастильоне писал около 1525 г.: «Французы и не знают другой заслуги, кроме воинской, а прочее не ставят ни во что; они не только не уважают науки, но даже гнушаются ею и считают всех ученых самыми ничтожными из людей; по их мнению, назвать кого-нибудь «клерком», грамотеем значило нанести ему высочайшее оскорбление»[72].
В период укрепления абсолютной монархии, в период, когда вместо сотен маленьких княжеств на территории Европы возникали и мужали крупные государства, менялся быт придворной жизни. Он уже – строго канонизированная, пышная, чопорная церемонность.
Примерно с XVI столетия этикет стал способом (а часто и смыслом) существования королевских дворов Европы. Абсолютизация монархической власти происходила в том числе и путем регламентации поведения подданных.
Одним из достоинств английской королевы Елизаветы I Тюдор было умение создать сильный, гибкий и послушный ей аппарат исполнителей. В письме лорду Берлионе она следующим образом объяснила, за что ценит его: «Я думаю о Вас так: Вас никогда нельзя подкупить никакими дарами. Вы всегда останетесь верны государству и, не считаясь с моими личными желаниями, всегда подадите мне тот совет, который сочтете лучшим»[73]. Сэра Бэкона отличала беспредельная верность королеве. Как-то в ответ на ее замечание, что его дом мал для него, Бэкон сказал: «Нет, мадам, это вы сделали меня слишком большим для моего дома»[74].
Как отмечал в своих очерках об Англии того времени историк В.В. Штокмар: «При дворе Елизаветы царила атмосфера галантности и авантюризма. В течение всего ее царствования королевский двор представлял собой арену соревнования молодых дворян, стремившихся снискать благосклонность и милость Елизаветы. Всякий, кто мог чем-либо отличиться – будь то пиратские подвиги на море и доблесть, элегантность костюма и красивая внешность, поэтический и музыкальный талант, мог рассчитывать на внимание королевы и карьеру… Королева любила пышные выезды, увеселительные прогулки и путешествия, навещая города и поместья вельмож, и всюду ее появление было поводом для блестящих празднеств, она благосклонно принимала подарки»[75].
В XVI столетии устанавливаются тесные дипломатические и торговые отношения между Россией и Англией. Взаимное сближение монархических дворов способствовало укреплению авторитета верховной власти России в Европе. Царь Иоанн Грозный состоял в личной переписке с Елизаветой I. Известно, что он ратовал не только за военный союз с Англией, но и стремился породниться с королевским домом, решив в 1582 г. жениться на Марии Гастингской, графине Голтингтонской. Однако брак не состоялся, царь получил отказ. Чтобы подсластить горькую пилюлю, Елизавета поручила послу передать Иоанну IV, что он может приехать в Англию в любое время, как приезжает в свои владения[76].
Русский царь не воспользовался приглашением английской королевы, но вскоре после бегства князя Курбского (в 1564 г.), он уехал из Москвы в Александровскую слободу и возвратился на царство с условием учредить опричнину для расправы с изменниками. «Это был особый двор, какой образовал себе царь, с особыми боярами, дворецким, казначеями и прочими управителями, дьяками, всякими приказными и дворовыми людьми, с целым придворным штатом. Летописец усиленно ударяет на это выражение «особый двор», на то, что царь приговорил все на этом дворе «учинити себе особно», – писал В.О. Ключевский[77].
Из служилых людей царь отобрал тысячу человек, которым за стенами Белого города были отведены улицы с несколькими слободами.
Все государство разделилось на две части – земщину и опричнину. Во главе первой – Боярская дума, во главе второй – царь, не отказавшийся от верховного руководства Боярской думой. Опричнина Иоанна Грозного была своеобразным уделом, который он выделил из земщины. Она получила значение своеобразного института полицейского надзора по вопросам государственной измены.
Среди титулованного боярства в XVI в. утвердился взгляд на свое политическое значение как на наследственное право, полученное независимо от государя. Такой взгляд облекался в тройную систему служебных отношений – местничества. Боярство боролось не только за военные должности, но и за места за государевым столом и во время придворных церемоний. Местничество мешало боярам сплотиться в единый политический класс, и если примерно до середины XV в. бояре шли в Москву за новыми служебными делами и выгодами, то теперь они стали классом с политическими притязаниями, с тайными и явными сожалениями ее отдельных представителей по поводу утраченного могущества.
В конце XVII столетия двор московского царя составляли так называемые столичные чины, на которых лежали разнообразные служебные обязанности. В официальных актах они назывались царедворцами, в отличие от «шляхетства всякого звания», то есть от городовых дворян и боярских детей. В мирное время столичное дворянство составляло свиту царя, исполняло различные придворные службы, выставляло из своей среды персонал центрального и местного управления. В военное время из него формировался собственный полк царя. За свою службу столичное дворянство получало повышенное, по сравнению с провинциальным, жалованье. Руководящая роль в управлении, обеспеченное материальное положение развивали привычку к власти, интерес к общественной жизни и познанию иноземного мира, отмечал В.О. Ключевский. «Сравнительно более гибкое и послушное столичное дворянство уже в тот век выставило и первых поборников западного влияния, подобных князю Хворостинину, Ордину-Нащокину, Ртищеву и др. Понятно, что при Петре этот класс должен был стать главным туземным орудием реформ»[78]. Ярким свидетельством особого положения царя в русском обществе является форма устных и письменных обращений к нему подданных.
Просьбы, подаваемые царю Алексею Михайловичу, подписывались уменьшительным именем – не Степан, а «Степка». Патриарх и прочее духовенство – «богомолец твой». Думные бояре, все дворяне и прочие воинские чины из народа – «холоп твой». Купцы первого разряда – «мужик твой». Купцы низшего разряда и иностранцы – «сирота твой». Деревенские жители – «крестьяне твои». Слуги думных бояр – «человек твой»[79].
От населения требовалось почтительное отношение к своему государю. Постепенно сложился образ царя-сверхчеловека, земного божества.
Царь Алексей Михайлович имел следующий титул: «Мы, Божию милостию, Великий Государь, царь и Великий Князь Алексей Михайлович, всея Великия, Малыя и Белыя России самодержец, Государь Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский, царь Казанский, царь Астраханский, царь Сибирский, Государь Псковский и Великий Князь Смоленский, Тверской, Угорский, Пермский, Вятский, Болгарский, Государь и Великий Князь Новгорода Нижнего, Черниговский, Рязанский, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удорский, Обдорский, Кондинский и всех Северных стран Повелитель, Государь Иверских, Карталинских и Грузинских князей, и многих других стран Восточных, Западных и Северных наследник от Отца и Деда, Государь и Повелитель»[80].
Атрибутом царской власти и российской государственности еще с Ивана III был герб – двуглавый орел. На государственной печати 1667 г. орел изображен под тремя коронами с державой и скипетром в лапах. На груди у него щиток с фигурой всадника на коне – старинный герб Московского княжества. Вокруг – написан полный титул царя Алексея Михайловича[81].
Титул играл важную роль в международных отношениях. Еще в 1489 г. в Москву приехал представитель императора Фридриха III Юрий Траханиот. От имени императора он предложил государю всея Руси корону Священной Римской империи. В своем ответе Иван III заявил, что не нуждается ни в чьем покровительстве, поскольку «прародители» его были в «братстве… и любви» с византийскими государями. Этот отказ имел принципиальное политическое значение. Русское государство подчеркивало свою полную независимость от империи. Ведь по стандартам Средневековья император – светский глава европейских государей. Короли Франции, Испании, Англии, Польши ниже его по рангу. «Отказ Ивана Васильевича от королевской короны означал его нежелание признать приоритет императора и поставить Русское государство хотя бы формально в подчиненное положение»[82].
Если в дипломатической переписке титул «великий князь» переводили как «принц» или «герцог», то слово «царь» либо не переводили вовсе, либо переводили как «император».
В 1721 г. по случаю окончания войны со Швецией сенат преподнес Петру I титул императора Всероссийского. Эта церемония состоялась в церкви Святой Троицы по окончании литургии и прочтении ратификации заключенного со Швецией мира. Архиепископ Псковский Феофан Прокопович в своей проповеди сказал, что «…государь заслужил название отца Отечества, Великого, Императора…»[83]. Вслед за этим весь сенат приблизился к Петру Алексеевичу и государственный канцлер Г.И. Головкин просил от лица сословий принять в знак их верноподданнической благодарности титул Отца Отечествия, императора Всероссийского Петра Великого. Церемония завершилась при звуках труб и литавр, после чего началась пальба из всех пушек крепости, адмиралтейства и ста пятидесяти галер, прибывших накануне и расставленных на реке против Сената. В то же время загремел беглый огонь двадцати семи полков в составе 27 тысяч человек, возвратившихся из Финляндии.
Императорский титул ставил русского государя равным с единственным тогда императором Священной Римской империи германской нации, что вызвало протест многих европейских государств. Новый титул первыми признали Венеция (1721 г.), Пруссия, Голландия и Швеция (1722 г.), за ними последовали Англия и Германская империя (тоже 1722 г.), Турция (1739 г.), Франция, Испания и, наконец, Польша.
Как и русские цари, император имел весьма громкий полный титул. Так, согласно указу[84] от 1721 г., в грамотах в иностранные государства император имел следующий титул: «Божиею поспешествующего милостию мы, Петр Первый, император и самодержец Всероссийский, Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский, царь Казанский, царь Астраханский, царь Сибирский, государь Псковский и Великий князь Смоленский, князь Эстляндский, Лифляндский, Карельский, Тверской, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных, государь и Великий князь Новгорода Низовские земли, Черниговский, Рязанский, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удорский, Обдорский, Кондийский и всея Северныя страны повелитель и государь Иверские земли, Картлинских, и Грузинских царей и Кабардинские земли, Черкасских и Горских князей и иных, наследник государь и обладатель».
В грамотах внутри государства император имел следующий титул: «Божиею милостию мы, Петр Первый, император и самодержец Всероссийский». В указах из сената и коллегий: «Указ его величества императора и самодержца Всероссийского» из сената (или из коллегий).
В челобитных и в отписках: «Всепресветлейший, державнейший, император и самодержец Всероссийский, Петр Первый, Отец Отечества, государь всемилостивейший. В средине пред прошением: Всемилостивейший государь, прошу Вашего Императорского Величества. Во окончании: Вашего Императорского Величества нижайший раб имярек». В приговорах: «По указу Его Императорского Величества». В паспортах: «По указу Его Величества Петра Великого, императора и самодержца Всероссийского и прочая, и прочая, и прочая»[85].
На протяжении XVIII–XIX вв. титул все более усложнялся, включал в себя названия всех вновь присоединенных к России территорий. Государь Александр III именовался: «Божиею споспешествующего милостию мы, Александр III, Император и самодержец Всероссийский, Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский, царь Казанский, царь Астраханский, царь Херсонеса Таврического, царь Грузинский, государь Псковский и Великий Князь Смоленский, Литовский, Волынский, Подольский и Финляндский, князь Эстляндский, Лифляндский, Курляндский и Семигальский… и всея Северныя страны повелитель, и государь Иверский, Картлинския и Кабардинския земли и области Арменския, Черкасских и горских князей и иных, наследный государь и обладатель, наследник Норвежский, герцог Шлезвигголстинский, Сторманский, Дитмарсенский и Ольденбургский и проч. и проч.»[86]. Титулу соответствовал герб императора.
В 1856 г. Александр II утвердил рисунки большого, среднего и малого государственных гербов, а 11 апреля 1857 г. опубликовано подробное описание. В них были внесены ряд нововведений. Если в царствование Николая I в большинстве случаев крылья орла были широко распростерты, то теперь подняты. Существенное новшество было внесено в саму гербовую фигуру, а именно поворот святого Георгия Победоносца в правую (геральдически) сторону, и тем изменено положение его влево. Тогда же утверждены были и многочисленные рисунки гербов для всех членов императорского дома[87].
По мнению крупных специалистов-гербоведов начала XX в. В.К. Лукомского и барона Н.А. Типольта: «…в характере этих гербов усматривается значительный поворот в сторону заимствования приемов немецкой теории геральдии и… довольно схоластичной в своих крайних требованиях и еще более, к сожалению, безвкусной в очертаниях самого рисунка»[88].
В центре герба императора, учрежденного в 1856 г., двуглавый орел под тремя коронами. На груди орла, в щитке, изображен старинный «герб московский» – святой Георгий, поражающий дракона. Двуглавый орел помещен на большом желтом щите, который поддерживают архангелы Михаил и Гавриил. Фон щита – императорская мантия, увенчанная шлемом святого Александра Невского. Над шлемом возвышается императорская корона. Вокруг всей композиции расположены эмблемы царств Казанского, Астраханского, Сибирского, Грузинского и т. д. Некоторые эмблемы увенчаны соответствующими царскими венцами и коронами. Из всех государственных регалий флаг – наиболее наглядная и неприкосновенная эмблема.
В то время как государственная печать прикладывается к самым разнообразным актам, герб фигурирует в печатях правительственных учреждений. Флаг имеет одно лишь назначение – представлять свое государство за его пределами, охранять своих граждан и его владения. В символическом значении избранных для флага цветов заключается одна из главных его символик – быть эмблемой государства, быть может, даже более сильной, чем герб. Создание флага свидетельствует об укреплении данного государства. У императора был собственный флаг-штандарт – золотое полотнище с вышитым черным двуглавым орлом. В основание применения этих цветов были положены цвета российского герба – черного орла в золотом поле, заимствованного Иоанном III из Византии и впервые примененного на печати царя 1497 г. В доказательство значения черного цвета как государственного для России исследователи ХХ в. ссылались на черное знамя Дмитрия Донского в Куликовской битве, на черный воск официальных печатей до времени образования Московского государства, на частный русский коммерческий флаг, учрежденный Петром I в 1693 г., «по гербу Российского царствия»[89], из белой тафты с черным двуглавым орлом, держащим золотые скипетр и державу. Сюда же присоединяли и установленные им же кокарды «по Российскому гербу»[90], белого с черным и оранжевым цветами, и на такое же установление Александра I.
Члены российского императорского дома имели право на особые титулы, гербы и содержание[91]. У наследника и его супруги были собственные флаги, им отдавались военные и морские почести. Вдовствующая императрица сохраняла преимущества, которыми пользовалась при жизни супруга.
Российский императорский дом – это учреждение, состоящее из членов императорской фамилии, которое было законодательно оформлено указом Павла I от 5 апреля 1797 г.[92] В 1886 г. число членов российского императорского дома было ограничено внуками императора в мужском поколении. Члены императорского дома составляли особую сословную группу, отличавшуюся тем, что могли быть при определенных условиях призваны на престол или вступить в брак с лицами, имевшими на это право. Права и преимущества передавались только по мужской линии. Старший из императорских сыновей носил звание цесаревича. Лишь однажды это правило было нарушено: второму сыну Павла I, великому князю Константину, за храбрость, проявленную во время швейцарского похода А.В. Суворова, отец пожаловал титул цесаревича.
Своих ближайших помощников российские императоры зачастую выбирали из людей незнатного происхождения либо из иностранцев, которых привлекали на службу. Так, при Петре I президентом Военной коллегии был генерал-фельдмаршал светлейший князь А.Д. Меншиков, генерал-прокурором П.Я. Ягужинский, вице-канцлером барон П.П. Шафиров и другие. Для возвышения своих сподвижников Петр I добился от германского императора присвоения им титулов князей и графов Римской империи, учредил на Руси титулы графа и барона. Но среди его приближенных было много представителей старинной знати – Б.П. Шереметев, ставший графом и генерал-фельдмаршалом, князья Дмитрий и Михаил Голицыны, Я.Ф. Долгоруков и Н.И. Репнин, Ф.А. Головин и другие.
Идея разделения служилых людей на категории в зависимости от их достоинств, выслуги лет и занимаемой должности родилась в царствование Федора Алексеевича (1676–1682). Одновременно с отменой местничества московские дьяки разработали проект устава о служебном старшинстве бояр, окольничих и других думных людей по 34 статьям, стремясь создать отвечающую времени административную систему государственной службы. Но в связи с кончиной Федора Алексеевича проект не был осуществлен и к 1696 г. – году единоличного воцарения Петра I – в бояре и окольничьи производили по знатности, а не по заслугам.



