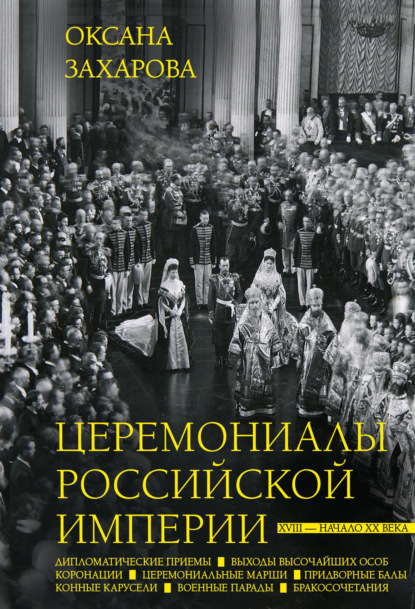
Полная версия:
Церемониалы Российской империи. XVIII – начало XX века
Наконец, Лотман противопоставляет бал маскараду. Однако последний является игровым действом, это скорее театральное представление, в котором в отличие от бала стирался социальный статус партнеров по общению. При этом костюмированные балы и рыцарские карусели носили четко определенный знаковый смысл, являясь отражением определенных нравственных принципов правящего класса.
Книга американского историка Ричарда Уортмана «Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии» (Т. 1. М., 2002) посвящена символике придворных ритуалов от Петра I до конца правления Николая I. Отдавая дань уважения большой работе по изучению русской истории, проведенной автором, нельзя согласиться с целым рядом его утверждений.
Так, Р. Уортман считает, что императорский двор был ареной непрекращающегося театрального действа. Однако это не театр, а социально-политический институт власти. Российское общество можно назвать «агрокультурным», то есть горизонтально организованным, в котором привилегированные группы стремятся максимально дистанцироваться от низших классов. Но это утверждение противоречит другому заявлению: «двор – олицетворение нации». Не может быть олицетворением нации ни двор, ни плац-парад. Трудно представить нацию, у которой вместо лица – площадь для военных парадов и смотров.
Многочисленные источники, и прежде всего законодательные акты, свидетельствуют, что в Российской империи была наиболее развита именно вертикаль власти, поэтому заявление об «агрокультурном» типе русского общества весьма сомнительно. Нельзя согласиться также с мнением ученого, что русские дворяне были далеки от народа. Большую часть времени дворянство проживало в усадьбах. Усадьба не только кормила дворянина, она объединяла культурную жизнь различных сословий. В результате этого единства появились выдающиеся произведения русской поэзии, литературы, живописи, музыки, соединившие в себе лучшие элементы национальной и западной культуры.
Армия также не была изолирована от народа. В Петербурге размещалась лишь гвардия, тогда как большая часть армейских полков была расквартирована в различных регионах империи.
У Уортмана постоянно прослеживается идея о том, что самим возникновением Русское государство обязано Западу, даже слово «Русь» – подарок западной цивилизации.
Для опровержения заявления Р. Уортмана достаточно вспомнить историю правления Лжедмитрия I. Его попытки введения при дворе западных ритуалов завершились крахом. Стремление подражать европейским нормам, пренебрегая русскими традициями, встречало протест большей части российского общества. А.В. Суворов так сформулировал свое отношение к решению Павла I внедрить в армии прусские порядки: «Пудра не порох, букли не пушки, коса не тесак, а я не немец, а природный русак!» Говоря о восстании декабристов, автор утверждает: «Акт насилия был совершен Николаем ради династии». Конечно, император спасал от уничтожения и близких ему людей, но для русского человека XIX в. «вера», «государь», «Отечество» – понятия неразделимые, и уничтожение династии он воспринимал как уничтожение государства.
Читая труд Уортмана, невольно приходишь к выводу, что основная идея исследования заключается в следующем: для русских императоров главное в управлении – не забота о благе империи, а личное благополучие, желание любыми средствами, в том числе с помощью церемоний, удержаться на троне. Власть ради власти? Можно ли подвести под этот общий знаменатель всех российских монархов XVIII–XIX вв.? Конечно нет.
Продолжая традиции немецкого социолога Н. Элиаса[33], описавшего как систему придворное общество XVII–XVIII вв., Анна Мартен-Фюжье в своей книге[34] ставит цель описать таким же образом светское общество первой половины XIX в., исследовать его «sociabilitè»[35]. Используя богатейший материал, автор создает исторический и социологический портрет «всего Парижа» – нового светского общества середины XIX в. Анне Мартен-Фюжье принадлежит глава о «Ритуалах частной жизни буржуа» в коллективном труде «История частной жизни»[36].
Подводя итоги краткому историографическому обзору, следует сказать, что тема светских церемониалов освещалась дореволюционными и советскими исследователями весьма фрагментарно и недостаточно основательно. Давно назрела необходимость специального исследования, посвященного комплексному изучению проблемы светских церемоний как социально-культурного явления в жизни русского дворянства XVIII – начала XX в.
Хронологические рамки исследования охватывают XVIII – начало XX в. Начальная хронологическая грань обусловлена тем, что XVIII в. открывает новый, имперский период в истории России, когда шел процесс европеизации аппарата управления, изменялись старые и появлялись новые формы государственного церемониала, развивалась элитарная дворянская культура. Конечной хронологической гранью исследования является 1917 г., ознаменовавший крушение монархии в России и начало нового этапа отечественной истории.
С учетом отсутствия в отечественной историографии специального исследования, посвященного проблеме, автор поставил цель – на основе анализа и обобщения новых фактов с привлечением впервые вводимых в научный оборот архивных документов и других источников провести всестороннее комплексное исследование использования государственных и военных церемоний в системе управления Российской империи, изучение их роли в социальной и культурной жизни общества XVIII – начала XX в.
В соответствии с целевой установкой возникает необходимость решения следующих задач:
– проанализировать содержание понятия «церемониал»;
– выяснить место и роль членов императорского двора в системе государственного управления Российской империи XVIII – начала XX в.;
– показать влияние представителей местных органов власти на порядок проведения государственных церемоний;
– исследовать функциональную роль государственных и военных церемоний в системе управления;
– восстановить «грамматику» светских церемоний, изучить диалектику их развития[37].
Источниковая база исследования включает в себя две большие группы материалов: документальные публикации и архивные материалы.
Все придворные события фиксировались в своеобразном дневнике дворцовой жизни, рукописном церемониальном журнале. Возникший еще в 1695 г. как «Походный журнал» Петра I, он на протяжении последующих десятилетий несколько раз менял названия: «Журнал Камер-Фурьерский», «Журнал придворной конторы на знатные при Дворе ее имп. в оказии», «Церемониальный журнал» и др. В конце XIX – начале XX столетия он был опубликован[38].
Журналы велись в трех экземплярах. Один каждое утро клался на письменный стол императора в запечатанном конверте, второй, также запечатанный, посылали к министру двора, третий же хранился в особом железном ящике у камер-фурьера. Они считались весьма секретными. Журналы повествуют не только о событиях, происходивших при дворе, они передают саму атмосферу придворной жизни.
Опубликованные документы можно разделить на несколько комплексов источников. Прежде всего это различные сборники нормативно-правовых актов.
В Полном собрании законов Российской империи содержится большой свод законодательных документов верховной власти, изменивших стиль жизни дворянского сословия[39].
Документы, характеризующие деятельность Министерства императорского двора и Департамента уделов, представлены в целом ряде сборников, издававшихся в XIX – начале XX столетия: «Положение об управлении императорским Зимним его императорского величества дворцом» (СПб., 1840); «Материалы о городах придворного ведомства. Город Петергоф» (СПб., 1882); «Общий архив Министерства императорского Двора» (Т. 1 и Т. 2. СПб., 1888); «Сборник узаконений, правил и распоряжений по кассе Министерства императорского Двора» (СПб., 1903) и др.
Следующий комплекс опубликованных источников включает в себя документы личного происхождения (воспоминания, дневники, письма).
Записки, воспоминания, дневники путешествий иностранцев, посетивших Россию, составляют целую библиотеку, на страницах которых отражена религия, культура, политика, экономика, быт и нравы Российской империи. Сборник «Россия XVIII в. глазами иностранцев»[40] хронологически является продолжением вышедшей в 1986 г. книги «Россия XV–XVII веков глазами иностранцев». В него вошли документальные рассказы К. де Бруина; герцога Лирийского; К.-К. Рюльера; Л.-Ф. Сегюра; П.С. Палласа о путешествиях в Москву, Петербург, по Сибири, по Волге и т. д.
Среди авторов сборника «Русский быт по воспоминаниям современников. XVIII век»[41] видные военные и государственные деятели, известные литераторы и ученые, иностранные дипломаты и путешественники: Г.Р. Державин; А.Р. Воронцов; А.Г. Орлов; Ф.Ф. Вигель; А.Н. Радищев; К.Д. Бруин; Дж. Перри; Ф. Берхгольц; И. де ла Шетарди и другие.
Воспоминания А.Е. Лабзиной, В.И. Головиной и Е.А. Сабанеевой[42] охватывают один из ярких периодов русской истории – от начала царствования Екатерины II до восстания декабристов. На страницах книги представлены бытовые картины придворной и провинциальной жизни. Среди действующих лиц: Екатерина II, Павел I, Александр I, придворные чины и провинциальные жители.
В сборник «От первого лица»[43] вошли свидетельства очевидцев участников переломных для России событий на рубеже двух эпох, двух миров – в дни Февральской и Октябрьской революций, в пору Гражданской войны. В сборник включены отрывки из дневников императора Николая II и участника Первой мировой войны, командующего одним из корпусов Северного фронта осенью 1917 г. барона А.П. Будберга, мемуары министра юстиции временного правительства П.Н. Малянтовича и руководителей Белого движения генералов П.Н. Врангеля, А.И. Деникина, П.Н. Краснова, протоколы допросов адмирала А.В. Колчака.
Мемуары князей Трубецких – хроника одного из старинных родов России[44]. Воспоминания дают представление о нравственной, общественной, семейной жизни дворянского сословия от середины XIX в. до революционных событий XX в. Младший сын философа князя С.Н. Трубецкого, Владимир, возродил прерванную семейную традицию службы в гвардии. «Записки кирасира» В.С. Трубецкого повествуют о довоенной жизни гвардейского офицера. Написанная прекрасным русским языком, это одна из редких книг, в которой глубина содержания и легкость изложения не исключают друг друга.
Род Трубецких подарил русской истории восемь полководцев, трех фельдмаршалов, десять генералов, двух адмиралов, шесть министров, десять сенаторов, семь членов Государственного совета, двух философов, скульптора. Этот список можно продолжить. После революции главная трагедия семьи заключалась не столько в материальных лишениях и физических страданиях, сколько в невозможности в полной мере служить России, в уничтожении русских православных традиций.
В своем письме князю Д. Оболенскому князь П.А. Вяземский писал: «Надо уметь ловить и постигать историю, т. е. смысл минувшего, и в частных и легких очерках его»[45]. Под «частными и легкими очерками» прошлого Вяземский подразумевал семейные предания, письма, записки. В них, по словам того же автора, «прошедшее передается читателю… с теми живыми подробностями и мелочами, с помощью которых легко познается общий дух и характер эпохи»[46].
Немало интересных воспоминаний содержится в периодических изданиях: «Русский архив» (РА); «Старина и Новизна» (С и Н); «Русская старина» (РС); «Старые годы» (СГ) и других.
Специально изданные справочные указатели к журналам весьма неполно отражают информацию, имеющую отношение к теме. Поэтому пришлось изучать содержание журналов за все время их существования.
Из материалов, опубликованных в журналах, следует также назвать: воспоминания М.П. Щербинина (РА 1876 (II)); воспоминания графа М.В. Толстого (РА 1881. Кн. III); воспоминания А.П. Бутенева (РА 1881. Кн. III); записки М.Д. Бутурлина (РА 1897. Кн. II); воспоминания князя Дондукова-Корсакова (С и Н 1903. Кн. 6).
Весьма важные сведения о мировоззрении, традициях воспитания и образования, образе жизни русского дворянства содержатся в отдельно изданных воспоминаниях Е.П. Яньковой; Шаузель Гуффье; С.П. Жихарева; А.П. Глушковского; М.А. Дмитриева; С.М. Волконского; Е.А. Сушковой; М.Ф. Каменской; А.А. Олениной; А.О. Смирновой-Россет; А.Ф. Тютчевой; А.А. Толстой; В.А. Соллогуба; К.М. Веригина; А.А. Мосолова, великого князя Гавриила Константиновича, С.Д. Шереметева и других[47].
Эпистолярное наследие целого ряда военных, государственных деятелей, членов императорского дома, представителей аристократии и мелкопоместного дворянства, других современников XVIII и XX вв. позволяет нам проникнуть в самую сердцевину духовной жизни прошлого, переписка возникает в определенной социокультурной среде и отражает уровень эпистолярной культуры, взгляды и индивидуальные качества авторов.
Переписка девятнадцатилетнего наследника престола великого князя Александра Николаевича (будущего Александра II) с отцом – Николаем I во время путешествия по России в 1837 г. позволяет полнее представить личности как юного цесаревича, так и самого монарха, увидеть Россию 30-х гг. XIX в., ее обитателей различных сословий и званий. «Венчание с Россией», как назвал это путешествие В.А. Жуковский, оставило заметный след в жизни Александра II и отразилось на его царствовании[48].
Эпистолярное наследие М.С. Воронцова и членов его семьи включает переписку целого ряда военных и государственных деятелей конца XVIII – первой половине XIX столетия: императора Николая I; П.Д. Цицианова; Д.В. Арсеньева; С.Н. Марина; А.П. Ермолова; А.Х. Бенкендорфа; И.В. Сабанеева, Д.Н. Блудова; К.В. Нессельроде; А.И. Левшина; А.П. Бутенева; П.Д. Киселева; С.Я. Сафонова; С.С. Уварова; П.И. Николаи; А.А. Закревского.
В этой переписке содержится весьма важная информация о политических, культурных событиях своего времени.
Практически все материалы, содержащиеся в «Архиве князя Воронцова»[49], опубликованы на французском языке и в переводе на русский не переиздавались. Автором были выполнены все необходимые переводы. Потребовалась также значительная поисковая и комментаторская работа, так как большинство материалов дано без каких-либо объяснений в отношении фамилий, географических названий и т. д.
Человек общительный, один из образованнейших людей своего времени московский почт-директор А.Я. Булгаков был дружен со многими выдающимися деятелями: М.С. Воронцовым; П.А. Вяземским; А.А. Закревским и другими. А.Я. Булгаков являлся для Москвы своеобразной «живой газетой». В его обширной переписке, по словам Вяземского, отразились «весь быт, все движение государственное и общежительное, события, слухи, дела и сплетни, учреждения и лица с верностью и живостью»[50]. Обширная переписка братьев Булгаковых, изданная в «Русском архиве»[51], является богатой хроникой русского общества XIX в.
Со дня вступления в 1832 г. А.С. Шереметевой в должность фрейлины к ее величеству государыне императрице она подробно и часто писала родителям. Письма были опубликованы ее сыном графом С.Д. Шереметевым в первом выпуске второго тома «Архива села Михайловского» (СПб., 1902) и содержат важные сведения о придворной жизни 30-х гг. XIX в.
Наряду с письменными большую ценность представляют иллюстрированные источники. В 1810 г. П. Бекетовым была издана в Москве рукопись, описывающая бракосочетание царя Михаила Федоровича с Е.Л. Стрешневой. На нескольких десятках (65) рисунков изображены картины бесчисленных церемоний и обрядов, как духовного, так и светского характера – картины шествия в церковь, венчания, брачного стола, проводов молодых в опочивальню.
Сцены балов и других светских церемоний нашли свое заметное отражение в творчестве целого ряда русских художников XVIII–XIX столетия: И.Ф. Зубова, А.С. Мартынова, Г.Г. Гагарина, Я.П. де-Бальмена и других.
В 1913 г. в Санкт-Петербурге состоялась выставка «Придворная жизнь 1613–1913 гг.», организованная «Кружком любителей русских изящных изданий». Целый ряд портретов, гравюр и литографий из музеев и частных собраний Н.В. Соловьева, П.В. Кухарского, Е.Н. Тевяшова и других коллекционеров давал довольно полную картину придворной жизни XVII–XIX столетий. Художественные летописцы двора зарисовывали сценки придворных балов и других церемоний в Эрмитаже, Зимнем дворце, летних резиденциях, сценки, дающие нам представление об этих празднествах, великолепие которых потрясало воображение иностранцев. К этой эпохе относятся на выставке несколько редких листов, например: гравюра по картине Horace Vernet, изображающая карусель 23 мая 1842 г. в Александровском парке Царского Села; литография А. Козлова, изображающая императора Николая I в своем кабинете в Зимнем дворце; редкая литография А. Василевского по рисунку П. Соколова, на которой императрица Александра Федоровна представлена вместе с великой княжной Марией Николаевной в период их пребывания в Одессе. Из многочисленных работ Зичи на выставке находились три рисунка, относящиеся к коронации императора Александра II (1857). Один изображает торжественную процессию, другие два – балы в залах Зимнего дворца и Дворянского собрания.
В специальном каталоге, изданном в Санкт-Петербурге в 1913 г., были опубликованы несколько работ, находившихся на выставке: «Прогулка Петра I и Екатерины Алексеевны», «Фейерверк 1 января 1760 г.», «Прогулка Екатерины II в Царском Селе», «Парад перед Зимним дворцом 1799 г.», «Обед на коронации императора Александра II» и др.
В некоторых дореволюционных периодических изданиях, например в журнале «Всемирная иллюстрация», описание светских церемониалов сопровождалось соответствующими гравюрами с их изображениями.
Иллюстрированный материал не только дополняет письменные источники, но и помогает детально изучить, лучше понять саму атмосферу ритуала.
Для полноты освещения проблемы необходимо было использовать архивные материалы.
В настоящее время в российских и зарубежных архивах не существует единого фонда с документами о деятельности генерал-губернаторов. Дела генерал-губернаторов разбросаны по различным фондам архивохранилищ Санкт-Петербурга, Москвы и других городов.
В Центральном государственном историческом архиве УССР в Киеве находятся материалы канцелярии киевского, подольского и волынского генерал-губернатора (Ф. 442), в частности циркуляры министерства внутренних дел (Ф. 442068. Д. 369) и циркуляры киевского, подольского и волынского генерал-губернатора Д.Г. Бибикова за 1839 г. (Ф. 442072. Д. 444).
В отделе письменных источников Государственного исторического музея находятся отчеты, доклады, инструкции на имя Д.Г. Бибикова; общее обозрение по Киевской, Подольской и Волынской губерниям и другие материалы из канцелярии генерал-губернатора (1837–1839).
В Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ) содержится целый ряд документов, свидетельствующих о важном значении придворных церемоний в политической, международной, культурной жизни общества[52].
Подробности проведения отдельных церемониалов отражены в следующих документах ГАРФ: Список лиц, имеющих «счастье представиться Ея Величеству императрице Марии Александровне во время бала в Зимнем дворце 27 января [1877 г. ]»[53]; «Гардеробная книга с записями формы одежды императора Николая II за 1897–1900 гг.»[54] и других материалах.
В архиве хранятся также ноты музыкальных произведений, написанных по случаю важных событий в жизни императорского дома времен Александра II, подаренных Александру III и посвященных великому князю Николаю Александровичу[55].
Таким образом, архивные материалы существенно дополнили, а в ряде случаев впервые позволили воссоздать важные события социальной и культурной жизни России XVIII – начала XX в.
Обилие и многообразие фактического материала, опубликованного и неопубликованного, выдвигало перед автором ряд задач источниковедческого, структурного и, прежде всего, методологического характера.
Последние связаны с темой исследования, в центре которого – общая проблема взаимоотношения государства и личности; рассмотрение социологии культуры дворянского сословия – личной культуры его представителей и культуры общества. Обе культуры устанавливают синтез ценностей, вырабатывают систему средств удовлетворения потребностей и интересов. Культура в целом выступает как социальный институт.
Культурные процессы представляют собой сложные и многоплановые явления, и они могут быть исследованы разными методами. Поэтому в настоящее время существует множество концепций культуры, каждая из которых по-своему объясняет и систематизирует культурные процессы. С помощью термина культуры можно дать характеристику той или иной эпохи, тому или иному народу, той или иной сфере жизни.
Одним из определений «культуры» философского типа является точка зрения, что культура – это выражение общества в формах литературы, искусства или мышления.
Социологическое направление рассматривает культуру как систему символов, разделяемых группой людей и передаваемых ею следующим поколениям; как систему верований, ценностей и норм поведения, которые организуют социальные связи, и, наконец, как организацию вещей и явлений, основанных на символах, убеждениях, языке, обычаях и т. п.
«Внешность, т. е. одежда, пища, жилище, все это – части немого языка культуры, который говорит тем красноречивее, чем резче противоречит окружающей внешности. Завоевать право на такое открытое противоречие, значит очистить путь новой идее, новому социальному факту, преодолеть важное препятствие для его вступления в жизнь»[56], – писал П.Н. Милюков. Соперничество в приобщении к новому стилю жизни было своего рода местничеством, в котором, однако, побеждали не самые родовитые.
Обычай – это определенный порядок поведения людей в обществе[57]. Обычай складывается в процессе развития социальной жизни, которая, несмотря на многообразие и сложность, характеризуется повторяемостью сходных ситуаций. В самом широком смысле слова к «обычаям» относятся формы общественно-политической деятельности и способы труда, формы семейно-брачной жизни, взаимоотношения в быту и т. д.
Обычай – это стихийно передающиеся действия от коллектива к личности, от одного поколения к другому. К обычаям нельзя относить нормы, исполнение которых поддерживается государством. Обычай – это элемент принятого в обществе образа жизни. При развитии общества происходит борьба старых и новых обычаев. Обычай, отличающийся особой устойчивостью и сохраненный благодаря усилиям людей поддерживать унаследованные от предыдущих поколений формы поведения, является традицией. Для традиции характерно внимание не только к внешним формам поведения, но и к его внутреннему содержанию. Когда форма поведения начинает контролироваться правовыми актами, она становится церемониалом, призванным поддерживать гармоническую связь между поколениями в рамках конкретного народа, социальной группы, исторической общности[58].
Церемониал – это некий культурный посыл одной социальной группы людей. Основная идея поведения, внутренний смысл светского церемониала заложен в церковных ритуалах, а внешние формы проведения могут быть заимствованы из традиций повседневной светской жизни.
«Ролевая структура коммуникативной ситуации в традиционной культуре имеет определенную специфику. Во-первых, человек всегда ведет себя с учетом того, что за ним наблюдают некие высшие силы, причем и ритуал, и этикетная ситуация могут быть организованы таким образом, чтобы обеспечить непосредственное участие этих сил. В целом ряде случаев один из партнеров выступает от лица Бога, умерших родственников, хозяев иного мира и т. п. Соответственно вербальные и поведенческие тексты, которые им порождаются, как бы исходят не от него лично, а от тех высших сил, представителем которых он является»[59].
В семиотическом аспекте этикет представляет собой определенную систему знаков, свой словарь – набор символов и грамматику – правила сочетания знаков и построения текстов.
Но в отличие от ритуалов, этикет имеет ярко выраженный ситуативный характер, специфика ситуации диктует выбор знаков общения. Участники ритуального общения ведут себя в соответствии со своим социальным статусом. Во время ритуала человек является прежде всего представителем класса, общественной группы, его социально-общественное положение диктует язык ритуального поведения со стороны его коммуникативных партнеров в общении. Нарушение этих правил – вызов общественной морали, подрыв нравственных устоев сообщества, что в свою очередь создает критическую революционную ситуацию.
Если в государстве происходит смена формы правления, то новые власти начинают вводить новые ритуалы.
Великая французская революция внесла свою лепту в дело «преобразования нравов». В это время искоренялись старые нормы взаимоотношений между людьми. Головной убор гражданин должен был снимать лишь при произнесении публичной речи или когда было жарко. В письмах следовало писать не «ваш покорный раб, слуга» и т. п., а «ваш согражданин, брат, друг, товарищ и т. п.». Вместо обращения на «вы» декретом от 8 ноября 1793 г. было введено обращение на «ты»[60].



