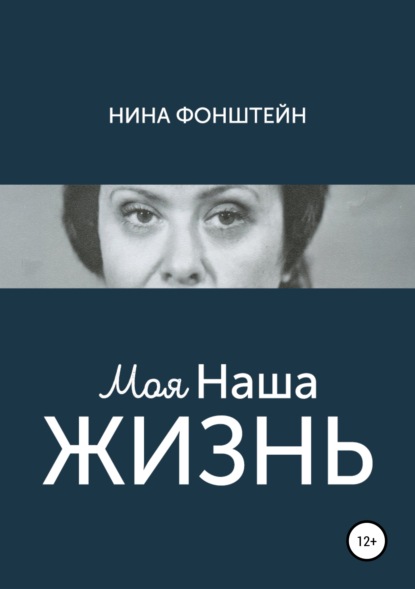 Полная версия
Полная версияМоя Наша жизнь
Двери в дома не закрывались, что однажды почти массово привело к необычно высоким счетам за международные телефонные разговоры. Не сразу выяснилось, что открытые дома в рабочие часы посещали сметливые волонтеры российского происхождения.
В выходные мы ездили в разные точки Израиля, навещая недавно уехавших коллег – Мишу Дробинского, Борю Бейлина, Борю Фельдмана, Борю Бронфина и давно уехавшего сокурсника и близкого друга Леву Брутмана. Кибуц возвращал нам стоимость автобусных билетов.
Хотя кибуц был расположен близко к границам: «А из нашего окна Иордания видна, а из вашего окошка только Сирии немножко», и нас предупреждали о наличии иногда заметных мин вдоль границы с Иорданией, в целом обстановка была спокойная. Во время поездок на границе с Ливаном Юре даже дали подержать автомат и с ним сфотографироваться.
Зато в рабочие дни я сидела рядом с Юрой и переводила на английский подготовленное им вчера. Я опять была в своей тарелке: оговорила с «Магмой» общее оглавление, отдельные разделы. У Юры с собой была бездна литературы и его собственных публикаций, чтобы охватить все намеченное.

Новыми членами кибуца принимали в основном молодых, чтобы они успели заслужить (выслужить) те замечательные условия, в которых находились старики.
Через недели три меня (как говорящего члена семьи, поскольку Юра не очень любит говорить и по-русски) пригласили на правление кибуца и предложили нам остаться либо в качестве членов кибуца (это была действительно большая честь), либо как внешним сотрудникам с зарплатой в 2000 шекелей. Я огорчила их нашим отказом.
В Гешере было несколько изумительно светлых стариков, внесших вклад в строительство Израиля, и кибуцу хотелось привлечь более молодых интересных для молодежи людей (они явно реагировали на мой титул профессора).
Мы по-прежнему восторгались природой Гешера, который, как и другие кибуцы, создавал впечатление, что их намеренно располагают в оазисах, поскольку было трудно поверить, что весь этот город-сад создан человеческими руками, а соседствующие пустынные районы с арабским населением – то, с чего они начинали.
Однако к этому времени я видела уже и недостатки. кибуца: уравниловка, «социалистическая» бюрократия: предварительная запись на пользование общественными автомобилями, регламентированное и обязательное для всего кибуца время еды, ограниченные возможности поездок за рубеж. В нашем случае критически важным было, что в Москве оставались Валя с Толей, а Миша с детьми был в США. Зарплаты в 2000 шекелей было тоже недостаточно, чтобы жить, как нам бы хотелось.
Члены правления долго убеждали меня, что я недооцениваю их предложение, но закончили тем, что Юра и по возвращении в Москву будет помогать «Магме» как их представитель. Юре (он вернулся в начале апреля) вручили старенький с роликовой фотобумагой факс, первый, увиденный нами, который служил еще пару лет. Важнее было, что он привез нашу зарплату, включая и мой вклад за тот месяц, что упивалась их социалистической идиллией и вкалывала над переводом проекта по 12 часов в день.
Ави был впечатлен качеством и объемом проекта: у него даже что-то вырвалось про специальную оплату, но мы не были способны ловить его на слове, и намерение постепенно рассосалось. Однако контакты с ним сохранялись все эти годы, вплоть до его внезапной смерти, и с «Магмой» Юра переписывается до сих пор.
Грег Людковский и Стив Матас
Спад производства машин и оборудования привел к резкому падению спроса на конечную продукции черной металлургии, так что металлургические заводы России стали поставлять на экспорт в Европу и США незавершенный продукт – литые слябы.
Так совпало, что в числе американских потребителей российских слябов были обе фирмы, которые я незадолго перед этим посещала, Inland Steel и LTV, и для оценки уровня металлургической технологии в Россию были направлены Грег Людковский (от Inland Steel) и Стив Матас (от LTV).
Грег тогда был начальником отдела применения в исследовательском центре фирмы, а Матас возглавлял отдел внешних сношений.
По-видимому, их заинтересовали описания моей лаборатории, потому что оба, почти по очереди, на пути в Липецк посетили ЦНИИчермет, посвятив по целому дню знакомству с моей командой.
Был конец лета 1992 года, и не было секрета в том, что экономика России в жутком провале. Уже на длинном пути от проходной коридоры института были завалены оборудованием из освобождаемых комнат или коробками с обувью въезжающих арендаторов.
Комнаты нашей лаборатории выглядели оазисом: оборудование работало, у симпатичных молодых девочек и мальчиков горели глаза, когда они рассказывали о своей работе или будущих планах. Грег явно проник симпатией к моим ребятам и в конце посещения спросил:
– Чем я могу вам помочь?
Я ответила, не задумываясь:
– Контрактами на научно-исследовательские работы.
Вскоре поступило задание от Inland Steel, и уже в конце 1993-го года Олег поехал представлять результаты по контракту. (Мы объединили посещение фирмы Inland Steel с участием в конференции «Малоуглеродистые стали 90-х», куда приняли три доклада: Олега, Ольги Гириной и мой).
Через пару недель в Москву приехал Матас. Прием его в лаборатории был по той же схеме, и к нашему удивлению, в заключение он задал тот же вопрос:
– Чем я могу вам помочь?
Ответ был тот же, однако LTV сразу приняла решение о долгосрочной поддержке, поэтому тему контракта они выбрали практически вечную: мы раз в квартал посылали им на английском языке дайджесты российских публикаций по интересующим их темам. Помню, что сумму они определили в двенадцать тысяч долларов в год, что вначале было больше бюджета всей лаборатории. Позже наш бюджет, наконец, увеличился, но мы не смели просить их пересмотреть эту цифру, хотя контракт действовал еще лет семь, до отъезда Олега.
В 1994-м обе фирмы участвовали в нашей международной конференции. От Inland Steel приехал вице-президент по науке добрейший Бени Дасгупта, которого позже сменил Грег Людковский, остающийся и поныне в этой должности вице-президента многократно выросшей фирмы, которая в конце концов получила название ArcelorMittal. Дасгупта выделил день для посещения лаборатории и в нашем присутствии сказал Грегу:
– Давай брать по одному человеку в год из Нининой лаборатории в наш Исследовательский центр.
Позже во время встречи в Индиане он сказал при мне Грегу:
– Надо держать место для Нины.
Я совершенно точно помню, что у меня и мысли не было об отъезде, но фраза осталась в памяти.
Дача
Мы десятилетиями снимали дачу, чтобы в летние месяцы иметь возможность быть на природе. Сначала снимали как бы для меня, даже в год окончания школы и Международного фестиваля мама сняла дачу в Кратове и в августе не выпускала меня оттуда, чтобы я не попала под дурное влияние иностранцев. Уже через пару лет пришла пора снимать дачу для маленького Миши. Потом с каким-то (не очень большим) перерывом уже надо было снимать дачу для Анечки.
С годами возникло желание иметь какое-то свое загородное прибежище, но дачи росли в цене быстрее, чем наш достаток. Помню, что стоило мне собрать какую-то сумму, похожую на цену дачи в прошлом году, как цены ускакивали в недосягаемый верх.
Как-то в Юрином институте раздавали дачные участки где-то под незнакомым нам Егорьевском, и Юра с радостью записался. В ближайший выходной мы поехали знакомиться с «нашей землей». Машины у нас еще не было, ехать надо было на двух электричках и потом автобусом, пять часов в один конец. Мы доехали до цели, увидели вкопанную табличку с нашим будущим номером дома. Я видела, что Юра, как всегда, готов на подвиг. Но я ему объяснила, что тогда он овдовеет раньше намеченного, и от этой сладкой возможности иметь свою дачу мы отказались и думали, что навсегда.
В 1989-м Миша с Вероникой и маленьким Беней стали участниками авиакатастрофы, но, к счастью, оказались не только в числе живых, но и практически невредимых. Однако страх, что мы могли их потерять, приходил в тяжелых снах почти каждую ночь. Я не знала, чем их порадовать сегодня. Миша ездил на машине, которую купил уже старой, и давно просил помочь получить новые «Жигули».
Я гордилась тем, что, бывая на ВАЗе, никогда ничего для себя не просила, но тут в ближайшую же поездку я написала заявление, получила сначала визу НТЦ (научно-технического центра), и мы вместе с Трендюком (заместителем начальника НТЦ) пошли к Генеральному директору ВАЗа Владимиру Васильевичу Каданникову, с которым я была знакома еще со времен, когда он был начальником прессового производства, а мы с Олегом опробовали штамповку двухфазных сталей. Встретили Каданникова во дворе завода, он куда-то шел, увидел нас, остановился. Трендюк что-то начал объяснять. Говорить что-то хорошее про меня. Каданников его перебил:
– А то я сам не знаю, – взял из его рук мое заявление и, подложив кейз, с которым шел, на поднятое колено, так на коленке и подписал.
Мише предстояло ехать в Тольятти, выбирать и покупать «девятку». (Тоже деталь времени (1989): он перегонял машину из Тольятти в Москву один, без всяких опасений). Миша спешил собрать нужную сумму, готовить свою машину к продаже было долго, и он уговорил нас (всегда умел уговаривать), чтобы мы купили его машину. Юра пошел на водительские курсы и таким образом в пятьдесят лет впервые сел за руль.
Дефицит машин продолжался еще несколько лет, и, получая с ВАЗа машины в качестве оплаты нашего труда, в течение пары лет все сотрудники лаборатории имели возможность приобрести «Жигули». На рынке они стоили как минимум «две цены». То есть, если в пересчете на твердую валюту машина стоила тогда 1200 долларов, покупали ее за 2400.
Как-то в понедельник вернулся с дачи Миша Бобылев, который пришел в нашу лабораторию уже после аспирантуры в МИСиС и какого-то срока работы в другой лаборатории и поэтому сразу взял на себя самостоятельный кусок работы, и произнес роковое:
– Нина Михайловна, у нас в Граворново один мужик построил дом специально на продажу: дом добротный, участок необработанный, он хочет 2400 долларов или «девятку».
У нас была хорошо подлатанная бывшая Мишина «копейка» (вазовцы одарили меня новыми кузовом и мотором по номинальной цене), она рухнула прямо на дороге только в 1997-м, и я обратилась к «товариществу» с просьбой выделить мне одну машину из поступивших с ВАЗа и предназначенных для конвертирования в зарплату.
Я не использовала мое право купить машину раньше, и все было справедливо, однако если бы я увидела хоть какое-то сожаление или молчаливый упрек, я бы отказалась, но сотрудники единодушно согласились. Я внесла 1200 долларов в общую казну и стала, наконец, владельцем дачи. Это был конец 1992 года.
Дача условно была недалеко от Истринского водохранилища, чем мы прельстили Толю (дачу заведомо покупали на четверых), страстного рыбака. На деле оказалось, что все мы, и прежде всего Толя с Валей, так прикипели к земле, что ему не каждый год удавалось выбраться на рыбалку. Так случилось, что и умер он на даче, так же внезапно, как мама, упав Вале на руки.
Я не думаю, что мы были исключением в нашем энтузиазме освоения целины. Помню, заехавший к нам Борис Букреев, увидев наш огород в первый год обработки, назвал его некрополем и немного посомневался в светлом будущем. Сначала надо было все перекопать, удалив, к счастью, давно сгнившие корневища и ветки. От опытных людей слышали, что в первый год надо сажать картофель – так и сделали.

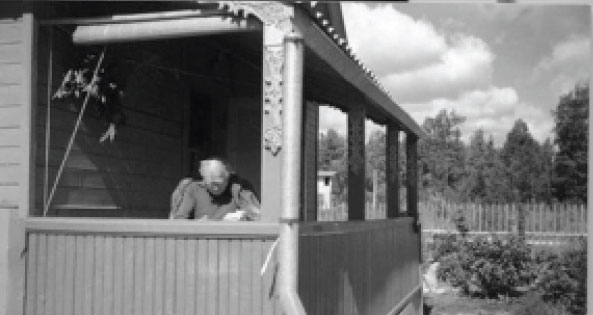
Толя с Юрой смастерили открытую веранду. Толя украсил ее столь красивыми резными балясинами, что соседи спрашивали, где мы их заказали. Юра с присущей ему верностью идее привез из Владимира взрослые владимирские вишни, которые посадили перед верандой, в соответствии с моей мечтой «выходить по утрам в вишневый сад». Меж грядок посадили яблони.
Мама Миши Бобылева, Нина Александровна, угостила нас своей прекрасной черной смородиной, и мы от жадности укоренили около тридцати отростков черной и пятнадцать красной.
Земля была глинистой, и по совету того же Миши мы заказали песок, КАМаз чернозема и два Камаза птичьего навоза (благо птицеферма была рядом).

Пришлось брать неделю отпуска, мы с Юрой работали, как я называла, говноразбрасывателями, а Толя с Валей граблями разравнивали разбросанные ведра навоза и смешивали с остальными компонентам. Проблемой было избавиться от соответствующих запахов перед пятницей, когда должны были приехать с ночевкой ребята из лаборатории на новоселье. Приехали семьями, размещались на лавках вокруг самодельного стола, спали на надувных матрасах, было весело, а о будущем ландшафте приходилось только догадываться.
Позже я сделала несколько фотоподборок с общим названием «Битвы за урожай», на которых видна эволюция нашего участка.


Сезон начинался, как и у всех соседей, в майские дни, когда местами еще лежал снег. На второй год Толя соорудил совершенно профессиональные парники, в которых мы выращивали, чередуя года, огурцы и помидоры. Помидоры были так себе, а огурцов было такое море, что я с благодарностью за согласие раздавала трехлитровые банки с огурцами сотрудникам. Нам еще дали какие-то куски земли в поле, где мы сажали картошку и кабачки. Это тоже деталь той нашей жизни, когда в течение пары лет вывезенные домой на зиму овощи были некоей статьей экономии.

Нашими стараниями урожаи ягод – что смородины, что клубники вскоре оказались выше нашей способности их потребления, и мы постепенно стали вырубать кусты смородины, выдергивать клубнику и засеивать травой все большую часть нашего небольшого участка.
Однако за те шесть лет «дачевладения» до нашего отъезда хлопоты на участке стали важной компонентой жизни, и я начала понимать моих молодых сотрудников, чьи родители сделали их дачевладельцами с детства и для которых выходные в летние месяцы были неприкасаемыми.
В последний год мы увидели уже и спелые яблоки (вишневый сад цвел уже пару лет), и, уехав, мы больше всего скучали по даче.
Я начальник
Так сложилось, что в каком-то смысле я всегда была начальником чего-то, начиная с первого класса, когда меня назначили старостой – кажется, потому что я уже понимала письменный почерк и могла помочь раздавать надписанные Дорой Трофимовной тетради.
Когда я через год после окончания института поступила в ОКБ завода (впоследствии названного «Эмитрон»), нас вначале было трое, работающих над выполнением проекта. Ира Мазина работала дольше меня, но ей претила ответственность за что бы то ни было, так что я стала как бы руководить этой малой группой. Очень вскоре мы стали расширяться, и в результате в нашей группе стало десять человек, девять молодых сотрудниц и один мальчишка – электрик.
В МВМИ у меня в подчинении было всего пять человек, работающих на разных приборах, но все равно я была начальник.
В ЦНИИчермете я начинала как организатор и заместитель начальника лаборатории Гуляева, но в итоге заведовала группой, ставшей лабораторией, в которой в момент расцвета было двадцать один человек.
Я постепенно впитывала лучшее от моих начальников, чему старалась следовать всю жизнь:.
От Мириенгофа: жестко требовать высокого качества работы от сотрудников, но брать вину на себя в случае их промашек и быть их защитой от более высокого начальства (этому же следовал и Иофис);
от Иофиса: в случае внутренних конфликтов никогда не выслушивать одностороннюю информацию;
от Рубашова: (в отличие от него) никогда не повышать голос на подчиненных;
Это было не просто копированием, но и выражением моих собственных убеждений. Не все и не всегда было гладко и успешно, за мою долгую жизнь «в начальниках» я уволила трех человек, но только потому, что они действительно плохо и безответственно работали.
С удовлетворением могу утверждать, что у меня никогда не было конфликтов с подчиненными – только с моими начальниками и чаще всего – в результате защиты подчиненных.
Не было (я не допускала) и конфликтов внутри коллектива.
Бесконфликтными были и наши отношения с ведущими металловедами из других организаций, что было основано на взаимном уважении и нашей готовности в любую минуту помочь чем можем.
Я всегда ненавидела бытовавший подход «дашь на дашь» и следовала принципу, услышанному мною от одной замечательной и красивой женщины, профессора Саратовского педагогического института Мары Борисовны Борисовой.
В 1973-м году Мара Борисовна была оппонентом по кандидатской диссертации Вали, моей сестры. Дата Валиной защиты совпала с датой ученого совета ее института, из-за чего мы были до последнего момента не уверены в ее приезде. Когда защита кончилась, я кинулась к ней с благодарностями, говоря о Валиной невезучести и редкой столь важной поддержке. Помню, как она мне ответила:
– Ниночка, так случилось, что в моей жизни я многим обязана людям, которым мне никогда и нечем было отплатить. Единственный путь – продолжать эстафету.
Уверена, что по такому принципу жили и живут многие уважаемые мною люди. Я только одна из этой большой когорты, но понимание моей причастности к ней помогало хорошему отношению ко мне лично и ко всей нашей лаборатории.
Я не случайно оказаась и успешным руководителем аспирантов, потому что мне исключительно повезло с фактическим руководителем моей кандидатской диссертации – Владимиром Иосифовичем Сарраком.
Саррак был старше меня всего на 10 лет, и познакомились мы во внеслужебной обстановке – на конференции в Тбилиси, поэтому мы были на «ты», и я звала его Володя. Однако это не мешало ему быть предельно строгим и требовательным руководителем, из-за которого (чаще всего – из-за многократной жесткой правки черновиков наших статей) я не раз плакала и научилась сама печатать, потому что оплата машинистки становилось серьезной статьей бюджета.
Когда обсуждал со мной план моей будущей диссертации, Саррак не просто сформулировал вопросы, на которые я должна ответить, но и детально обрисовал мне отдельные задачи длинного пути. Он не предсказывал форму графиков, которые я должна была выявить путем экспериментов, но обозначал все взаимосвязи, которые должны были быть установлены.
Я строго повторяла его подход. Вместе с общей задачей новый аспирант получал перечень составляющих, подзаголовки отдельных этапов, которые должны были завершаться соответствующей публикацией.
Я завела красную тетрадь, единственную красную тетрадь в моем столе, где записывались начальные установки к конкретной диссертации, заголовки и подзаголовки. Иногда это заполнялось одновременно с разговором с диссертантом (помню разговор с Леней Эфроном о его будущей докторской диссертации), иногда заполненная страничка ждала своего часа, когда появится диссертант, пригодный для выполнения сформулированной задачи.
Шестнадцать моих и усыновленных аспирантов, защитивших кандидатские диссертации – итог моей «руководящей деятельности». Не защитились двое: Толя Давидюк (заочный аспирант, сотрудник исчезнувшего теперь из Москвы завода «Серп и молот»), который так и не смог, не успел объяснить полученные чрезвычайно интересные результаты. Вторым был абсолютно свой и горячо любимый Боря Букреев, активный участник борьбы на Липецком фронте, на плечах которого защищались многие аспиранты и который просто не успел завершить оставшиеся пять процентов текста, попав под разлом отрасли и уйдя зарабатывать «настоящие» деньги.
Миша в восемнадцать лет женился и жил все более независимой жизнью. Моя лаборатория постепенно все в большей степени становилась моей семьей.
Помню, что в 1986-м очередная конференция металловедов была в Тольятти, у Миши (он защитил диссертацию в 85-м) там возникли какие-то контакты по генетическим способам борьбы с бактериями в охлаждающих смазках, и я предложила ему поехать с нами. У нас было несколько докладов, соответственно со мной было три-четыре моих аспиранта – практически Мишиных ровесников. По приезде в Москву он почти завопил:
– Если бы ты относилась ко мне, как к своим «ребятам». Со мной ты строга и ничего не пропускаешь, а с ними – добрая мама.
Наверно, так и было.
Объяснялось все очень просто: почти все сотрудники и аспиранты (за исключением Саши Петруненкова и Олега Якубовского и позже – Миши Бобылева) начинали работать со мной сразу после института, и, хотя старшие были моложе меня всего на десять лет, я всех воспринимала как своих детей. Я и сейчас называю их «девочка» – это про Лену Жукову или Таню Ефимову, не говоря уже о младших Лене Крохиной или Ире Арабей. Соответственно «мальчик» про Сашу Борцова, Олега Якубовского или Сашу Ефимова, хотя сейчас последним уже за шестьдесят. Я так и сказала Мише и добавила:
– Плюс ты все более самостоятелен, а они нуждаются во мне, как и я в них всю оставшуюся жизнь.
Конференция «Металлургия XXI»
Поскольку при каждом важном событии мы сталкивались с необходимостью получать характеристику, подписанную заветным «треугольником» (директор-партком-профком), все мы были приговорены думать о некоей обязательной общественной работе. Моей было содействие проведению научно-технических мероприятий по линии НТО машиностроения, в секцию металловедения которого меня ввел Гуляев.
Сначала я просто помогала в проведении семинаров в Доме научно-технической пропаганды на улице Кирова. В 1976-м Гуляев взялся председательствовать ежегодной конференцией металловедов, которую в тот год решено было проводить в Киеве и где начались наши впоследствии тесные контакты с местным председателем секции металловедения НТО Анатолием Винокуром. Меня автоматически возвели в ранг ученого секретаря оргкомитета конференции, и все организационные действия (составление и рассылка всяких уведомлений, печатание всех документов вплоть до программы и сборника докладов) упали на меня, как и контакты с киевским НТО.
Я придумала организовать ужин перед началом конференции, на котором лично встретились члены оргкомитета из разных городов. Контакт с Михаилом Израилевичем Гольдштейном (заведующим кафедрой металловедения УПИ, Уральского политехнического института) продолжился и далее, в результате чего я стала фактическим со-руководителем диссертации его аспиранта Толи Шифмана, и позже к нам в лабораторию приехали три дипломницы его кафедры выполнять дипломные работы, включая ставшей очень близкой Танечку Шифман-Милюнскую.
Поскольку к этому времени сформировался мой интерес к разрушению, я была рада познакомиться также с заместителем директора Института проблем прочности Николаем Васильевичем Новиковым, тогда доктором наук, а позже академиком, ставшим директором Института сверхтвердых материалов.
У меня была легкая эйфория, связанная с новыми знакомствами и многочисленными похвалами уровня организации конференции, и за этой конференцией последовало несколько семинаров в Москве и Львове, часто организуемых вместе с Женей Шуром в рамках деятельности придуманной нами Комиссии по фрактографии.
То было в семидесятые и восьмидесятые. В девяностые у меня было только одно в голове: откуда будут приходить деньги завтра? Во время участия в конференции во Флоренции у нас был повод убедиться, что организаторы конференции по автомобильной тематике (компания ИСАТА) никоим образом не связаны с автомобилестроением, а просто профессионалы по организации конференций, зарабатывающие на разнице от поступивших оргвзносов и расходов, относящихся к подготовке и проведению конференции.
В структуре Правительства в октябре 1992-го года произошли очередные изменения. Вместо отдела металлургии в Министерстве экономики СССР образовался комитет РФ по металлургии, который разместился в старом здании Министерства черной металлургии. Во главе комитета стал Олег Сосковец.
Когда мысль о проведении большой и громкой конференции дозрела до бумаги, я с Таней Ефимовой (идти к незнакомому чиновнику вдвоем выглядело комфортнее, а Таня, с ее рациональным подходом, в годы разлома экономики оказалась отличной мне помощницей) направилась в техническое управление нового Комитета.
В привычном кабинете заместителя начальника вместо Юрия Евгеньевича Кузнецова (авторучки министерства) нас встретил Юрий Иванович Уткин. Я уже не помню всех деталей, но сначала я долго пела о своевременности международной конференции, потом – о нашем видении ее организации. Отчетливо помню, что на каком-то этапе я сказала;



