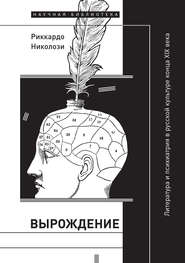
Полная версия:
Вырождение
Столь же резкой была и реакция Н. К. Михайловского, последовавшая непосредственно за публикацией программной статьи Золя[352]. По мнению литературного критика из «Отечественных записок», высказывания Золя, основанные на заведомой теоретической «путанице», доводят ее до «комизма» и «пародии»[353] и к тому же напрямую оскорбляют русскую публику, перед которой Золя претендует на роль «учителя» в вопросах эстетики[354]. Михайловский не может извлечь ничего положительного из экспериментальной теории Золя: ссылка на Клода Бернара кажется критику настолько случайной, что это имя можно было бы без ущерба для смысла заменить любым другим, сославшись на Ньютона, Галилея или Дарвина[355]. Золя может проводить «забавную» аналогию между литературой и медициной лишь потому, что слабо разбирается в научных теориях, которые стремится пропагандировать[356]. Наконец, Михайловский оспаривает притязания экспериментального романа на статус новой художественной формы, приводя два аргумента. Во-первых, в структурном отношении экспериментальным оказывается любой роман, ибо каждый автор заставляет своих персонажей действовать в вымышленных ситуациях так, как того требует «механизм фактов»[357]. Во-вторых, Золя не первый, кто использует теорию наследственности в литературном творчестве; так, она уже служила романной «рамкой» у Эжена Сю. По мнению Михайловского, вполне оправданно использовать научные концепции наследственности и среды в качестве элементов художественного мира произведения. Однако «чистый вздор» – пытаться превратить их в движущую силу повествования, понимаемого как «эксперимент» и, следовательно, призванного не только воспроизводить, но и производить научное знание[358].
После окончания сотрудничества Золя с «Вестником Европы»[359] последний тоже начинает печатать критические отзывы об экспериментальной теории писателя. Так, значительная часть статьи К. К. Арсеньева о Золя посвящена вопросу о том, в какой мере французскому натуралисту удалось реализовать свою программу и экспериментально исследовать законы наследственности в романах из цикла «Ругон-Маккары»[360]. Анализ Арсеньева, более подробный и менее полемический в сравнении со статьями радикальных критиков Мечникова и Михайловского, объясняет причины неосуществимости программы Золя. По мысли Арсеньева, искусство устроено так, что не может взять на себя задачи науки даже в том случае, если признать – вслед за Золя – важность того факта, что в обеих этих сферах деятельности возможно построение гипотез[361]. Говорить об исследовании законов наследственности в «Ругон-Маккарах» не приходится, в частности, потому, что в романах, успевших на тот момент выйти, описанные феномены наследственности носят неопределенный, неточный и зачастую незначительный характер[362], причем некоторые книги могли бы и вовсе обойтись без каких-либо отсылок к подобным феноменам[363]. Арсеньев сомневается, что наследственность может выступать структурообразующим принципом литературных произведений[364], и утверждает, что она оказывается гораздо важнее для характеристики персонажей: тут романист, по мнению критика, мог бы стать настоящим психологом[365]. Именно в этом Арсеньев видит сильную сторону Золя-романиста, называя его «мастером ‹…› психического анализа»[366]. Впрочем, при этом критик подчеркивает, что удавшиеся Золя изображения психических расстройств не привели к осуществлению научного плана произведения. О провале этого плана Арсеньев писал уже в 1882 году[367]. Цикл о Ругон-Маккарах он ценил прежде всего как всеохватное полотно, изображающее эпоху Второй империи при Наполеоне III и «внутреннюю жизнь французского общества», которую Золя сумел облечь в картины «поразительной силы»[368].
Напротив, И. И. Ясинский – писатель, тоже руководствовавшийся в своих романах «научным методом» и отвергавший «теолого-метафизическое миропонимание»[369], – положительно отзывался о выдвинутой Золя концепции литературы, развивающей научные гипотезы в повествовательной форме. Однако и он отрицал возможность поставить в романе истинный эксперимент. Роман скорее следует понимать как «художественное обобщение наблюденных фактов»[370]. Из этого определения также следует, что новый «реальный роман», вопреки натуралистическим идеям Золя, не может отказаться от приема типизации:
Роман, как серьезное произведение ума писателя, вооруженного научным методом и глубоким философским знанием, не говоря уже о таланте, должен быть трактатом, дающим ответы в образах на разные вопросы жизни целой эпохи (или небольшого промежутка времени) и потому, в силу такого назначения своего, долженствующим иметь скрытый теоретический характер, достигнуть чего, в большей или меньшей степени, только и возможно при помощи типичности, т. е. обобщения[371].
Таким образом, русская критика того времени оценивала экспериментальную поэтику Золя вдвойне отрицательно. Опровергалась не только сама возможность возложить на роман научно-экспериментальные функции; большинство русских критиков еще и отрицали структурный нарративный потенциал научной повествовательной схемы[372]. Сосредоточившись на самом понятии эксперимента, попытки ввести которое в литературный дискурс вызывали понятное раздражение, критики упустили из виду другое. Они недооценили тот факт, что нарративная структура гипотез о законах наследственности и вырождения, пусть и непригодная для научной верификации в строгом смысле слова, обладает художественным формообразующим потенциалом. О нем и пойдет речь ниже[373].
Нарративный аспект экспериментального романа: метафикциональные эксперименты и иллюстративное (экземплярное) повествованиеЗа последние десятилетия исследователи натурализма заметно расширили контекст изучения экспериментальной поэтики Золя. В результате свойственные ей апории предстали в новом свете. Приписывая фикциональному преобразованию действительности доказательную силу «подлинного»[374] научного эксперимента, Золя следует особой логике позитивистской эпистемологии XIX века, допускавшей непосредственный переход от эмпирического наблюдения к метафизическому умозрению. Как показал вслед за Мишелем Фуко Ханс Ульрих Гумбрехт, в рамках этой эпистемы предполагалось, что онтологические закономерности действительности можно постичь путем наблюдения явлений и их «непосредственных причин» (causes prochaines)[375].
Рассматривая теорию экспериментального романа Золя в этом расширенном контексте, исследователи в большей степени сосредоточиваются на ее нарративных, нежели эпистемологических импликациях[376]. Так, Ютта Колькенброк-Нетц видит значение экспериментальной поэтики французского натуралиста прежде всего в ее (скорее традиционном) литературном потенциале:
Используя терминологию Бернара, Золя излагает определенную эстетическую концепцию литературного реализма. Согласно этой концепции, художественность литературы состоит как раз в замкнутой цельности вымысла, причем эстетическая реализация какой-либо «идеи» действительности раскрывает высшую правду этой идеи[377].
К похожему выводу пришел еще в 1887 году Вильгельм Бёльше:
Всякое поэтическое творение, стремящееся не преступать границ естественного и возможного и предоставлять вещам развиваться логически, с научной точки зрения есть не что иное, как простой эксперимент, осуществляемый в воображении[378].
В такой трактовке экспериментальная поэтика Золя – это описание натуралистического художественного творчества вообще, изложенное языком позитивистской науки. В соответствии с рассмотренной выше повествовательной системой натурализма (гл. II.2) наррация в каждом отдельном случае «верифицирует» одну и ту же изначально сформулированную гипотезу о детерминированных основах действительности, варьируя уже многократно использованную базовую схему с целью «подтвердить» ее «эпистемологическую правильность»[379].
С одной стороны, этот принцип проявляется на макроструктурном уровне «Ругон-Маккаров», позволяя интерпретировать весь романный цикл как серию нарративных «экспериментов», исследующих возможность рассказывания историй, которые разворачиваются по мере ветвления единого вырождающегося «семейного организма». С другой стороны, на микроструктурном уровне цикла, т. е. в отдельных романах, эта повествовательная модель рождает структуру, основанную на принципе парадигматического нанизывания похожих исходных положений. На протяжении романного действия один и тот же персонаж многократно попадает в аналогичные, хотя и не идентичные ситуации, причем варьирование этих схожих ситуаций оказывает решающее воздействие на повествование. Так, за социальным возвышением Жервезы в первой части романа «Западня» («L’Assommoir», 1877) следует описание прогрессирующей деградации героини, начавшейся после несчастного случая с ее мужем, Купо, и возвращения ее первого возлюбленного, Лантье. При этом во второй части фигурируют те же самые места, персонажи и сцены, что и в первой, однако модификация отдельных элементов позволяет направить действие в иное русло[380].
В свете этого уместно говорить не столько об эпистемологическом, сколько о метафикциональном характере натуралистической экспериментальности. Экспериментальный роман – это прежде всего литературный эксперимент, т. е. опыт нарративного моделирования действительности, вписывающего в сюжет глубинную эпистемологическую структуру со всеми ее детерминистскими закономерностями. Таким образом, экспериментальный роман проверяет не только и не столько научные гипотезы, сколько пределы и возможности художественного вымысла, ограниченного факторами, детерминирующими развитие действия.
Поэтому в структурном отношении корректнее было бы говорить об иллюстративном (экземплярном) повествовании, т. е. о таком, которое иллюстрирует заранее сформулированные тезисы при помощи нарративных примеров (exempla). Таким образом, способность художественного вымысла как такового представлять сложные горизонты возможностей в правдоподобной и связной форме реализуется в натуралистическом романе с целью не столько доказать, сколько подтвердить лежащие в основе повествования тезисы посредством своеобразной наглядной доказательности[381]. Это сближает натуралистический роман с романом идей (нем. Thesenroman, фр. roman à thèse), которому свойствен ряд тех же структурных признаков. Сьюзен Рубин Сулейман пишет[382], что roman à thèse стремится наглядно и отчетливо проиллюстрировать заранее сформулированное идеологическое, философское или научное положение, определенную картину мира путем моделирования иллюстративной истории. Как и для литературы натурализма, для романа идей характерны аукториальная повествовательная перспектива, телеологический сюжет, схематичная ценностная иерархия и антагонистическая система персонажей. Все эти элементы повествования позволяют – в частности, при помощи реализуемого на разных текстуальных уровнях приема избыточности – очистить романную семантику от любых проявлений неоднозначности и открытости.
Тенденциозная литература и донатуралистический экспериментальный роман в России (1860–1870‐е)Такая форма аукториального романа, призванная проверять истинность заранее выдвинутой гипотезы и основанная на принципе варьирующего повтора строго определенной экспериментальной ситуации, сложилась в русской литературе еще до появления экспериментального романа Золя. Без сомнения, впоследствии это обстоятельство благоприятствовало восприятию идей французского писателя в России. Особо важна в этом контексте литературная традиция так называемого «тенденциозного романа», расцвет которого пришелся на 1860–1870‐е годы[383]. Влияние этого жанра на русский роман о вырождении обусловлено тем обстоятельством, что тенденциозный роман тоже проверял достоверность определенной социальной идеологии путем слегка видоизменяемого фикционального изображения нарративных «экспериментов», уже поставленных в предшествующей литературе.
В контексте русского романного творчества XIX столетия, близость которого к тенденциозной литературе многократно отмечалась[384], тенденциозный роман выступает преемником более ранних примеров литературного экспериментирования, в частности романа А. И. Герцена «Кто виноват?» (1847). Герцен преодолевает статичное письмо натуральной школы, где персонажи выступали исключительно представителями той или иной социальной среды, и делает «повествовательный акцент на динамическом развитии персонажей, ставя своего рода эксперимент с неизвестным исходом», в ходе которого «помещает персонажей в определенные обстоятельства с целью проверить, какова будет их реакция»[385]. Нечто подобное происходит и в тенденциозном романе. Сам жанр складывается из многочисленных социальных романов, которые в зависимости от своей идеологической направленности подразделяются на «нигилистические» и «антинигилистические»[386] и которые, вслед за «Отцами и детьми» (1862) Тургенева[387] и, прежде всего, за «Что делать?» (1863) Чернышевского, инсценируют в повествовательной форме конфликт между старой и новой идеологией, между «новыми людьми» и традиционным обществом[388].
Все эти романы обнаруживают единообразную основополагающую структуру: система персонажей, место действия и сюжет почти без изменений переходят из романа в роман. В нигилистическом варианте сюжет строится вокруг вторжения героя, молодого «нового человека», в традиционный, консервативный мир. Мир этот представлен замкнутой средой провинциального города или дома, куда герой прибывает в качестве учителя, гувернера или врача. Завязывается конфликт между новым и старым порядком, причем выразителем последнего выступает немолодой консервативный антагонист. Распространение нового, бескомпромиссно насаждаемого героем социального порядка приводит к общественным волнениям (крестьянским или рабочим восстаниям) и к переоценке традиционных моральных представлений, вызванной новыми формами взаимоотношений, которые определяют любовную линию романа. В антинигилистическом варианте протагонист – молодой дворянин, носитель традиционных, положительных ценностей, попадающий в «зараженную» нигилизмом среду и вступающий с ней в борьбу. Возникающие при этом конфликтные ситуации схожи с ситуациями нигилистического романа, однако завершаются торжеством старых ценностей.
Тенденциозный роман можно рассматривать как специфически русскую разновидность roman à thèse, обнаруживающую типичные для этого жанра черты иллюстративного, стереотипного повествования. С точки зрения связи тенденциозного романа с русским романом о вырождении в его «противодискурсивном варианте» важен тот факт, что антинигилистические тенденциозные романы функционируют не столько как романы идей, сколько как «романы опровержения идей» (Gegenthesenromane). Как показала вслед за Лидией Лотман[389] Ирина Паперно, цель любого тенденциозного романа – и в нигилистическом, и в антинигилистическом изводе – заключается в «верификации» фикционального «эксперимента-прообраза», инсценированного Чернышевским в романе «Что делать?». При этом некоторое варьирование параметров организации эксперимента приводит либо к подтверждению, либо к опровержению выводов Чернышевского[390].
В случае антинигилистического романа целенаправленное опровержение позитивистских тезисов достигается при помощи повествовательных приемов, превращающих текст в фикциональное воплощение принципа reductio ad absurdum (сведение к абсурду). При этом речь идет не столько о нарративном подтверждении заранее выдвинутой исходной гипотезы, сколько об опровержении определенного тезиса путем варьирующего повтора уже осуществленного фикционального эксперимента, «доказавшего» верность соответствующего положения. К этой традиции литературного экспериментирования с поставленными ранее литературными экспериментами примыкают Ф. М. Достоевский, активно развивавший традицию антинигилистического романа, и Д. Н. Мамин-Сибиряк: на рубеже 1870–1880‐х годов оба критически переосмысляют творчество Золя. Прежде чем обратиться к анализу их романов – «Братья Карамазовы» (1879–1880) и «Приваловские миллионы» (1883) – в главах III.2 и III.3, необходимо вернуться к экспериментальной поэтике Золя и подробно рассмотреть, во-первых, заложенное в ней понимание мысленного эксперимента, а во-вторых, свойственную ей контрфактуальную нарративно-аргументационную структуру, основанную на приеме сведения к абсурду.
Экспериментальный роман как фикциональный мысленный экспериментВ рамках концепции экспериментального романа поэтология и эпистемология отнюдь не исключают друг друга: это становится очевидным при обращении к более широкому культурно-историческому контексту, который до сих пор на удивление мало учитывался в литературоведении. Речь идет о связи экспериментальной поэтики Золя с идеей мысленного (умственного) эксперимента, возникшей в европейском научном дискурсе в конце XIX столетия. Недаром Эрнст Мах, введший это понятие в теорию науки, цитирует статью Золя об экспериментальном романе в своем очерке «Умственный эксперимент» («Über Gedankenexperimente», 1897) и открыто рассматривает литературу как одну из возможных форм мысленного экспериментирования[391]. Показательно, что Золя тоже понимает экспериментальный роман как «протокольную запись опыта», который писатель сначала осуществляет «в голове», а затем «повторяет на глазах у публики»[392]. Действительно, прослеживаются отчетливые параллели между вышеописанным принципом варьирования сходных повествовательных ситуаций в экспериментальном романе и Маховым «методом вариаций». Этот метод составляет ядро «логико-экономического очистительного процесса», отделяющего в ходе мысленного эксперимента существенные обстоятельства от несущественных с целью соединить организацию опыта и его осуществление в рамках одного и того же умственного процесса[393].
Указанный контекст не исчерпывается идеями Золя и Маха, в остальном рассуждающих о мысленном экспериментировании исходя из совершенно разных теоретических предпосылок[394]. Речь идет скорее о принципиально проницаемой границе между эмпирией и воображением, характерной для эпистемы XIX столетия в целом[395]. Можно заметить, что тогдашняя наука – располагавшая (еще) неточным знанием, недоказуемым эмпирически или экспериментально и не поддающимся строгой формализации – использовала мысленные эксперименты с более или менее выраженной повествовательной структурой в качестве «интуитивных насосов», обеспечивающих доказательность[396]. Безусловно, самым знаменитым примером служит здесь трактат Чарльза Дарвина «Происхождение видов» («On the Origin of Species», 1859), где за невозможностью экспериментальной демонстрации используются «воображаемые иллюстрации» (imaginary illustrations)[397] – важная составляющая обширного риторико-нарративного авторского инструментария[398].
Золя открыто опирается на это взаимопроникновение двух дискурсов, обосновывая легитимность экспериментального романа, в частности, тем обстоятельством, что научные познания о человеке пока находятся на ранней стадии формирования гипотез и, следовательно, воображение – включая литературный вымысел – выполняет важную познавательную функцию. Вот как описывает эту функцию применительно к теориям наследственности и вырождения доктор Паскаль, герой последнего романа о Ругон-Маккарах и alter ego автора:
Ах, эти зарождающиеся науки, гипотеза в них еще только лепечет и главенствует воображение, – тут поэты соперничают с учеными. Поэты идут первыми, они в авангарде, и зачастую им удается открыть неисследованные области, предвосхитить грядущие[399].
Этот литературный поиск альтернатив основополагающей научной модели того времени, сформулированной П. Люка в «Философском и физиологическом трактате о естественной наследственности» («Traité philosophique et physiologique de l’hérédité naturelle», 1847–1850), можно проследить на примере разных нарративных воплощений теории наследственности в семейном эпосе Золя[400]. По мере работы над циклом писатель отходит как от предположения, что каждый из родителей передает детям половину своей наследственности, – эта модель присутствует в предисловии к первому роману цикла, «Карьера Ругонов» («La Fortune des Rougon», 1871), утверждающем «математическую точность» закона наследственности, – так и от теории атавизма, повлиявшей на романы «Жерминаль» («Germinal», 1883) и «Человек-зверь» («La bête humaine», 1890). В заключительном же «романе о наследственности», «Доктор Паскаль» («Le Docteur Pascal», 1893), Золя развивает чисто корреляционную модель, в рамках которой решающая роль отводится постоянному притоку чужой наследственности. В результате наследственность оборачивается бесконечной комбинаторикой, фантасмагорические плоды которой постоянно видоизменяются.
Если, однако же, не ограничивать задачу простой констатацией принципиальной преодолимости границы между фактом и вымыслом, эмпирией и воображением в обеих сферах, то интерпретация натуралистической экспериментальной литературы при помощи понятия мысленного эксперимента оказывается сопряжена с рядом проблем эвристического характера. В исследовательском поле «эксперимент и литература», где в последнее время, особенно в немецком литературоведении, разрабатывается вопрос литературно-научных мысленных экспериментов, эти методологические проблемы тоже не получают решения. В исследовании «литературных экспериментальных культур» эксперимент как таковой понимается как точка соприкосновения науки с литературой, связующее звено между эмпирическим доказательством и открытием новых возможностей[401]. После теоретического поворота в эпистемологии эксперимента, инициированного Гастоном Башляром и Людвиком Флеком, эксперимент из простого инструмента проверки теорий или гипотез превратился в «творческую» практику, обладающую некоторой «самостоятельной жизнью»[402] относительно теории и порождающую научные факты как «непредвиденные события»[403] лишь в процессе осуществления опыта. Такое подчеркивание перформативной стороны эксперимента было воспринято литературоведением дискурсивно-аналитической направленности, которое обратило внимание на взаимосвязь между организацией научных опытов и литературным письмом[404].
Таков контекст, в котором мысленный эксперимент становится предметом пристального внимания как философии науки, так и литературоведения. Однако если науковеды крайне противоречиво оценивают смысл, функции и эпистемологическую ценность мысленного эксперимента[405], то литературоведы рассматривают его как мост, позволяющий преодолеть разрыв между «двумя культурами» (Ч. П. Сноу). По мнению Томаса Махо и Аннет Вуншель, в рамках мысленного эксперимента «литература и наука буквально вынуждены объединиться»[406]; Зигрид Вайгель усматривает в мысленном эксперименте воплощение первоначального слияния науки и литературы в рамках общей «практики вымысла», причем наблюдение законов природы при помощи гипотез и моделей соответствует поэтологическому понятию правдоподобия[407].
Впрочем, такая очарованность инструментом познания, сливающим эмпирию и воображение в неразрывное единство, контрастирует с крайне расплывчатым определением принципов его действия и преобразования в процессе взаимной конвертации научного и литературного дискурсов. Большинство авторов, изучающих связь умственного эксперимента и вымысла, ограничиваются воссозданием научно-философских споров о таких экспериментах – в трудах Маха, Дюгема, Башляра, Поппера и, наконец, Куна – и, как правило, не уделяют внимания художественной литературе[408]. Другие авторы используют понятие «мысленный эксперимент» в метафорическом смысле, подразумевая причастность литературы к естественно-научному знанию определенной эпохи[409]. И даже те работы, в которых постулируется тесная взаимосвязь литературы с мысленным экспериментом[410], не поясняют, в какой мере и при каких структурных и эпистемологических предпосылках можно говорить о фикциональных текстах как об умственных экспериментах[411].
Контрфактуальные мысленные эксперименты и принцип reductio ad absurdumРазумеется, здесь не может быть предложен принципиальный выход из вышеописанного концептуального затруднения, связанного с мысленным экспериментом. Важнее сосредоточиться на определенной литературно- и научно-исторической констелляции, в рамках которой возможно проследить процессы взаимодействия между художественной литературой и научными мысленными экспериментами на основе конкретных структурных и гносеологических признаков. Задача состоит не в том, чтобы выявить принципиальную аналогичность художественного вымысла и мысленного эксперимента[412], а в том, чтобы показать: к русским романам о вырождении, возникающим из экспериментальной поэтики натурализма, понятие «фикциональных мысленных экспериментов» оказывается применимо на том основании, что некоторым из этих текстов присущ ряд поэтологических и эпистемологических признаков, сближающих такие романы с контрфактуальными мысленными экспериментами вида reductio ad absurdum, направленными на опровержение какой-либо идеи[413]. В данном случае возможность соотнесения научных экспериментов и литературного письма обеспечивается использованием общей аргументационной структуры, в рамках которой логическое доказательство и нарративно-риторические приемы взаимно обусловливают друг друга.



