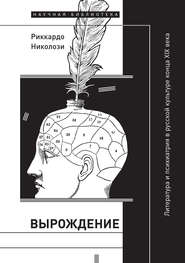
Полная версия:
Вырождение
Точно так же ослабевает и половое влечение, унаследованное братьями от отца и заставляющее их соперничать друг с другом. У Дмитрия оно проявляется явно и открыто; у Ивана принимает скрытую форму, сублимируясь в умственную деятельность; Алеша же, которому свойственна «дикая, исступленная стыдливость и целомудренность»[452], его подавляет. Смердяков, хотя и почти ровесник Ивана, находится на самом краю этой шкалы: обладающий вследствие эпилепсии слабой конституцией, со «скопческим, сухим лицом»[453] и презрением как к женскому, так и к мужскому полу, он как будто начисто лишен полового влечения.
Последняя, однако немаловажная интертекстуальная отсылка к Золя – это имя Клода Бернара. В одиннадцатой и двенадцатой книгах Дмитрий упоминает его в уничижительном смысле и с почти навязчивой частотой, преимущественно в качестве отрицательного эпитета для Ракитина, главного в романе поборника тривиального позитивизма[454]. Поскольку имя Бернара появляется только в главах, написанных уже после публикации статьи Золя об экспериментальном романе, это можно расценить как не столько возобновление старой полемики с Н. Г. Чернышевским и его романом «Что делать?» (1863), где Клод Бернар упоминается с одобрением[455], сколько как отсылку и к статье, и к методу Золя.
Наследственность и проблема семьиИдеи наследственности в романе недаром впервые звучат из уст Ракитина, которого Дмитрий именует «русским Бернаром». За драматической и вместе с тем карнавальной встречей всех Карамазовых в келье старца Зосимы, в ходе которой Федор Карамазов называет старшего сына отцеубийцей, а Зосима, к всеобщему изумлению, преклоняет перед Дмитрием колени, следует беседа Ракитина с Алешей. Ракитин предлагает первое – и весьма показательное – объяснение произошедшему: «По-моему, старик действительно прозорлив: уголовщину пронюхал. Смердит у вас. ‹…› В вашей семейке она будет, эта уголовщина. Случится она между твоими братцами и твоим богатеньким батюшкой»[456]. В дополнение к этой интерпретации необычного поступка Зосимы Ракитин выдвигает своего рода научное объяснение карамазовской наследственности, проявления которой он, в соответствии с законом природы, усматривает и в Алеше с Иваном:
– Он – сладострастник. Вот его определение и вся внутренняя суть. Это отец ему передал свое подлое сладострастие. ‹…› В вашем семействе сладострастие до воспаления доведено. ‹…› Ты сам Карамазов, ты Карамазов вполне – стало быть, значит же что-нибудь порода и подбор. По отцу сладострастник, по матери юродивый. Чего дрожишь? Аль правду говорю? ‹…› Если уж и ты сладострастника в себе заключаешь, то что же брат твой Иван, единоутробный? Ведь и он Карамазов. В этом весь ваш карамазовский вопрос заключается: сладострастники, стяжатели и юродивые![457]
Дарвинистский лексикон Ракитина помещает его слова в контекст тривиально-детерминистского мировоззрения, считающего характер исключительно вопросом наследственности. По мнению Ракитина, «генетические данные» Карамазовых делают убийство неизбежным, так как дурная наследственность непреодолима. Конечно, автор морально дискредитирует Ракитина как носителя такого мировоззрения, рисуя образ явного стяжателя и карьериста. И все же представляется, что концепция наследственности со всеми своими детерминистскими импликациями, будучи облечена в слова, полностью завладевает художественным миром. Вопрос о нездоровой наследственности поднимают прежде всего Дмитрий, Иван и Алеша. Ее суть они усматривают в инстинктивной, патологической, переходящей всякие границы «безудержности вожделений», в доведенном «до воспаления» сладострастии[458]. Предшествующие убийству разговоры Алеши с обоими братьями вращаются вокруг проблемы непреодолимой карамазовской наследственности. Так, Дмитрий говорит Алеше:
– И мы все, Карамазовы, такие же, и в тебе, ангеле, это насекомое живет и в крови твоей бури родит. Это – бури, потому что сладострастье буря, больше бури! ‹…› Любил разврат, любил и срам разврата. Любил и жестокость: разве я не клоп, не злое насекомое? Сказано – Карамазов![459]
Алеша признает, что ощущает в себе те же инстинкты («я то же самое, что и ты»), и предсказывает их целенаправленное развитие, которое Достоевский собирался описать в задуманном продолжении романа: «Всё одни и те же ступеньки. Я на самой низшей, а ты вверху, где-нибудь на тринадцатой. ‹…› Кто ступил на нижнюю ступеньку, тот все равно непременно вступит и на верхнюю»[460].
Необоримость «силы низости карамазовской» утверждается и в беседе Алеши с Иваном:
– Есть такая сила, что все выдержит! ‹…›
– Какая сила?
– Карамазовская… сила низости карамaзовской.
– Это потонуть в разврате, задавить душу в растлении, да, да?
– Пожалуй, и это… только до тридцати лет, может быть, и избегну, а там…
– Как же избегнешь? Чем избегнешь? Это невозможно с твоими мыслями.
– Опять-таки по-карамазовски.
– Это чтобы «все позволено»? Все позволено, так ли, так ли?[461]
Именно Алеша формулирует важнейшую для авторского замысла проблему «земляной карамазовской силы»: «Братья губят себя ‹…› отец тоже. ‹…› Тут „земляная карамазовская сила“ ‹…› земляная и неистовая, необделанная… Даже носится ли Дух Божий вверху этой силы – и того не знаю»[462].
Развитие сюжета, особенно нравственное возрождение Дмитрия, призвано показать, что в карамазовской природе заключена и «жажда жизни» – потенциальный источник веры и спасения в христианском смысле. Жажда жизни, напоминающая инстинкт самосохранения, была свойственна уже Раскольникову. Именно она уберегла его от безумия и побудила признать вину. Тот факт, что жажду жизни в «Братьях Карамазовых» утверждает Иван, а на собственном опыте познает прежде всего Дмитрий[463], служит более дифференцированному, чем в «Преступлении и наказании» (1866), изображению свободы выбора между жизнью и смертью, добром и злом. При этом душевное заболевание, постигающее евклидов разум Ивана, противопоставляется христианскому смирению чувственной натуры Дмитрия с прямо-таки плакатной наглядностью.
Кроме того, высказанный в романе парадоксальный тезис о карамазовской низости как о потенциальном источнике нравственного спасения призван опровергнуть еще одну «опасную» рационалистическую идею – возможность преодолеть порочные задатки путем радикального отрицания ценности биологического отцовства. В финале своего красноречивого выступления защитник Фетюкович, опираясь на предпосылку, что «‹…› родивший не есть еще отец, а отец есть – родивший и заслуживший»[464], делает вывод, что совершенное Дмитрием убийство нельзя назвать отцеубийством[465]. Отцовство, сведенное к биологическому аспекту, т. е. к зачатию и передаче отрицательных качеств или болезней (Фетюкович приводит в пример потомственный алкоголизм), – это еще не отцовство:
Вид отца недостойного ‹…› невольно подсказывает юноше вопросы мучительные. Ему по-казенному отвечают на эти вопросы: «Он родил тебя, и ты кровь его, а потому ты и должен любить его». Юноша невольно задумывается: «Да разве он любил меня, когда рождал? ‹…› он не знал ни меня, ни даже пола моего в ту минуту, в минуту страсти, может быть разгоряченной вином, и только разве передал мне склонность к пьянству – вот все его благодеяния»[466].
«Конструктивизм» Фетюковича – кульминация пронизывающего весь текст сомнения в значимости биологического отцовства или материнства[467]. Его аргументация, равно как и психиатрическая экспертиза, призвана выявить смягчающие обстоятельства, уменьшающие вину Дмитрия. Цель аргументации самого Достоевского, напротив, – доказать, что лишь полное и сознательное признание, даже непосредственное проживание собственной наследственности, сколь угодно отрицательной, ведет к истинному ее преодолению, т. е. к возможности принимать свободные, ничем не ограниченные решения.
Это, однако, не значит, что Достоевский сводит вопрос отцовства к биологическому детерминизму, так как в «Братьях Карамазовых», равно как и в «Подростке» и в «Бесах», очевидна проблема неудавшегося, несостоявшегося отцовства, а также его ведущей роли в разложении (русской) семьи. Недаром наряду с образом отца, в буквальном смысле забывающего о детях, возникают такие заменяющие отца фигуры, как Зосима и Кутузов, играющие конститутивную – положительную или отрицательную – роль в личностном развитии детей, которыми пренебрегли родные отцы. В этом наглядно воплощается идея необходимости «созидать» семью, не сводимую к биологической данности[468]. Такое созидание возможно лишь путем «неустанного труда любви»[469], что делает семью местом, где «деятельную любовь» (одна из ключевых идей романа) возможно познать в непосредственном опыте. Эту мысль высказывает отставной штабс-капитан Снегирев во время первого разговора с Алешей:
– Позвольте же отрекомендоваться вполне: моя семья, мои две дочери и мой сын – мой помет-с. Умру я, кто-то их возлюбит-с? А пока живу я, кто-то меня, скверненького, кроме них возлюбит? Великое это дело устроил Господь для каждого человека в моем роде-с. Ибо надобно, чтоб и человека в моем роде мог хоть кто-нибудь возлюбить-с…[470]
То обстоятельство, что такая любовь живет в семье, где сосредоточились всевозможные физические и психические патологии (сам штабс-капитан пьет, у его слабоумной жены и у горбатой дочери парализованы ноги, сын Илюша смертельно болен), превращает семью Снегиревых в положительную противоположность семейству Карамазовых. В данном случае патологическое становится источником любви, апофеоз которой – завершающая роман сцена похорон Илюши.
Болезнь и смерть сына Снегиревых, сплачивающие родных и друзей, резко контрастируют с («коллективным») убийством отца Карамазовых, чье погребение упоминается лишь вскользь. Точно так же мучительное раскаяние Илюши в садистском эксперименте, предпринятом по наущению Смердякова и приведшем к гибели бездомной собаки, противоположно отцеубийственному эксперименту, в котором Иван, осуществивший его руками Смердякова, не способен понастоящему раскаяться. Именно любовь в состоянии преодолеть биологические ограничения в положительном ключе: показательно, что Снегирев называет сына «милый батюшка»[471].
Жак Лантье («Человек-зверь») и Дмитрий Карамазов: импульсивное убийство и свобода выбораУстройство контрфактуального эксперимента, инсценированного Достоевским в «Братьях Карамазовых» и направленного против Золя, можно точнее всего пояснить путем сравнения с романом «Человек-зверь», рассказывающим историю убийства на сексуальной почве. В поступках протагониста, машиниста паровоза Жака Лантье, отчетливо прослеживается детерминирующее влияние болезненных биологических задатков. Жак Лантье – образцовый пример натуралистического персонажа, чьи поступки изначально предопределены внутренними факторами, значительно ограничивающими свободу выбора. Борьба Лантье с атавистическими инстинктами заведомо проиграна, человек обречен уступить «зверю». Литература натурализма демонстрирует читателям, что над человеком властвуют импульсы, аффекты, предрасположенность и влияние среды, почти никогда не дающие свернуть с предначертанного пути вырождения.
Лантье – один из немногих персонажей цикла «Ругон-Маккары», сознательно размышляющих о собственной потомственной ненормальности и о патологической «трещине» (fêlure). Протагонисты большинства отдельных романов плохо осведомлены о семейной родословной, исследование и интерпретация которой остаются прерогативой доктора Паскаля (гл. II.2)[472]. Именно высокая сознательность Лантье в этом вопросе, его способность к рефлексии и позволяет сравнить «Человека-зверя» с «Братьями Карамазовыми»: как сказано выше, в романе Достоевского вопрос наследственности обсуждается на уровне персонажей.
Мысль о возможном влиянии патологической наследственности на поступки особенно беспокоит Дмитрия, который испытывает отвращение к отцу и боится в себе отцовских неконтролируемых инстинктов и импульсов. Особенно ненавистно ему отцовское лицо, «его кадык, его нос, его глаза»[473], причем Карамазов-старший, что характерно, как раз гордится своей физиономией, сравнивая ее с лицом римского патриция времен упадка[474]. Дмитрий инстинктивно ненавидит дегенеративные черты отца, которые, будучи унаследованы, могут проявиться и в сыне. Достоевский создает типичную для натурализма повествовательную ситуацию: будь «Братья Карамазовы» натуралистическим романом, «карамазовский зверь» бесповоротно предопределил бы судьбу Дмитрия, толкнув его на неминуемое убийство. На первый взгляд может показаться, что таков и будет исход сцены, когда Дмитрий оказывается близок к совершению убийства. Стоя в саду, он сбоку наблюдает за отцом, выглядывающим из окна в надежде увидеть Грушеньку:
Весь столь противный ему профиль старика, весь отвисший кадык его, нос крючком, улыбающийся в сладостном ожидании, губы его, все это ярко было освещено косым светом лампы слева из комнаты. Страшная, неистовая злоба закипела вдруг в сердце Мити ‹…› Это был прилив той самой внезапной, мстительной и неистовой злобы, про которую, как бы предчувствуя ее, возвестил он Алеше в разговоре с ним в беседке четыре дня назад, когда ответил на вопрос Алеши: «Как можешь ты говорить, что убьешь отца?» ‹…› «Боюсь, что ненавистен он вдруг мне станет своим лицом в ту самую минуту. ‹…› Вот этого боюсь, вот и не удержусь…» Личное омерзение нарастало нестерпимо. Митя уже не помнил себя и вдруг выхватил медный пестик из кармана…[475]
Ситуация, которой боялся Дмитрий, воплощается в точности так же, как он предчувствовал. «Безудерж» импульсов, запускающий неуправляемую, иррациональную цепную реакцию, как будто делает отцеубийство неминуемым. Изображая борьбу Лантье с атавистическими фантазиями об убийстве женщин, Золя показывает, к чему подобные инстинктивные порывы приводят в художественном мире натурализма. Французский писатель прибегает к метафоре парового двигателя, о которой Юрген Линк пишет:
Подобно машинисту локомотива, регулирующему паровую силу машины при помощи приборов, «цивилизованный» мозг пытается управлять создающими высокое давление жизненными инстинктами телесного низа (entrailles, viscères). В обоих случаях потеря управления приводит к крушению, к взрыву насилия или к изнасилованию (violence/viol), к убийству[476].
Постоянное наблюдение бдительного мозга за телесной «машиной», свидетельствующее об осознанном страхе денормализации, не уберегает Лантье от неотвратимого деяния. Самонаблюдение, которое могло бы пресечь предрешенный процесс, изменяет ему в тот самый момент, когда вид обнаженной шеи его возлюбленной, Северины, запускает реакцию, подобную реакции Дмитрия Карамазова при виде ненавистного отцовского профиля:
Северина все приближалась, и Жак, пятясь, оказался у самого стола, дальше ему уже некуда было отступать, а она стояла перед ним, ярко освещенная лампой. Никогда еще Жак не видал ее такой: волосы молодой женщины были высоко подобраны, сорочка спустилась так низко, что открывала шею и грудь. Он задыхался, тщетно борясь с собой, но отвратительная дрожь уже охватывала его, кровь яростной волною кинулась ему в голову. Он все время помнил, что нож тут, на столе, позади него, он почти физически осязал его – надо было только протянуть руку![477]
Лантье убивает, Дмитрий удерживается. Лантье не раскаивается в содеянном: напротив, он испытывает облегчение от прекращения изнурительной борьбы с собственной природой. Дмитрий же чувствует, что его спас Бог, и признает свою вину, в конечном счете состоящую в нездоровых инстинктах. Каким бы непостижимым ни казалось его решение не убивать, оно возвращает ему человеческую индивидуальность и ответственность, опровергая тезис о механическом действии инстинктов.
В этом контексте отчаянные выкрики Дмитрия при аресте на постоялом дворе в Мокром о неповинности в крови отца[478] обретают дополнительный смысл, соответствующий символическому аспекту крови в рамках характерной для XIX века литературной концепции наследственности[479]. В этом крике выражено заявление о невиновности в собственной биологической природе. Ведь Дмитрий хоть и не убил отца, вину все же признает – потому что хотел убить. Само желание убить Дмитрий объясняет «отцовской кровью», собственной больной наследственностью, в которой он не виноват. Готовность же все-таки нести за это ответственность знаменует собой начало его нравственного возрождения.
Эксперимент Достоевского содержит в себе и собственную противоположность, контрэксперимент, который предназначается для проверки исходной гипотезы (т. е. решающего вопроса о допустимости нарушения этических запретов под влиянием иррациональных, бессознательных, физиологических сил) и ставится в похожих условиях, но дает противоположный результат. Судьба Ивана, который пассивно поддерживает зло, способствует свершению этого зла руками Смердякова и, неспособный к чистосердечному раскаянию, впоследствии заболевает тяжелым нервным расстройством, призвана доказать, что рациональное мышление и религиозный скептицизм не могут победить биологическое дурное начало, а лишь укрепляют его.
Давая Смердякову косвенное согласие на отцеубийство, то есть решаясь на убийство как на преступление запрета[480], Иван действует отчасти бессознательно, не в силах контролировать собственный голос и собственные слова, словно повинуясь инстинктам[481]. Возникает впечатление, что Иванова рациональная теория вседозволенности – это лишь теоретическая надстройка или ширма, скрывающая некое патологическое, неуправляемое начало, нечто такое, чему Иван, опять-таки слагая с себя вину, приписывает во время судебного процесса антропологический аспект, предвосхищающий учение Фрейда: «Кто не желает смерти отца?»[482]
Кроме того, разные судьбы Дмитрия и Ивана должны показать, что в дегенеративной биологической силе Карамазовых содержится и потенциал самопреодоления, который, однако, доступен лишь тому, кто интуитивно верит в Бога. Таким образом, Достоевский с успехом сводит натуралистический тезис к абсурду, «доказывая» недостаточность позитивистских представлений о чисто физиологической сущности человека и демонстрируя тем самым метафизическую сторону его природы.
Смердяков, или Крах контрфактуального контрэкспериментаС точки зрения созданных автором экспериментальных условий «Братья Карамазовы», как и «Преступление и наказание», – это роман об одном преступлении. На примере этого преступления, вокруг которого почти навязчиво вращается действие, доказывается опасность нарушения этических запретов. Повторяя литературный эксперимент, ранее поставленный в «Преступлении и наказании», в «Братьях Карамазовых» Достоевский несколько изменяет экспериментальную ситуацию, призванную – в отличие от лабораторного опыта – «подтвердить» результат. С одной стороны, изменения касаются «распределения» фигуры преступника между несколькими персонажами, а также системы многочисленных двойников, повторяющих или отражающих образы героев. С другой стороны, изменения затрагивают повествовательную подачу, заметно ослабляя функцию аукториального рассказчика и вместе с тем усиливая значение повествовательных точек зрения. При этом важнейшую тематическую роль играет введение вопроса о биологическом детерминизме, которого не было в «Преступлении и наказании».
Однако нарративная организация эксперимента, повторно предпринятого в «Братьях Карамазовых», содержит в своей основе парадокс. Испытание человеческой свободной воли перед лицом зла требует фактического пересечения черты, т. е. убийства. Без убийства не было бы и катарсиса, евангельской «смерти пшеничного зерна»[483] – предпосылки воскресения в вере. В художественном мире Достоевского зло – это не просто теоретическая возможность. Ответственность за происходящие в мире события, суть которых заключается в фундаментальной борьбе добра и зла за человеческую душу, несет дьявол – противник Бога и искуситель рода человеческого[484]. Но чтобы заставить зло открыть в преступлении свое истинное лицо и продемонстрировать торжество Бога в душе отдельно взятого человека, Достоевский вынужден кого-то принести в жертву. Тем самым он как будто утвердительно отвечает на вопрос, поставленный в том дьявольском мысленном эксперименте, который Иван описывает Алеше:
– Представь, что это ты сам возводишь здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им наконец мир и покой, но для этого необходимо и неминуемо предстояло бы замучить всего лишь одно только крохотное созданьице ‹…›[485].
Таким образом, в своем экспериментальном мире Достоевский словно бы берет на себя ту самую роль, которую Иван Карамазов полемически приписывет Богу: роль экспериментатора, создавшего людей как «пробные существа»[486] с целью испытать себя в извечной борьбе со злом. (Вуайеристская) жестокость Достоевского как экспериментатора, исследующего свободу воли, ничем не уступает жестокости Золя, обрекающего своих персонажей на смерть ради того, чтобы проверить детерминированный характер вырождения.
Однако именно эта структурная необходимость преступления и подразумевает наличие в «Братьях Карамазовых» скрытого, парадоксального мотива, заставляющего усомниться в неоспоримости опровержения биологического детерминизма. Начнем с того, что процитированное выше предсказание убийства, сделанное Ракитиным («Смердит у вас. ‹…› В вашей семейке она будет, эта уголовщина. Случится она между твоими братцами и твоим богатеньким батюшкой»[487]), оказывается поразительно точным. Оно указывает не только на общую нравственную вину старших братьев, Дмитрия и Ивана, но и на фактического убийцу, Смердякова, чья фамилия отсылает к глаголу «смердеть». Точность предсказания, хотя сам Ракитин ее и не сознает, обращает читательское внимание на его детерминистскую предпосылку, заложенную самим автором и нашедшую парадоксальное подтверждение в образе Смердякова.
Своего рода «расщепление» фигуры убийцы в «Братьях Карамазовых», обусловленное дифференциацией возможного базового отношения человека к злу[488], отводит Смердякову функцию орудия дьявола, роль воплощенного зла. Неотвратимость участи Смердякова, равно как и его неспособность к развитию, делающие его единственным безвозвратно погибшим грешником в романе[489], мотивированы не только его структурной функцией в системе персонажей, но и биологическим детерминизмом, обусловившим психофизические стигматы вырождения, которыми отмечен Смердяков.
Образ Смердякова во многом соответствует картине дегенеративной болезни с обязательным диахронным аспектом – запойным пьянством деда Ильи и полным «идиотизмом» матери Лизаветы Смердящей[490]. В синхронной же перспективе Смердяков составляет, как сказано выше, конечную точку прогрессирующего истощения карамазовской жизненной силы. Его эпилептические припадки, отвечающие медицинским представлениям того времени, служат образцовым примером неизлечимого нервного расстройства, из‐за которого «он вдруг как-то необычайно постарел, совсем даже несоразмерно с возрастом сморщился, пожелтел, стал походить на скопца»[491]. Уже в детстве Смердяков проявляет признаки патологического нравственного помешательства, как будто позаимствованные из учебника психиатрии, – садистское пристрастие «вешать кошек и потом хоронить их с церемонией»[492].
Показательно, что другие действующие лица «ощущают» неминуемость его участи, обрекающую его на роль убийцы в криминально-антропологическом смысле слова. Это выражается в проведении параллели между ночью рождения Смердякова и ночью убийства. Дмитрий перелезает через забор отцовского сада, и об этом в романе говорится с его точки зрения: «Тут он выбрал место и, кажется, то самое, где, по преданию, ему известному, Лизавета Смердящая перелезла когда-то забор»[493]; с точки зрения Марфы Игнатьевны сказано: «‹…› стоны повторились опять, и ясно стало, что они в самом деле из саду. „Господи, словно как тогда Лизавета Смердящая!“ – пронеслось в ее расстроенной голове»[494].
Может показаться, что Смердяков осуществляет эксперимент убийства в надежде избежать неминуемой участи, продиктованной внутренней романной логикой, поскольку убийство, основанное на аксиоме «все позволено», сулит преступнику неограниченную свободу выбора и действий. Однако то обстоятельство, что он становится не только орудием, но и жертвой этой атеистической аксиомы, сообщает контрфактуальному контрэксперименту Достоевского тревожный оттенок биологического детерминизма[495].
Таким образом, «Братья Карамазовы» показывают всю зыбкость сведения к абсурду как литературного приема. Сложность и семантическая неоднозначность романа не позволяют представить логические «нелепости» художественного мира со всей наглядностью. Вытекающий отсюда вывод в заостренном виде звучит так: контрэксперимент Достоевского терпит неудачу из‐за авторского повествовательного мастерства, для которого ясная структура романа идей, каким должны были стать «Братья Карамазовы», оказывается слишком простой. В этом отношении Д. Н. Мамин-Сибиряк избирает более подходящие предпосылки для успешного контрфактуального эксперимента с приваловской кровью, анализу которого посвящена следующая глава.



