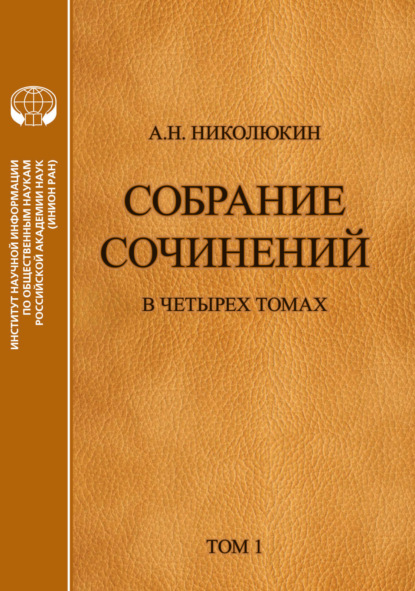
Полная версия:
Собрание сочинений в 4 томах. Том 1. Литературные связи России и США. Становление литературных контактов
Рассказывая о Нуньесе де Бальбоа, испанском конкистадоре, достигшем американских берегов Тихого океана, «Примечания в Ведомостях» впервые заговорили об уничтожении испанскими завоевателями индейских аборигенов. В довольно неуклюжей языковой манере того времени было сказано, что Бальбоа понуждал испанцев «против безвинных американцов некоторые бесчеловечия показывать».
Сведения об Америке медленно, но неуклонно распространялись в русской словесности. В 1730 г. Антиох Кантемир в примечаниях к своему переводу «Разговоров о множестве миров» секретаря Французской академии Бернара Фонтенеля дает уже точную дату открытия Америки, а Колумба называет «изобретателем Америки»[26].
Газета «Санкт-Петербургские Ведомости» с первых лет своего существования печатала сообщения из Америки. Первое из них появилось 26 января 1728 г.: «Из Бостона из новой Англии пишут, что там 29 дня октября прошлого года в вечеру о 10 часе при тихои и яснои погоде вдруг великое тресение земли слышно было, но оное не боле как 2 минуты было, и токмо некоторые дворы от оного не много повреждены»[27]. С тех пор известия из Америки начинают более или менее регулярно публиковаться на страницах газеты. Особое внимание уделялось соперничеству европейских держав в Америке.
Начало торговых сношений с Америкой нашло отражение в стихах Тредиаковского на новый год, написанных в 1732 г. и зачитанных автором 1 января 1733 г.:
Купля благословенна,Придет обогащенна,Нам содружит народы,Американски роды[28].Число сообщений из Америки возросло и приняло более систематический характер в период с 6 мая 1748 г. до 23 марта 1751 г., когда отдел иностранных известий в газете редактировал М.В. Ломоносов. На первой полосе было напечатано сообщение из Бостона о заключении там союза с шестью «американскими народами», т. е. индейскими племенами[29]. «Санкт-Петербургские Ведомости» писали о столкновении английских колоний в Америке с французами и испанцами[30], о войнах с индейцами[31], о черных невольниках, бежавших в леса и образовавших там свою общину[32]. Неизменно сообщалось о росте торговли с Америкой и принимаемых мерах «к безопасности купечества, дабы оное впредь столь многим неспокойствам подвержено не было»[33].
Ради русских купцов печатались сообщения, подобные следующему: «Помещики около Бостона, что в Новой Англии, приняли намерение пеньку там сеять, что всеконечно умножению купечества в сей провинции немало способствовать будет, также и другим Аглинским селениям в Америке»[34].
Внимание Ломоносова не могло не привлечь известие из Лондона: «Здесь трудятся над приготовлениями к новой експедиции, такой же, какая предпринята была в 1746 и 1747 годах, дабы вновь отведать, чтоб сыскать проход в северозападной Америке и исполнить великое намерение, чтобы надежнейшим и нестоль опасным путем, миновав Магелландский пролив и нос Доброй Надежды, ходить в Индию»[35].
Подбор иностранных сообщений соответствовал географическим интересам самого Ломоносова, внесшего большой вклад в изучение полярных морей и плавания по Северному Ледовитому океану.
Наиболее важным материалом иностранного раздела газеты за период, когда его редактировал Ломоносов, стало «Известие о нынешних Аглинских и Францусских селениях в Америке», появившееся в «Санкт-Петербургских Ведомостях» 25 ноября 1750 г. как оригинальный текст, без ссылки на иностранный источник. В статье впервые в России дано географическое и историческое описание Северной Америки и ее населения.
Мы не обладаем документальным подтверждением авторства Ломоносова в отношении этой статьи, однако текстологическое сопоставление с его позднейшими географическими трудами позволяет предположить, что перед нами одна из ранних географических работ Ломоносова, написанная им самим или при его непосредственном участии (см. Приложения).
В своих географических трудах Ломоносов вновь возвращается к теме «аглинских селений» в Америке. Говоря о населении Алеутских островов, он пишет: «…зеркала и железные орудия показывают в небольшом отдалении селения людей, у коих сии ремесла знаемы. Калифорния и селения ишпанские в Мексике суть в немалом отдалении: то думать должно, что оное получают из аглинских селений в Гудсонском заливе, где Новый Иорк построен»[36]. Можно надеяться, что дальнейшее изучение источников позволит окончательно решить вопрос об атрибуции этой первой русской статьи о Северной Америке.
В русскую поэзию Америка вошла в середине XVIII в. благодаря Ломоносову как страна, откуда алчные европейцы вывозят золото. В «Письме о пользе стекла» (1752) Ломоносов писал об американских индейцах:
В Америке живут, мы чаем, простаки,Что там драгой металл из сребреной рекиДают европскому купечеству охотноИ бисеру берут количество несчетно.Как бы комментируя и развивая эти ломоносовские строки, А.Н. Радищев в «Слове о Ломоносове», вошедшем в «Путешествие из Петербурга в Москву», писал: «Желаешь ли снискать вящее искусство извлекати сребро и злато? Или не ведаешь, какое в мире сотворили они зло? Или забыл завоевание Америки?..»[37]
Изображение алчности и колониального разбоя в Америке встречаем мы и у А.П. Сумарокова. В стихотворении «О Америке» звучит гнев поэта, обличающего европейских захватчиков:
Коснулись Европейцы суши,Куда их наглость привела,Хотят очистить смертных души,И поражают их тела:В руке святыя держат правы,Блаженство истинныя славы,Смиренным мзду и казни злым,В другой остр мечь: ярясь пылают,И ближним щастия желают,Подобно как себе самим[38].Еще в 1725 г., отправляя В. Беринга в камчатскую экспедицию, Пётр I повелел найти, где Азия «сошлася с Америкою». Хотя казак Семён Дежнёв в 1648 г. прошел через пролив, отделяющий Азию от Америки, только в 1732 г. русский мореплаватель Иван Фёдоров впервые нанес на карту американский берег этого пролива, названного позднее Беринговым. Лишь после этого и второй камчатской экспедиции Беринга, достигшей в 1741 г. побережья Северной Америки, был окончательно разрешен вопрос, «сошлася ли Америка с Азией», поставленный Петром I[39]. Вскоре появился и термин «Русская Америка» (так называли Аляску и Алеутские острова), получивший распространение к 60-м годам XVIII в.
Тема Русской Америки возникла почти одновременно в поэзии Ломоносова и Сумарокова. В героической поэме «Петр Великий» (1761) Ломоносов писал о пути русских в Америку:
Колумбы Росские, презрев угрюмый рок,Меж льдами новый путь отворят на восток.И наша досягнет в Америку держава[40].Эти ломоносовские строки стали эпиграфом к книге русского мореплавателя Г.И. Шелехова, «росского Колумба», как назвал его в надгробии Державин, возглавившего экспедицию к берегам Русской Америки[41]. Шелехов стал одним из основателей Российско-американской компании, созданной для освоения Русской Америки, хотя ему и не довелось дожить до ее официального учреждения в 1799 г.
На следующий год после создания Российско-американской компании Г.Р. Державин в «Мнении о постройке мореходных судов частными людьми» высказался за развитие торговли с Америкой и призвал российское купечество «все свои обратить силы на Левант, на Индию, на Китай и Америку, которые давно, простирая руки, просят, чтоб Россияне брали от них сокровища их без всяких соперничеств весьма выгодным образом»[42]. Столетнее существование Русской Америки, проданной царским правительством в 1867 г. Соединенным Штатам, было первым реальным фактором исторических связей народов России и Америки.
В то время когда американцы еще вели борьбу за национальную независимость, Россия уже простиралась в трех частях света – Европе, Азии и Америке. Русские вышли к Тихому океану и перешагнули его, став на американском континенте. Русская поэзия XVIII в. с гордостью говорила о росте могущества России, славила российских колумбов, прокладывавших свой путь в Америку. Сумароков называл Екатерину владычицей «трех частей земного круга». Пушкин приводил слова Державина о Екатерине: «…в трех частях света владычество имеющая» (XI, 106)[43]. Отмечая, что Державин превозносил великое будущее России, Ф. Энгельс цитировал его двустишие, в сжатой форме выражающее политику Екатерины:
На что тебе союз? – о Росс!Шагни – и вся твоя вселенна[44].В «Дифирамбе государыне императрице Екатерине Второй на день ее тезоименитства ноября 24 дня 1763 года» Сумароков воспевает «Российского американца» (индейца) и Русскую Америку, связанную в представлении современников с именем Витуса Беринга, умершего во время зимовки на Командорских островах, а также будущий расцвет мореплавания, торговли и культуры в этой части России:
За протоком Окияна,Росска зрю Американа,С Азиятских берегов.Тщетно глубины утроба,Мещет бурю, скорбь и глад;Я у Берингова гроба,Вижу флот, торги и град[45].В 60-е годы XVIII в. начинается период более пристального знакомства русских литераторов и русских читателей с Америкой. Определяющую роль в этом процессе сыграли русские просветители, их журналы и газеты. Вместо диковинной и полуфантастической страны, где живут то ли троглодиты, то ли люди с двумя головами[46], Америка приобретает в сознании русских авторов и читателей конкретно-исторический облик, а со времени войны за независимость в 1775–1783 гг. между Россией и Соединенными Штатами завязываются уже торговые и культурные связи.
2
Русские просветители и «словутая страна»
И мы страну опустошения назовем блаженною…
А.Н. РадищевВ 60–80-е годы XVIII в. возникают первые взаимные симпатии и интересы между народами России и Америки. Выходившее в Москве «Собрание Лучших Сочинений», издававшееся учителем Д.И. Фонвизина по Московскому университету профессором И.Г. Рейхелем, опубликовало в 1762 г. «Диссертацию о вероятнейшем способе, каким образом в Северной Америке первые жители поселились», переведенную с латинского языка графом Артемием Воронцовым. Ссылаясь на голландского юриста и социолога XVII в. Гуго Гроция, автор диссертации развивает идею о том, что американские индейцы – выходцы из «восточной Татарии или Камчатки»[47]. В 1765 г. появилась книга под названием «Описание земель Северной Америки и тамошних природных жителей», переведенная с немецкого языка А. Разумовым. Эти первые на русском языке сочинения о Северной Америке знакомили с историей открытия и колонизации страны, с природными условиями и нравами ее жителей.
На русском языке получила распространение «американская повесть» о старике-индейце, спасшем молодого английского офицера. Эта чувствительная история печаталась под разными заглавиями: «Великодушие дикого человека» (перевод с немецкого)[48], «Абенаки» (перевод с французского)[49], «Абенакизец. Нравоучительная повесть» (перевод с немецкого Дм. Рыкачева)[50], «Повесть о диком абенакизце»[51], «Абенаки, или Пример чувствительности индейцов» (за подписью поэта Авраама Лопухина)[52], «Абенаки. Американская повесть» (перевод с французского)[53].
Разного рода повести и очерки об американских индейцах довольно часто появлялись в русских журналах конца XVIII в. В них честные, хотя нередко и жестокие индейцы противопоставлялись испорченным европейцам. Изображение индейцев носило, особенно в первое время, условно-руссоистский характер. В журнале «Детское Чтение для Сердца и Разума», издававшемся Н.И. Новиковым в качестве приложения к «Московским Ведомостям», появилась назидательная новелла «Дикий американец»[54]. П.И. Богдановичем была дважды издана повесть «Дикий человек, смеющийся учености и нравам нынешнего света»[55], пользовавшаяся, по-видимому, успехом у читателей. Поэт Александр Савин переводит пасторальный рассказ И.Г. Кампе «Пример жестокости индейцев»[56]. В другом приложении к газете «Московские Ведомости» – журнале «Приятное и Полезное Препровождение Времени» – напечатана в переводе с английского сентиментальная драматическая сценка «Разговор в царстве мертвых. Меркурий, поединщик и дикий американец»[57]. Этот перечень можно было бы продолжить[58].
Индейская тематика постоянно привлекала внимание выдающегося русского просветителя Н.И. Новикова. Мемуарный роман И.Г. Пфейля «Похождение дикого американца» в переводе Ивана Богаевского вышел у Новикова двумя изданиями – в Петербурге (1773) и в Москве (1779). В год окончания войны за независимость США Новиков опубликовал перевод книги Жана Бернара Боссю «Новые путешествия в Западную Индию, содержащие в себе описание разных народов, живущих в окружности большой реки Сент-Луи, обыкновенно называемой Мисисипи». Русский рецензент книги Боссю писал, что она «заохочивает читателя» и «содержит в себе столько же приятности, сколько и пользы»[59].
В журнале Новикова «Покоящийся Трудолюбец» появилось «Письмо индейца о нравах европейцов», написанное в том же жанре записок простодушного и наивного наблюдателя, что и «Персидские письма» Монтескье и «Гражданин мира, или Письма китайского философа» Голдсмита. Очутившись в Европе, американский абориген пересказывает все увиденные им несообразности и приходит к выводу: «Одним словом, Европеец есть облеченное в тело противоречие. Для разведения спорящих сторон имеют они получающих за то плату людей, которые все тяжбы делают вечными. Для сохранения спокойствия в государстве покупает один сосед право судить другого… Люди, которые никогда не голодны, едят целый день; а кто голоден, должен поститься. Богатым дают в подарок тысячи, а убогим полушку»[60].
К жанру эпистолярной просветительской литературы о «естественном человеке» относится также «Письмо дикого американца, привезенного в Старый Свет из Нового». Простодушный индеец обращается к своему другу в лесах Америки: «Я нахожусь между Европейцами, таким народом, который просвещеннейшим себя почитает и в то ж самое время не стыдится возлагать узы рабства на тех, коих природа произвела может статься под единым созвездием». Царящая среди европейцев социальная и нравственная несправедливость глубоко поражает индейца. «Но вот, что для меня неразрешимою загадкою: они ежечасно твердят мне, что не дулжно притеснять никого, кто бы какого закона ни был; ибо де все мы братья, а сами, переплыв столь обширное море на такой большой лодке, отнимают у нас вольность и права человечества, сами грабят и теснят, да еще при том не стыдятся говорить, что они то делают из человеколюбия и желая нас просветить. Прекрасное просвещение! – Изрядное человеколюбие! – О! Сколько бы мы были блаженны, когда б не знали ни сего человеколюбия, ни их просвещения! Поля б наши не были обагрены кровию наших отцов, братьев и сродников…»[61].
Особое место индейская проблематика занимала в газете «Московские Ведомости», когда ее редактором был Н.И. Новиков. Уже в начале 1780 г. газета извещала, что «Индейцы объявили, от лица пяти народов, войну Американскому Конгрессу за то, что Американцы делали в их областях великие разорения»[62]. Через пять лет Новиков сообщал, что война с «индейскими народами» закончилась подписанием трактата, по которому немалая часть земель их отнята «в награждение тех убытков», какие причинили индейцы белым[63].
После окончания войны за независимость проблема индейцев приобрела новую остроту. Осенью 1785 г. из Нью-Йорка пришло известие, что «Индейцы, с которыми Конгресс в прошлом году заключил трактат, весьма оным недовольны» и не хотят отдавать тех земель, которые по договору у них отбирались[64]. В следующем номере газеты Новикова сообщалось, что американский конгресс отправил «несколько войск в те страны, где недавно Индейцы оказали свои свирепства»[65].
Индейцы сопротивлялись. «Находящиеся в Ниагарских окрестностях дикие Американцы вступили между собою в союз на тот единственный конец, чтобы независимым Американским Областям отмстить за разные притеснения, какие они с некоторого времени от них претерпевают»[66]. Вчерашние участники революции пришли в «величайшее беспокойство по причине союза Индейцев и войны, которою они уже угрожают. Конгресс просил Васгингтона, чтобы он принял на себя командование войсками противу оных; но он отказался от сего»[67]. О конфликте с индейцами, у которых конгресс отобрал земли, и о прямом истреблении индейских племен «Московские Ведомости» систематически писали на протяжении 1786–1787 гг.[68] На страницах газеты можно было прочитать о «бесчеловечном поступке» отряда полковника Робертсона в Виргинии, истребившего индейцев Чикамангского поколения близ озера Тене[69].
Свою расовую политику американское государство закрепило в первых же постановлениях. Наряду с истреблением индейцев «Американские Соединенные Области определили позволять селиться в Америке всем иностранцам, какой бы веры ни были, исключая жидов»[70]. Как бы в противовес измышлениям американских расистов по поводу индейцев газета Новикова предлагает своим читателям антропологическое описание американцев, как называли тогда обычно индейцев. «Американцы великорослы и имеют прямой стан. Сложение их крепко, но такой крепости, которая способнее к перенесению многих трудностей, нежели к продолжительной рабской работе, скоро их умерщвляющей: они имеют крепость хищных зверей, а не тяглых… Личные черты их правильны, но вид суров. Волосы их длинны, черны, прямы и столь жестки, как лошадиные. Бород они не имеют. Цвет лица их краснотемный. Сей цвет почитается ими за красоту и подделывается беспрестанным употреблением медвежьего сала и румян»[71].
В статье «Об образе правления у Американцев и о гражданском их установлении» газета Новикова писала о свободолюбии индейцев: «Свобода, в полном ее пространстве, есть любимая склонность Американцев, которой они всем жертвуют. Она делает им сносною жизнь сомнительную и бедную, и воспитание их таково, что сия склонность до крайности оным утверждается»[72].
«Американцы» для русского читателя XVIII и начала XIX в. – прежде всего индейцы. Самым известным произведением русской литературы XVIII в. об Америке стала комедия «Американцы» (1788), написанная И.А. Крыловым совместно с А.И. Клушиным, где героями выступают индейцы, изображенные согласно просветительской литературной традиции. В раннем стихотворении Пушкина «К Наталье» (1813) индейцы именуются «грубыми американцами». Н.А. Полевой в своем переводе «Легенды о Сонной Лощине» Ирвинга называл старого индейского вождя «старик американец»[73]. И даже в «Психологических заметках» В.Ф. Одоевского, написанных в 30-е годы и опубликованных в 1843 г., об индейце говорится как об американце, которого человек европейской культуры не в состоянии понять[74].
Глубокое осуждение новой, послереволюционной Америки, истребляющей индейцев, дано в «Путешествии из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева. Писатель-революционер рассматривает «заклание индийцов» как начало развития Америки по пути наживы и унижения человеческого достоинства. «Европейцы, опустошив Америку, утучнив нивы ее кровию природных ее жителей, положили конец убийствам своим новою корыстию»[75].
Н.М. Карамзин в «Послании к А.А. Плещееву» (1794) недвусмысленно выразил сложившееся к концу XVIII столетия отношение русской просветительской мысли к современной Америке:
Смельчак, Америку открывший,Пути ко счастью не открыл;Индейцев в цепи заключившийЦепями сам окован был[76].Интерес к Америке был вызван в русском обществе 80– 90-х годов XVIII в. событиями американской революции, или, как тогда говорили, отложением «аглинских селений» в Америке от Великобритании. В это время появляется ряд изданий, уделяющих пристальное внимание истории Америки. Русские книгочеи не расставались с 27-томным «Всемирным путешествователем» Жозефа де Ла Порта, одним из популярных сочинений того времени, содержащим сведения о всех известных странах и государствах. Книги Ла Порта, неоднократно переиздававшиеся на русском языке, имелись во всех больших библиотеках, собранных в конце XVIII в.
В восьмом томе «Всемирного путешествователя», наряду с Канадой, Флоридой и Ямайкой, рассказывалось об английских поселениях в Северной Америке и их культуре, о просветительно-миссионерской деятельности новоанглийского проповедника Джона Элиота (1604–1690), прозванного «апостолом индейцев» за то, что он первым стал обращаться к индейцам на их собственном языке, а затем перевел несколько церковных книг на язык массачусетских индейцев. Сообщалось и о культуре английских колоний в Северной Америке, в частности в Бостоне, население которого достигало в 40-е годы XVIII в., когда писалась книга Ла Порта, 20 тысяч человек: «Находится также в Бостоне пять или шесть типографий, в коих станы всегда заняты печатанием; и два раза в неделю издаются ведомости»[77].
Выпуская книгу Ла Порта в самый разгар войны в Америке, переводчик Я.И. Булгаков счел нужным пояснить раздел «Аглинские селения» своим собственным примечанием: «Всем известно, что аглинские в Америке селении отложились от Великобритании и усиливаются составить независимую республику: но никто предузнать не в состоянии, чем их война кончится, и в каком они тогда положении останутся, а потому и бесполезно кажется увеличивать сию книгу историею всех нынешних тамо происшествий, пока дело совершенно не решится и не переменит состояния Американских аглинских селений, поставя их на твердом и прочном основании»[78].
Другой не менее популярной книгой, содержащей сведения об Америке, была «История о странствиях вообще по всем краям земного круга», принадлежащая автору «Манон Леско» аббату Прево. Сочинение Прево (изданное в Университетской типографии у Н. Новикова в 22 частях в переводе М.И. Веревкина, автора пьесы «Точь в точь» из эпохи пугачёвского восстания) представляет собой целую библиотеку научных знаний того времени. Эти книги, как и составленное П.И. Богдановичем обозрение «О Америке»[79], давали изложение основных известных в Европе исторических, географических и социально-этнографических сведений о стране.
Глава об «аглинских сельбищах» в XIV части «Истории о странствиях» заканчивается прославлением Вашингтона, который «в настоящем столетии… произвел самую знаменитую политическую перемену», и «другого великого мужа, достойного называться Американским Фабиусом», – Франклина. Особенно примечательны рассуждения об итогах и смысле американской революции: «Положительные законы Соединенных Областей Северной Америки, изданные уже на свет, составляют уложение, столь же примечательное в летописях философских, как и произведенная основанием их перемена в летописях же политических. Проявили народное правительство, коего чистее никогда еще не существовало». М.И. Веревкин как бы предоставляет читателю сравнить «демократию» (понятие, переданное им как «народное правительство») с русским самодержавием.
Напечатать в русской книге, что «чистее» Американской республики никогда еще не было другого правления, означало бросить прямой вызов Екатерине II. Однако слово «революция», каким названы в оригинале американские события, в переводе отсутствует. Вместо фразы: «Из революции нередко возникают лучшие законы» – в напечатанном переводе читаем: «Из посреди наисильнейших потрясений областей нередко возникают лучшие законы. Человек, свергая с себя иго, которое находит тягостным, щастливым себя ставит, что мог отважиться на такое усилие»[80].
Первое оригинальное сочинение о «селениях аглицких» в Америке составил литератор и переводчик Дм. М. Ладыгин (Лодыгин). В предуведомлении к своей книге «Известие в Америке о селениях аглицких, в том числе ныне под названием Соединенных провинций» автор этой первой русской истории США рассказывает о попытке суммировать различные сведения об Америке, печатавшиеся как в иностранных новейших сочинениях, так и в русских «Ведомостях» – петербургских и московских: «И об Америке есть давно у нас в книгах показание: да не всем читателям ведомостей для справок подручно».
«Известие» Ладыгина написано красочным и своеобычным языком того времени. О Нью-Йорке повествуется: «Ней Юрк, Новый Юрк, страна так нарицаемая близ Новой Англии, найдена сперва Шведскими мореплавателями и населена при их Королеве Кристине, – потом Шведов выгнали Голландцы, а тех выгнали Агличане, и так по себе се проимяновали»[81]. О Филадельфии сообщалось, что там «еще теплее Азова и Астрахани», а из достопримечательностей города упомянута «знатная библиотека с натуральным кабинетом и монет собранием». Автор постоянно сравнивает Северную Америку с Россией и даже предлагает свое средство от американских мух, «называемых мускиты»: «Дегтю бы нашего березового или ныне ославленного мыла дегтярного туда отведать в посылку»[82].
В большинстве своем книги об Америке, появлявшиеся в России, были переводными. В типографии Новикова издана в переводе с немецкого книга Фридриха Вильгельма Таубе «История о аглинской торговле…» (1783), программный подзаголовок которой выражал отношение просветителей к революционной войне американского народа: «…с достоверным показанием справедливых причин нынешней войны в Северной Америке» (немецкое издание книги Таубе вышло в Лейпциге в 1776 г.). В 1790 г. в переводе И.И. Ливотова, автора работ по сельскому хозяйству, в Петербурге вышла «Сокращенная аглинская история от древнейших до нынешних времен, сочиненная г. Купером». К книге В.Д. Купера приложено «Описание войны Англии с Соединенными Американскими областями», дающее очерк истории этой войны вплоть до заключения в 1783 г. Парижского мирного договора.



