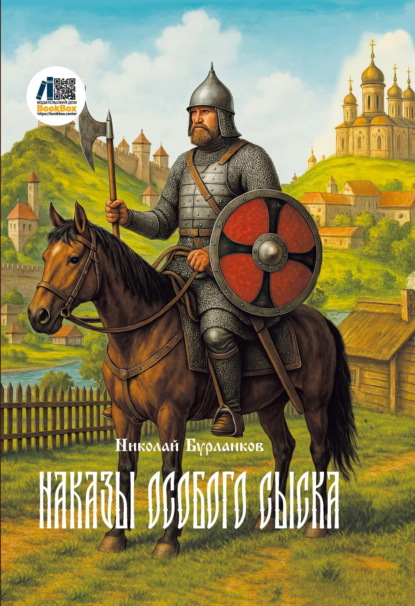
Полная версия:
Наказы Особого сыска
– Мать дома? – спросил Матвей, обращаясь к старшему.
– В церковь пошла, – отозвался тот, пристально разглядывая незнакомого человека – видели они его лишь мельком, с утра.
– В церковь? – удивился Матвей, вспомнив управляющего. – Сегодня же не воскресенье.
– Они там хоронят кого-то, – объяснил мальчишка.
Становилась понятной торопливость и мужиков, и управляющего, с какой они закончили работу. Смерть одного члена такой небольшой общины всегда касалась всех. Без ясных пока замыслов, что он собирается делать, Матвей тоже направился к церкви.
Но на поминки мог прийти любой, хоть родня, хоть прохожий. Удивительно, что всю жизнь человека сопровождает смерть, но он никак не может привыкнуть к ней. И смерть даже незнакомого ему человека почему-то Матвея зацепила.
Он с трудом заставил себя войти в церковь, но прежде чем войти, долго крестился на пороге; ему казалось, чем больше крестных знамений он на себя наложит, тем проще будет войти на отпевание. Наконец решился и шагнул внутрь.
Внутри было темно, только перед иконостасом горело несколько свечей. Народ жался вдоль стен, а всю середину занимал гроб, вокруг которого ходил священник с кадилом и заунывно читал заупокойные молитвы. На вновь вошедшего никто не обратил ни малейшего внимания.
Матвей еще несколько раз усиленно перекрестился и отошел к стене. Вокруг стояли селяне, но возле самого гроба, у головы покойного, Матвей с удивлением увидел людей явно боярского рода: один, уже в возрасте, чуть младше Шеина, боярин, его жена и, видимо, их дочь – в темном платке, скрывавшем ее волосы и оставлявшем только белеющее пятно лица. Как видно, хоронили кого-то не простого.
– Молитесь о душе его, – наконец провозгласил священник. – Бог милостив; страдания этого мира для покойного уже завершились, а душа его во власти Господа.
Люди потянулись прощаться, и Матвей незаметно выскользнул наружу.
Вскоре народ стал расходиться.
– Ты на кладбище не пойдешь? – спрашивал кто-то.
– Нет, там и без меня народу будет много. А вот вечером всех на поминки звали – и дворовых, и селян; туда пойду непременно.
– Кого хоронят? – подошел к ним Матвей, сняв шапку и крестясь на церковный крест.
– Так младший брат хозяина, третьего дня с коня упал да и шею сломал, – с охотой сообщил один из мужиков. – О покойных вроде как грешно плохое говорить, но правду сказать, братец-то так себе человек был, не чета нашему хозяину.
– Да, кутить любил, – признал второй. – А напьется, так ни одной бабы не пропустит, чтобы не приставать, и ни одного мужика, чтобы морду не набить.
– Однако ж, – возразил первый, – и сам он по пьяни в морду получал, и надо отдать ему должное, никогда суда и правежа не требовал.
– Так понимал, наверное, что старший брат не на его сторону станет, потому и не требовал, – рассудительно заметил второй.
– Значит, говорите, на поминки всех звали? – уточнил Матвей.
– Всех, всех, так что и ты заходи, боярин, коли пожелаешь.
Хозяйка была уже дома, когда Матвей вернулся, и у нее сидела соседка.
– Да у тебя гость! – Соседка поднялась, окидывая Матвея шаловливым взглядом и набрасывая на волосы платок, лежавший на плечах.
– Постоялец, – отозвалась хозяйка без охоты. – Вчера вечером приехал, да уж ночь, почитай, была. Промок, устал, измаялся, вот и пустила.
– Ну постоялец-то ничего, уже не уставший. – Соседка – молодая женщина, но старше Матвея лет на десять – вновь скользнула по нему взглядом. – Так я пойду, не буду вам мешать. Ты вечером на поминки пойдешь?
– Не пойду. Своих дел хватает.
После ее ухода хозяйка в сердцах плюнула ей в след:
– Вот ведь теперь всем растреплет, что у меня молодой парень остановился.
– Не переживай. – Матвей чувствовал себя неловко. – Может, я сегодня и съеду.
– Да живи, чего уж теперь, – махнула она рукой. – Всем болтать не запретишь. А уж верить али нет тому, что говорят, – это дело того, кто слушает, а не того, кто болтает.
– А что не хочешь на поминки идти? – уточнил Матвей.
– Да не помяну я добром покойного. Усоп он, и слава Богу, скажу. Он ведь и ко мне, зараза такая, приставал пару лет назад, все говорил – тяжко мне без мужика.
– А коли так его не любят у вас – верно ли, что сам с коня упал? – Матвей вдруг вспомнил рассказы Хилкова. – Может, помог кто?
– Ну, про то я не ведаю, – отмахнулась тряпкой хозяйка. – Это ты у тех, кто там был, спрашивай. Хотя, наверное, желали ему, чтобы он шею свернул, многие. Вот оно и получилось так… – Она замерла посреди избы с тряпкой в руках, точно забыв, что делала, и уйдя куда-то глубоко в воспоминания.
Глава 2
Боярин
Как стало смеркаться, к распахнутым воротам имения потянулись ручейки гостей.
Усадьба слажена была добротно. Справа и слева от ворот высились башенки со светелкой, потом шли крытые переходы, соединявшие башенки с главными хоромами, уступчатыми тремя ярусами, вздымавшимися прямо против входа. Вокруг разместились амбары, овины, сенники, где-то позади – судя по доносящемуся оттуда ржанию – примыкала к терему конюшня.
В горнице хозяина собрались, наверное, почти все взрослые жители деревни и почти все родственники, проживавшие на доступном за два дня расстоянии. Родственников расположили на хозяйском конце стола, поставленного в виде буквы П, за короткой ее перекладиной, а многочисленные гости расселись кто как на двух длинных, причем и мужеского, и женского полу вперемешку, что было обычно для простых селян, но редкостью в боярских покоях, стремившихся соблюдать цареградские обычаи.
Матвей намеревался усесться на нижнем конце стола, но Феофан его разглядел и с поклонами препроводил к хозяйскому столу.
– Ты кто будешь? – спросил его хозяин. – Феофан называл тебя, да что-то я твоего имени не упомню.
– Я от друга твоего, Михаила Борисовича Шеина, – Матвей приложил руку к груди и слегка поклонился. – Матвей Темкин.
– Что ж он, проведал о моем горе? – удивился Григорий Алексеевич. – Ты ведь выехал, верно, еще до того, как оно приключилось?
– Нет, Михаил Борисович о том не знал, но вспоминал о службе своей с отцом твоим и наказывал, коли буду в ваших краях, к тебе заглянуть, – Матвей почти не приврал в словах Шеина.
– Что ж сразу не пришел? Приняли бы с почетом. Зачем ютиться где-то на краю деревни?
– Поздно давеча приехал, никого будить не хотел. А хозяйка хорошая попалась, – ответил Матвей, чувствуя, что краснеет.
– Он у вдовы Игнатьевой остановился, – громким шепотом доложил Феофан.
– Так бедно у нее, – не заметив намеков Феофана, пожал плечами хозяин. – Ну, присаживайся к столу, помянем рано ушедшего брата моего…
Говорил за столом в основном Григорий Алексеевич. Еще один раз вспомнил ушедшего двоюродный брат их, сидевший по правую руку от хозяина. Покойный не оставил ни жены, ни детей, так что и плакать, кроме двух братьев – родного и двоюродного, – о нем было особо некому. Но про угощение гости не забывали.
– Говорят, в старину считалось неприличным плакать по ушедшему, – вспоминал Григорий Алексеевич. – Да и сейчас священники учат, что горевать не о чем: он уж отмучался, ему позавидовать надо. Но все едино почему-то горько.
– Это мы о себе скорбим, а не о нем, – заметил сидевший рядом Василий Иванович, двоюродный брат хозяина и покойного. – Нам его не хватать будет.
– Наверное, и себя тоже жалко, – согласился хозяин. – Но где-то и несправедливо это. Человек с таким трудом приходит на свет – и так легко его покидает…
– Все под Богом ходим, – вздохнул Василий Иванович. – Вот скажи на милость, какая разница меж тем, кого через два часа повесят, и тем, кто через два часа упадет с коня и сломает шею? Только в том, что один знает, когда его смертный час, а другой нет. А жить им обоим осталось поровну.
– Хочешь сказать, кого казнят по воле царя и кто помрет по воле Божьей – в равном чине пред Богом предстанут? – нахмурился хозяин. – Все ж таки даже царь под Богом ходит, негоже его волю с божьей равнять. Царь судит по людским законам. За что он к казни приговаривает – понять можно. А пути Господни неисповедимы – кого хочет, того к себе и призывает. Царь казнит людей негодных, а Бог порой лучших забирает. Так что нет, брат, разница меж тем, кого постигло людское наказание, и кто своей кончины не ведает, – велика.
Он вновь поднялся с чашей.
– Знаю я, что многие из вас на покойного зуб имели. Не спорьте, – осадил он возмущенный шум с нижних рядов, – о его проделках я знаю побольше вашего, с детства за ним наблюдал. Да, и выпить любил, и подраться, и за девками бегал – все было. Да только с другой стороны вы его не знаете. А как он не раз и не два вместо меня в царское войско ходил – когда я по болести своей не мог явиться? И служил, живота своего не жалея. Беспутный был – правда. Но и широкой души. Не задумываясь, все бы свое отдал – да и отдал все свое, так, что своего ничего не осталось, и жил-то в моем доме, на правах младшей родни… И даже в последний день, когда конь мой заупрямился, мне своего коня уступил. Сам себя считал он хорошим наездником, думал, что справится… Кто ж знал, что так оно все обернется? Может, я теперь и жизнью своей ему обязан. Так помянем душу его, дабы Бог судил по справедливости, видел бы и его недостойные дела, но и достойные не забывал.
И Григорий Алексеевич выпил чашу одним махом.
Гости тоже выпили, помолчали для приличия – а потом снова со всех сторон потянулся гул разговоров.
– Брат наш усопший, – вновь заговорил Василий Иванович, – жил прямо как в Писании заповедано: не заботьтесь о хлебе насущном и будьте как дети. Вот он и промотал все. Где ж тут воля Божия? Или, скажешь, вел себя брат твой правильно, вот и прибрал его Господь к себе?
– Знаешь, как еще говорят? – возразил Григорий Алексеевич. – Что всю остальную жизнь мы распутываем то, что по молодости запутали. Кто боле запутал – тому и жизнь длиннее нужна.
– Так что же, стало быть, и всем так жить следует, как брат наш усопший? – нахмурился Василий Иванович. – Коли ему распутывать ничего не пришлось?
– Можно и так жить, – усмехнулся хозяин невесело. – Может, и не пришлось ему ничего распутывать – другим придется. Я его кормил, мне и расхлебывать. Коли есть те, кто тебя кормить будут, с тебя и спроса нет. Знаешь, как: один трудится день за днем в поте лица и сыт не бывает – а другой заботы не знает. Да, частенько так и выходит.
– Ну, что поделать, мир так устроен, – покачал головой Василий Иванович. – Не нам против воли Божией идти.
– А причем тут Его воля? Волей Божией люди часто прикрывают волю собственную. Не зря Христос фарисеев обличал – они тоже лицемерно на волю Бога ссылались, а сами творили что пожелают. Коли тебе совесть позволяет соседа объедать – можешь пировать; а разорился сосед – к другому пойдешь. Но дело-то не в нем… Можно трудиться в поте лица и с трудом себя кормить, а можно еще и с ближним делиться…
– Что-то я тебя не пойму, – остановил его Василий Иванович. – Так что же, значит, правильно, что один трудится – и голодает, а другой, стало быть, ничего не делает – и жирует?
– Просто ты не на то смотришь. Даже коли ты возделал поле, посадил зерно – может ростки побить град, может мороз в конце весны погубить посевы, или сгниют они от обильных дождей, или сгорят от засухи. Но коли ты не возделал поле и не посадил зерна, то урожая уж точно не будет. Коли ты пошел на охоту – не всегда вернешься с добычей. Но коли не пошел – добычи точно не будет. В общем, даже коли все правильно сделал – остается молиться да надеяться на милость божию. Но уж коли ничего не сделал – то и молитва не поможет.
– Ну и почему же мир устроен так несправедливо, что даже коли все делаешь как надо, – все равно плодов можешь не дождаться?
– Разве тут несправедливость? А в чем, ты думаешь, главная заповедь Божия? В том, чтобы люди любили друг друга и помогали друг другу! Коли никто ничего не делает да ждут помощи от Бога – как они и помогут ближнему своему? Чем помогут? Не они – Бог их спасать тогда должен. Коли у всех все хорошо – так на что и помогать? А вот ежели сегодня тебе помощь нужна, завтра ему – то так и учатся жить в мире и согласии, сегодня тебе помогут, завтра ты; а коли ты не помог – то и сам помощи можешь не дождаться. В том душа человеческая и воспитывается. Охотиться, детей растить и даже дома строить – и звери могут. Бобры в хатках живут, плотины строят; птицы детей своих учат летать. Но ближнему своему – а порой и дальнему, кого в глаза никогда не видел – коли беда у него, только человек помочь может. Вот и выходит, что мудрость Божия в том великая, что не у всех все плохо и не у всех все хорошо. Но каждый учится и помогать – и принимать помощь.
– Так ведь не каждый, у кого хорошо, помогать стремится.
– Да. Иные вон, как в немецких землях, полагают, что ежели у кого все плохо – так тому, стало быть, Бог судил, и должен он мучиться, а помогать ему – нарушать волю Божию; а коли у кого все хорошо – так он избранный Богом, и суждено ему и тут все иметь, и в ином мире. Но, конечно, неправы они. Ибо коли бы Бог захотел – так всех бы наделил всем. Но главное в человеке – его душа, а не то, сколь велико у него поле. А потому и дается одним больше, другим меньше, дабы те, кому дано больше, помогали бы тем, кому дано меньше, а потом, глядишь, и наоборот, тем помогать придется. И как знать? Быть может, и брат мой погиб, чтобы мы могли задуматься о том, для чего живем и кому помогаем…
Хозяин привлекал к себе неким внутренним благородством, сквозившим в его словах, в его движениях. Он принадлежал к тому ныне вымирающему разряду бояр – более всего их повыбило в Смуту, – о которых князь Дмитрий Иванович говорил: «Вы – хозяева земли Русской», те, кто и в самом деле считал себя оплотом жизни, отвечал за все, что творилось на его земле; к таким обращался и Сильвестр, наставляя, как в хозяйстве все должно быть налажено и какую ответственность перед Богом несет глава дома. Мог, конечно, и поучить плетьми сильно непослушных, но все ссоры и споры старался разбирать по справедливости.
Род Плещеевых был известен с давних пор, восходя к Федору Бяконту, боярину прадеда Дмитрия Ивановича, Данилы Александровича, первого московского князя. Из его рода происходил и митрополит Алексий, с кем московские князья связывали свое возвышение. Но с тех времен род размножился и расселился, и можно было среди его представителей найти и крайне богатых – и крайне бедных, и людей весьма благородных, блюдущих честь своего рода, – и людей опустившихся, готовых на самые разные дела, чтобы поправить свое состояние. В Смуту представители этого рода воевали и за Самозванца, и за Шуйского, а некоторые успели побывать на всех сторонах. Но Григорий Алексеевич принадлежал к той ветке, что о чести своей всегда заботилась.
Брат его двоюродный Василий Иванович Плещеев таких теплых чувств не вызывал; впрочем, он и представлялся Матвею каким-то более скрытным или, напротив, более обыкновенным. Рассуждал он так, как судило девять из десяти известных Матвею бояр; то ссылался на волю Божию, то начинал рассуждать о своих выгодах и корысти.
– Что ни говори, а брат твой вовремя умер, не успел, кроме своего имения, еще и твое по ветру пустить, – говорил он, качая головой. – Он ведь, ты думаешь, из любви к тебе заместо тебя в походы ходил? Нравилось ему у царского двора в близости обитать, нарядами щеголяя. А жизнь близ царя дорого стоит. Вот его мужики и разорялись, когда он их поборами обирал, да и разбегались кто куда.
– Ну, бежали они прежде всего ко мне, – усмехнулся Григорий Алексеевич. – Так что я тогда Митьке благодарен быть должен.
– А принимать чужих беглых холопов – добро ли? – прищурился Василий Иванович.
– Так они не от хорошей жизни бежали! – возразил хозяин.
– Что ж, по-твоему, коли украл не от жадности, а от того, что есть нечего, – это уж и не воровство вовсе?
– Воровство оно всегда воровство, конечно, – огладил бороду Григорий Алексеевич. – Но тут вот какое удивительное дело. Как будто бы славы и позора всегда вместе поровну. Вот коли всем хорошо живется – тут блюсти заповеди Божии да слово свое держать вроде бы заслуги особой нет. А вот нарушить – позору не оберешься. И в самые голодные годы найдутся такие, что скорее от голода умрут, а на татьбу не пойдут. Но чем труднее живется – тем меньше таких, кто удержат себя от соблазна. Но тем больше почета таким – однако ж тем, кто себя не сдержал, меньше позора. А потому осуждать тех, кто бежал от негодного хозяина да семью свою спасал, я не буду. Тут явно вина все ж таки брата моего, а не его холопов.
Матвей внимательно вслушивался в его разговор с двоюродным братом, но то и дело ловил взгляды с другого края: по левую руку от хозяина и хозяйки сидела их дочь, девица лет шестнадцати. На ней уже не было темного платка, закрывавшего ее в церкви почти до глаз, но наряд ее все равно был строгим. Замечая ее взгляды, Матвей почему-то начинал неудержимо краснеть, но, когда сам пытался посмотреть в ту сторону, девица тут же отворачивалась, хотя по поднимающейся по ее лицу краске можно было догадаться, что и она заметила, что он на нее смотрит. Матвей стал приглядываться более скрытно и сумел рассмотреть круглые нежные щечки, большие голубые глаза и русые волосы в тугой косе. Он так увлекся, что даже не заметил, когда к нему обратился Григорий Алексеевич.
– Давно ли ты, Матвей Васильевич, у Шеина служишь?
– Что? – Матвей поспешно отвел глаза от хозяевой дочки в тарелку, потом взглянул на самого хозяина. – Нет, меньше года.
– И как тебе служба?
– Да ничего, – пожал плечами Матвей.
Хвалиться успехами не хотелось, но и прибедняться, рассказывая, как он мало успел сделать, тоже ему казалось недостойным.
– Тоже, небось, о службе воинской помышляешь, а не приказной? – вмешался Василий Иванович. – В поле разгуляться, татарам да ляхам показать, где раки зимуют?
Матвей усмехнулся, вспомнив их разговор с князем Волынским. Пожалуй, да – скакать впереди дружины своей было бы почетнее, нежели челобитные в приказе разбирать.
– Да ведь службу везде служить надо, – ответил вслух. – И нельзя каждый год войну воевать. Люду и военному, и мирному передышка нужна.
– Верно рассуждаешь, – похвалил хозяин.
Сидели долго, и только глубокой ночью гости начали расходиться. Василий Иванович ушел спать в отведенные ему покои. Собрался идти и Матвей, но Григорий Алексеевич удержал его.
– Так все-таки, – боярин в упор смотрел на Матвея. – Я ведь знаю, чем нынче Михаил Борисович занимается, так что вряд ли ты просто с поклоном от него приехал. Никак, на меня кто-то из холопов нажаловался?
Матвей побагровел от усилий не выболтать причину своего приезда, но упорно молчал. Наконец Григорий Алексеевич пожалел его сам:
– Ладно, не хочешь говорить – не говори. Но перебирайся ко мне, все лучше, чем у вдовы Игната обитать.
– Мне там все-таки спокойнее будет, – выдохнул Матвей облегченно.
– Как знаешь. Но коли не говоришь, зачем пожаловал, – и помочь я тебе не смогу.
– Вот, разве что… – спохватился Матвей. – Позволь коня своего на твою конюшню поставить – ночи холодные, а он под навесом.
– Коня приводи, – разрешил хозяин. – Доброй ночи.
Поклонившись хозяину, Матвей направился в сени. Перед собой он вдруг разглядел управляющего, бредущего куда-то в нижние клети, и Матвей, разом вспомнив, что он тут делает, последовал за ним.
Тот спускался вниз, в подклеть, где размещались поварни. Крадучись, Матвей погрузился в темноту лестницы и не заметил стоящего у стены медного корыта, которое с грохотом опрокинулось и съехало вниз по лестнице.
Матвей замер, боясь дышать. Сейчас он уже клял себя за подобную глупость – в темноте идти за тем, кого он считал главным виновником. Однако все обошлось. Феофан остановился, покачал головой и, подняв корыто, понес его куда-то в складское помещение.
Не решившись дальше следовать за управляющим, Матвей пошел по лестнице дальше и оказался в поварне раньше него. Тут стояла полутемень, в неверном свете лучины с трудом можно было рассмотреть помещение. Печь, раскаленную от готовки, уже загасили, хотя от нее вовсю шло благодатное тепло.
– Ты когда посуду моешь, – поучала старая посудомойка молодую помощницу, – не три ее изо всех сил. Видишь, иная и серебром, и золотом покрытая – ты так всю позолоту сотрешь. Ты ее замочи в корыте – после завтрака так до обеда, от обеда до ужина, а с ужина хоть на всю ночь, – а потом пораньше приди, как готовить начинают, и спокойно тряпочкой всю протри, и на ней никаких следов не останется.
– Да, замочишь так – а ежели жирная была, потом жир с утра вязкий и противный будет! – возражала молодая.
– А ты жирную прежде того пучком сухой травы оботри да кипяточком ополосни, – наставляла старшая, одновременно показывая, как это делается.
В корыте перед ней виднелся десяток блюд и чаш, видимо оставшихся от поминок.
Управляющий возник откуда-то из боковой двери, неожиданно как для Матвея, так и для посудомоек. При его появлении обе женщины замолчали и посмотрели на управляющего с тоской.
– Матрена! – строго выговорил тот. – Ты почему никогда посуду на место не ставишь?
– Как же не ставлю? Всегда ставлю, – оправдываясь, заговорила старшая. – Все всегда в лари убираю!
– Так ты ее всю вперемешку убираешь! А надлежит в один ларь чаши, в другой блюда, отдельно серебро, отдельно лак, отдельно позолоту. А с меня хозяин спросит, где что лежит, – я и знать не буду, как ему ответить! Вот только что корыто в проходе нашел – что оно там делало? Все всегда на место надо ставить!
Наведя таким образом порядок, по его мнению, Феофан прошел дальше, а Матвей решил выйти наконец на свет.
– Вот всегда он так, – обиженно проворчала младшая, обращаясь не столько к старшей, сколько к Матвею. – Придет, поучит жизни… Уж лучше бы обругал да ударил, а то все время себя последней дурой чувствую.
– Э, не бери в голову, – махнула Матрена полотенцем. – Разные мужики бывают. Этот вот на порядке помешан. А тебе чего, барин? – спросила она так и стоявшего возле двери Матвея.
– Нет, ничего, – усмехнулся он, скрывая за усмешкой смущение. – Мудро ты говоришь, Матрена. Мужики разные бывают.
Дело продолжало проясняться. Правда, кто написал челобитную, понять Матвей пока не мог.
Он вышел в темноту. За воротами у церкви к нему пристал не виденный им ранее нищий – нестарый, но в рванье, обросший так, что лицо скрывалось в бороде почти целиком.
– Подай, боярин, на пропитание! – запричитал он жалобно.
Матвей стал шарить в кушаке, где держал деньги, в поисках серебряной копейки.
– А чего к боярину на двор не пошел? Там вроде всех угощали, – удивился он, не прекращая поисков.
Нищий внимательно следил за его руками:
– Так ить гонят меня со двора бояре-то! Всё, говорят, нечего тебе побираться, шел бы работать!
– Так и шел бы, коли силы есть!
– Да уж куда мне, – грустно махнул рукой нищий.
Матвей выловил копейку из кушака:
– Ну, коли правда на хлеб потратишь, а не пропьешь – тогда держи!
– Да ты уж дай, а я как-нибудь сам разберусь, что мне с ней делать! – нищий жадно потянулся к серебру.
При последних словах Матвей поспешно отдернул руку:
– Извини: коли на хлеб, то дам. А коли на выпивку в кабаке – так я лучше ее отдам тому, кому она нужнее!
Нищий жалобно запричитал, опускаясь на землю своими лохмотьями:
– Вот всегда так. Никто моей тоски понять не может!
– А что уж, коли на поминки придешь, не напоят тебя? – удивился Матвей.
– Напоят. Да с утра разбудят и в поле погонят, будто я им должен.
– А ты не должен?
– Вот ты послушай мой сказ, боярин, – нищий ловко на собственном заду подполз к Матвею поближе. – Жил да был добрый молодец Митяй – и лицом пригож, и делом хорош, и храбростью не обижен. И был у него верный боевой холоп Ванька, что за Митяем во все походы ходил, спину ему боронил от вражьих стрел, последним делился. Но любил Митяй погулять на широкую ногу. Никогда не жалел на пиры для друзей и знакомых ни серебра, ни золота. Так и прогулял все свое добро, и остался он с одним своим боевым холопом. А когда не осталось у него ни серебра, ни золота, пришли за ним долги его требовать, и никто – кто пил да ел на его пирах – не вступился за него и не помог. Хотели его самого за долги в холопы забрать, да негоже боярину в долговой яме сидеть! Ну и в последний раз выручил боевой холоп Ванька своего хозяина, за него в чужие холопы пошел за долги хозяйские. А вышел на волю – и нет уж его доброго хозяина… Да вот беда – никакому ремеслу, кроме войны, Ванька не обучен. А и ранен бывал раз сто, и в седле уж сидеть тяжко – да и негде, давно боевые кони проданы-проедены. И из лука, и из пищали стреливал важно – да где тот лук и та пищаль? И где ему пашню пахать?
– Так ты бы все-таки пошел к Григорию Алексеевичу, – проникнувшись рассказом нищего, еще раз предложил Матвей. – Он ведь и о брате своем позаботился – и слуг его верных не забудет!

