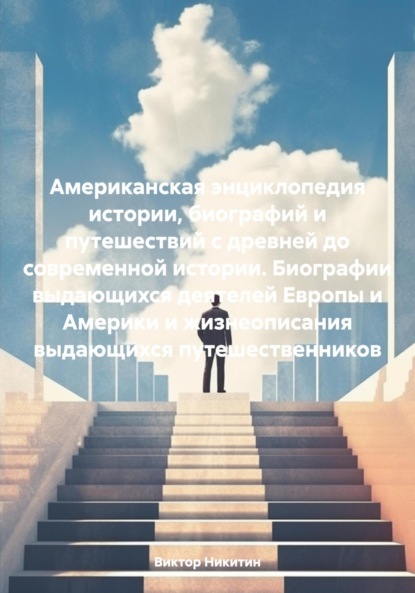
Полная версия:
Американская энциклопедия истории, биографий и путешествий с древней до современной истории. Биографии выдающихся деятелей Европы и Америки и жизнеописания выдающихся путешественников
Необычайная карьера Александра была внезапно прервана смертью. В Вавилоне, занимаясь обширными планами на будущее, он заболел и умер через несколько дней, в 323 г. до н. э. Таков был конец этого завоевателя на тридцать втором году его правления, после двенадцати лет и восьми месяцев правления. Он оставил после себя огромную империю, которая, не обладая консолидированной властью и лишь слабо объединенная завоеваниями, стала ареной постоянных войн. Генералы македонской армии соответственно захватывали различные части империи, каждый полагаясь на свой меч для независимого установления. Жадная борьба за власть в конце концов завершилась утверждением Птолемея во владении Египтом; Селевка в Верхней Азии; Кассандра в Македонии и Греции; в то время как несколько провинций в Нижней Азии достались Лисимаху.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ГРЕЧЕСКОЙ ИСТОРИИ.
После смерти Александра афиняне посчитали это подходящим случаем освободиться от господства Македонии; но безуспешно. Демосфен, один из самых выдающихся патриотов и ораторов Афин, в этом случае, чтобы избежать убийства по приказу Антипатра, македонского наместника, покончил с собой, проглотив яд; а его соотечественник Фокион вскоре после этого был казнен своими соотечественниками, афинянами, в безумной вспышке народной ярости. Нельзя сказать, что Греция произвела на свет одного великого человека после Фокиона; и этот недостаток мудрых и способных лидеров, несомненно, был одной из главных причин незначительности, в которую погрузились различные государства, большие и малые, после этой эпохи.
Древняя история Греции как независимой страны теперь подходит к концу. Ахайя, доселе небольшое, незначительное государство, начав предъявлять некоторые претензии на политическое влияние, возбудила вражду Спарты и была вынуждена искать защиты у Филиппа, правящего князя Македонии. Филипп выступил против спартанцев и их союзников этолийцев и был на верном пути к подчинению всей Греции оружием и влиянием, когда он отважился на роковой шаг, начав военные действия против римлян. Эта мера завершила крах Греции, а также Македонии. Римляне воевали с Филиппом до конца его жизни (175 г. до н. э.) и продолжили борьбу с его сыном Персеем, которого они полностью победили и с которым закончилась линия царей Македонии. Через несколько лет некогда славная и свободная республика Греция была преобразована в римскую провинцию под названием Ахайя (146 г. до н. э.).
Так завершается четвертый и последний период греческой истории, в течение которого процветали многие выдающиеся писатели и философы, среди которых можно назвать Феокрита, поэта-пастуха; Ксенофонта, Полибия, Диодора Сицилийского, Дионисия Галикарнасского, Плутарха и Геродиана, историков; Демосфена, оратора; Платона, Аристотеля, Зенона и Эпикура, философов; а также Зевксиса, Тиманта, Памфила, Никия, Апеллеса и Евпомпа, художников; и Праксителя, Поликлета, Камаха, Навкидса и Лисиппа, скульпторов.
В состоянии скромной зависимости от Рима, и поэтому следуя судьбе этой империи, Греция оставалась в течение более четырех последующих столетий; но хотя и имела небольшое политическое значение, она все еще сохраняла свое превосходство в учении. Порабощенная, как была земля, она продолжала быть великой школой того времени. Как Греция прежде посылала свои знания и искусства на Восток с помощью одного из своих собственных царей, теперь она распространяла их по западному миру под защитой Рима. Афины, которые были торговым центром греческой учености и изящества, стали прибежищем всех, кто честолюбиво стремился преуспеть либо в знаниях, либо в искусствах; государственные деятели отправлялись туда, чтобы усовершенствовать себя в красноречии; философы, чтобы изучить учения мудрецов Греции; и художники, чтобы изучить образцы совершенства в строительстве, скульптуре или живописи; уроженцы Греции также были найдены во всех частях света, получая почетное существование за счет превосходных знаний своей страны. В то время эта страна была менее охвачена внутренними распрями, чем прежде, но не была избавлена от обычной участи завоеваний, подвергаясь постоянным вымогательствам со стороны губернаторов и наместников, которые использовали завоеванные провинции в качестве средства восстановления благосостояния, разрушенного из-за потакания капризам населения на родине.
Период независимости Греции, в течение которого были совершены все те великие деяния, которые привлекли внимание мира, можно отсчитывать от эпохи первой персидской войны до завоевания Македонии, последнего независимого греческого государства, римлянами. Этот период, как мы видели, охватывал немногим более 300 лет. Следовательно, не из продолжительности независимой политической власти греческих государств возникает их известность. Даже патриотизм их солдат и преданный героизм Фермопил и Марафона были подражаны в других местах, не привлекая особого внимания; и поэтому мы должны заключить, что главным образом из превосходства ее поэтов, философов, историков и художников возникает важность страны в глазах современных людей. Политические дрязги афинян забыты; но моральные и интеллектуальные исследования их философов и изящные останки их художников обладают неувядающей славой.
ИСТОРИЯ РИМА.
ОКОЛО 754 г. до н. э., в той точке Центральной Италии, почти в пятнадцати милях от Тосканского моря, где Анио впадает в Тибр, на высоте, называемой Палатинской горой, стояла маленькая деревня под названием Рома, центр небольшого городка, состоявшего, вероятно, из 5000 или 6000 жителей, все они были земледельцами и пастухами. Этот Рим был одним из пограничных городков Лация, территории плодородной и волнистой равнины, простирающейся от Тибра до Лириса и от морского побережья до холмов внутренней части страны. Вся поверхность Лация была подвергнута усердной обработке и была покрыта деревнями, похожими на Рим, которые вместе составляли то, что называлось латинской нацией.
Рим, как мы уже говорили, был пограничным городом Лациума. Он был расположен именно в том месте, где территории Лациума примыкали к территориям двух других народов – сабинян, выносливой расы осков-пастухов, населявших угловой район между Анио и Тибром; и этрусков, замечательного народа неизвестного, но, вероятно, восточного происхождения, который прибыл на север Италии на несколько столетий позже пеласгов и, завоевав всех до них, будь то пеласги или оски, силой более высокой цивилизации, поселился в основном в районе между Арнусом и Тибром, что соответствует современной Тоскане. Между этими тремя расами – осками, пеласгами и этрусками – либо по отдельности, либо в различных сочетаниях, была разделена вся Италия, за исключением, возможно, некоторых частей около Альп: оски преобладали во внутренних районах; пеласги или, скорее, пеласго-оски, вдоль побережий, как в Лациуме; и этруски в вышеупомянутых частях. В то время как итальянский полуостров был таким образом занят только тремя большими расами или основными группами; политические подразделения или нации, на которые он был разделен, были столь многочисленны, что едва ли возможно дать их полный список.
Расположенный так близко к границам сабинян и этрусков, естественно, что между латинянами Рима и сабинянами и этрусками, с которыми они контактировали, должны были поддерживаться иногда дружеские, а иногда и враждебные отношения. Цепь событий, которую история сейчас не может проследить, но которая поэтически отражена в ряде ранних римских легенд, привела к объединению Рима с двумя соседними городами – один из них был небольшой зависимостью этрусков, расположенной на Целийском холме и, вероятно, называвшейся Луцерум; другой – сабинской деревней на Квиринальском холме, называемой Квириум. Этруски, или этрусско-латиняне, как их, скорее всего, называли, Луцерума, были приняты на подчиненной основе; сабины Квириума – на равноправной; но объединенный город продолжал носить свое старое название Рома. Население этого нового Рима состояло, таким образом, из трех племен – древних римлян, которые называли себя Рамнами; сабины из Квириума, называвшие себя тициями; и этрусско-латиняне из Луцерума, называвшиеся луцерами.
ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ РИМСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ – РАННЯЯ ИСТОРИЯ ПРИ ЦАРЯХ – ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПЛЕБЕЕВ.
С увеличением населения Рима за счет добавления этих новых масс граждан, конечно, стало необходимым изменение конституции. Похоже, что в конечном итоге была принята следующая форма: – Управляемые общим сувереном, имеющим право на избрание всей общиной из одной из высших триб – Ramnes и Tities, – три трибы доверили ведение своих дел сенату, состоящему из 200 членов, 100 из которых представляли роды Ramnes и 100 роды Tities. Luceres как низшее трибо не были представлены в сенате; и их политическое влияние ограничивалось правом голоса вместе с двумя другими трибами на общих собраниях всего народа.
На этих общих собраниях, или комициях, как их называли, люди голосовали; не индивидуально, не семьями, не родами, а подразделениями, называемыми Curix или Curies; курия была десятой частью трибы и включала, согласно древней системе круглых чисел, десять родов. Таким образом, весь Populus Romanus, или римский народ, того примитивного времени состоял из тридцати курий – десять курий Ramnes, десять Tities и десять Luceres: десять курий каждой трибы соответствовали 100 родам, а тридцать курий вместе составляли 300 родов. Поскольку Luceres были низшим племенем, их роды назывались Gentes Minores, или Малыми Домами; в то время как роды Ramnes и Tities назывались Gentes Majores, или Большими Домами. Собрание всего народа называлось Comitia Curiatia, или собранием курий. После того, как мера была выработана королем и сенатом, она представлялась всему народу в их куриях, которые могли принять или отклонить, но не могли изменить то, что им было предложено. Апелляция также была открыта для курий против любого приговора короля или судей, назначенных им в качестве верховного судьи. Король, кроме того, был верховным жрецом нации в мирное время, а также главнокомандующим во время войны. 300 родов предоставляли каждому всадника, чтобы составить отряд кавалерии; масса народа образовывала пехоту. Право созыва сената принадлежало королю, который обычно созывал его три раза в месяц.
Таков был Древний Рим, каким он предстает историческому глазу, пытающемуся проникнуть в туман прошлого, где поначалу все кажется неопределенным и колеблющимся. Исследователем, которому мы обязаны способностью понять состояние Древнего Рима, насколько это зависело от политических институтов, был знаменитый немецкий историк Нибур. Однако римляне не так представляли себе свою собственную раннюю историю. Во всех древних общинах было привычкой народного воображения, более того, это было частью народной религии, прослеживать судьбу общины до некоего божественного или полубожественного основателя; чьи подвиги, а также подвиги его героических преемников, стали предметом многочисленных священных легенд и баллад. Римляне верили, что их город был основан в момент времени, соответствующий 754 г. до н. э., братьями-близнецами, рожденными чудесным образом, по имени Ромул и Рем. Их отцом был бог войны Марс, а матерью – весталка из рода альбанских царей, потомков великого Энея.
Ромул, согласно этой легенде, пережив своего брата Рема, стал королем деревни пастухов, которую он основал на Палатине; и именно в его правление произошли те события, которые завершились созданием тройственного сообщества Рамнов, Титиев и Луцеров. Отправившись с Ромулом, римляне проследили историю своего государства через серию легенд, касающихся шести царей, его преемников, чьи характеры и продолжительность их правления были должным образом определены. Из этой традиционной последовательности семи царей, охватывающей период в 245 лет (754–509 гг. до н. э.), история может с уверенностью признать существование только двух или трех последних. Однако из легенд можно извлечь проблеск реальной истории римского государства во время этих воображаемых правлений.
Обладая, как вся наша информация относительно римлян в более поздние времена оправдывает наше предположение, необычайной степенью того воинственного инстинкта, который был так необуздан среди ранних арендаторов нашего земного шара, пастухи-земледельцы Рима постоянно совершали набеги на своих латинских, этрусских и сабинских соседей. Сильные телом, храбрые и настойчивые, какими мы также знаем их, они, в целом, были успешны в этих набегах; и следствием было постепенное расширение их территории, особенно на латинской стороне, путем завоевания тех, кто был слабее их самих. После каждого завоевания их обычай заключался в том, чтобы лишать завоеванное сообщество части их земель, а также их политической независимости, присоединяя их в качестве подданных к Populus Romanus. Следствием было постепенное накопление вокруг первоначального Populus, с его 300 домами, подданного населения, свободнорожденного и обладающего собственностью, но без политического влияния. Это подданное население, происхождение которого датируется легендами от правления Анка Марция, четвертого царя от Ромула, получило название Плебс, слово, которое мы переводим как «простой народ», но которое было бы правильнее, применительно к этим очень древним временам, переводить как «покоренный народ». Кроме плебса, римская община получила еще один ингредиент в лице лиц, называемых Клиентами; чужестранцы, то есть в большинстве своем занимавшиеся ремеслами, которые, прибывая в Рим и не принадлежавшие к роду, были обязаны, чтобы обезопасить себя от приставаний, прикрепиться к какому-нибудь могущественному гражданину, готовому их защищать, и называемому ими Патронусом или Покровителем. Таким образом, примерно за шесть столетий до Рождества Христова население растущего поселения Рим можно рассматривать как состоящее из четырех классов: 1-й, populus, или патриции, правящий класс, состоящий из ограниченного числа могущественных семей, держащихся в стороне от остальной части общества, не вступающих с ними в браки и постепенно уменьшающихся в результате; 2-й, плебс, или плебеи, большое и постоянно увеличивающееся подвластное население, той же смешанной этрусско-сабинско-латинской крови, что и populus, но находящееся под их господством по праву завоевания; 3-й, клиенты, значительный класс, занятый в основном ремесленными профессиями в городе, в то время как populus и плебеи ограничивались более почетным занятием, как тогда считалось, – сельским хозяйством; и 4-й, рабы или servi, принадлежавшие патрициям, плебеям или клиентам, – класс, который ценился наряду со скотом.
Растущее число плебса, результат новых войн, и ценность их услуг для общества давали им право обладать и поощряли их требовать некоторого политического уважения. Соответственно, в правление Тарквиния Приска, пятого из легендарных царей, и в чьей известной этрусской родословной историки воображают, что они могут различить время, когда этрусское влияние, если не этрусское оружие, царило в Риме, произошло изменение первоначальной конституции. Ряд самых богатых плебейских семей были призваны в populus, чтобы заполнить пробелы, вызванные вымиранием многих древних родов Ramnes, Tities и Luceres; и в то же время число сенаторов было увеличено до 300, путем принятия Luceres в тех же правах, что и два других трибы. Даже этого изменения было недостаточно; и чтобы воздать должное требованиям плебса, Сервий Туллий, преемник Тарквиния, которого с благодарностью прославили в римской истории как «короля общин», предложил и осуществил полное обновление политической системы государства. Его первая реформа состояла в том, чтобы дать плебсу регулярную внутреннюю организацию для его собственных целей, разделив его на тридцать триб или приходов – четыре для города и двадцать шесть для страны – каждый из которых был снабжен должностным лицом или организатором триб, называемым трибуном, а также подробным механизмом местного управления; и всем разрешалось собираться на общее собрание, называемое Comitia Tributa, для обсуждения вопросов, касающихся исключительно плебса. Но это было еще не все. Чтобы допустить плебс к участию в общей законодательной власти сообщества, он учредил третий законодательный орган, называемый Comitia Centuriata, в дополнение к двум уже существующим – сенату и comitia curiata. Comitia centuriata представляла собой собрание всего свободного населения римской территории – патрициев, плебеев и клиентов, – организованное в соответствии с размером их налогооблагаемого имущества в пять классов, которые в свою очередь подразделялись на 195 органов, называемых центуриями, причем каждая центурия имела право голоса, но центурии богатых были намного меньше центурий бедных, чтобы обеспечить перевес в пользу богатства. Полномочия comitia centuriata были аналогичны полномочиям comitia curiata в прежней системе. Они имели право избирать верховных магистратов и принимать или отклонять меры, направленные им королем и сенатом. Однако comitia curiata все еще продолжали проводиться; и мера, даже после того, как она прошла comitia centuriata, все еще должна была быть одобрена куриями, прежде чем она могла стать законом. Несмотря на это ограничение, конституция Сервия Туллия была большой уступкой народному духу, поскольку она фактически допускала каждого свободного человека на римской территории к участию в управлении государством.
Попытка Тарквиния Гордого, преемника Сервия Туллия, отменить реформы своего предшественника и установить то, что древние называли тиранией, или правлением индивидуальной воли, привела к изгнанию его и его семьи и отмене царской формы правления в Риме в 509 г. до н. э. или в 245 г. от основания города. Вместо царя были назначены два ежегодных магистрата, называемых консулами, на которых были возложены все царские функции, за исключением папских, для которых были созданы специальные должностные лица. В остальном Сервиева конституция оставалась в полной силе.
СОДРУЖЕСТВО ДО ГАЛЛИЙСКОГО ВТОРЖЕНИЯ – БОРЬБА МЕЖДУ ПАТРИЦИЯМИ И ПЛЕБЕЯМИ.
После изгнания царей маленькой республике пришлось бороться со многими трудностями, возникшими из-за нападений соседних народов, подстрекаемых к этому Тарквиниями. Десять из двадцати шести сельских приходов были отторгнуты в борьбе – потеря, эквивалентная полной трети римской территории. Нужно было обладать пророческим взглядом, чтобы предвидеть, что из всех государств, на которые тогда была разделена Италия, эта маленькая борющаяся республика получит превосходство. Скорее можно было бы пообещать господство на полуострове культурным и широкомозговым этрускам, уже хозяевам севера Италии; выносливым и храбрым самнитам, которые быстро распространялись по внутренним южным областям; или, что наиболее вероятно, грекам, которые, присоединив Сицилию к империи своей одаренной расы, быстро основывали колонии на южных берегах полуострова. Нет, вокруг римских территорий группировались различные мелкие государства, каждое из которых могло бы сравниться с Римом – латины, эквы, вольки, герники, сабины и этруски Вейи на правом берегу Тибра. Кто мог предсказать, что, прорвав этот пояс наций, люди Тибра распространятся по всему полуострову и, под влиянием своего характера и институтов, сначала повергнут его, а затем и всю Европу в брожение?
Потребовалось 119 лет (509–390 гг. до н. э.), чтобы римляне смогли разорвать цепь мелких народов – латинян, вольсков, вежентов и т. д., – которые окружали их силой. Это был период почти непрекращающихся войн; последним славным актом которых была осада и взятие Вейи героем Камиллом в 395 г. до н. э. или в год основания города 359. Благодаря этому взятию часть Этрурии была присоединена к римским владениям, и влияние государства значительно расширилось во все стороны. Это завоевание, как и предшествовавшая ему победа над эквами, вольсками и т. д., было в значительной степени облегчено союзом, наступательным и оборонительным, который существовал между римлянами и соседними народами латинян и герников с года города 268, двадцать третьего года после изгнания царей, когда он был установлен с помощью способного патриция по имени Спурий Кассий, который трижды, в трудных случаях, избирался на консульство. Этот союз с двумя могущественными народами обеспечил устойчивость молодой республики против всех нападений.
Второе консульство Спурия Кассия (год Рима 261 или до н. э. 493) также было примечательно как эпоха грозного гражданского смятения – первого из той долгой серии сражений между патрициями и плебеями, которая составляет самую интересную часть летописей раннего Содружества. Вскоре после изгнания царей патрицианские роды начали проявлять склонность вмешиваться в конституцию Сервия или, по крайней мере, не допускать, чтобы плебеи получали больше власти, чем они уже имели. Главным инструментом, с помощью которого они могли парализовать энергию плебеев, было действие закона о долге. В примитивном Риме, как и в других древних государствах, неплатежеспособный должник мог быть схвачен своим кредитором и содержаться в цепях или быть вынужденным работать в качестве своего раба. Итак, таковы были бедствия первых лет республики, что множество плебеев, лишенных, из-за военных потерь, своих небольших владений, были вынуждены, чтобы сохранить жизнь своих семей, стать должниками патрициев, исключительных владельцев государственных земель. Сотни, в результате, попали в состояние рабства; и еще больше, боясь оскорбить своих патрицианских кредиторов, противодействуя их планам, стали просто нулями в центуриатных комициях. Короче говоря, плебеи, как тело, были раздроблены и обескуражены. Некоторые случаи угнетения, более вопиющие, чем обычно, приводили к вспышке и шуму об отмене всех существующих долгов; и чтобы навязать свои требования, плебеи прибегли к методу агитации, который кажется достаточно странным для наших современных представлений; они, или по крайней мере те из них, кто был в оружии для военной службы, массово покинули город в то время, когда ему угрожало вторжение, и расположились лагерем на холме неподалеку, заявив, что они скорее умрут от голода, чем будут жить в таком месте, как Рим. Таким образом, правительство было сведено к тупику; Спурий Кассий был выбран патрициями консулом; и при его посредничестве было достигнуто соглашение, по которому требования общин были уступлены, существующие долги отменены, договор о взаимных обязательствах на будущее был согласован между populus и plebs как между двумя независимыми общинами, и была учреждена новая должность под названием Трибуна простого народа для явной цели защиты интересов плебеев. Затем общины вернулись в город; были назначены два народных трибуна; и их число впоследствии было увеличено сначала до пяти, а затем до десяти. Никто не мог предвидеть, насколько важной станет эта должность.
Не довольствуясь облегчением временных невзгод плебеев, Спурий Кассий желал навсегда улучшить их положение; и соответственно, в свое третье консульство, в год города 268 или до н. э., он смело предложил и провел то, что было названо Аграрным законом. Совершенно необходимо, чтобы читатель римской истории понимал этот термин. Согласно ранней римской конституции, земли, приобретенные в войне, становились собственностью всего populus, или группы патрициев, в общем. Части завоеванных земель могли быть куплены у государства богатыми людьми; и в таких случаях покупатель, будь то патриций или плебей, становился абсолютным владельцем. Обычно, однако, земли не продавались, а присоединялись к нераспределенной собственности, уже принадлежавшей populus. В отношении этой государственной земли преобладала весьма любопытная система. Любому патрицию (но никому другому) разрешалось занимать и обрабатывать столько земли, сколько он пожелает, при условии уплаты государству десятины годового урожая, если это была пахотная земля, и пятой части, если она была заложена под оливковые рощи или виноградники. Земля, занятая таким образом, по праву владения не становилась собственностью отдельного лица: оно могло быть изгнано с нее по желанию государства – его землевладельца; и он вкладывал капитал в ее улучшение исключительно на свой страх и риск. Поскольку, однако, редко случалось, чтобы отдельное лицо было изгнано с земли, которую он таким образом занимал, большие участки государственной земли быстро занимали предприимчивые патриции. При таком плане распределения очевидно, что на государственных землях, занятых и незанятых, правительство обладало постоянным фондом, из которого оно могло черпать в случае крайней необходимости. Продавая ее части, они могли собрать деньги; а назначая части ее неимущим семьям, они могли постоянно их обеспечивать. Несколько раз, как представляется, это делалось в случае неимущих плебейских семей; и аграрный закон Спурия Кассия был просто предложением, что – поскольку только что произошло большое приращение государственных земель – правительство должно воспользоваться возможностью, чтобы обеспечить бедствующих плебеев, распределив им небольшие участки этих государственных земель. Для плебеев это предложение было чрезвычайно приемлемым; однако не так для патрициев, которые обладали правом занимать и обрабатывать столько общественной территории, сколько они выберут, но которые потеряли это право с того момента, как земля была распределена государством. Патриции, соответственно, сопротивлялись этому предложению всеми силами; и Спурий Кассий, несмотря на это, добился его привлечения к ответственности и казни, как только истекло его консульство.



