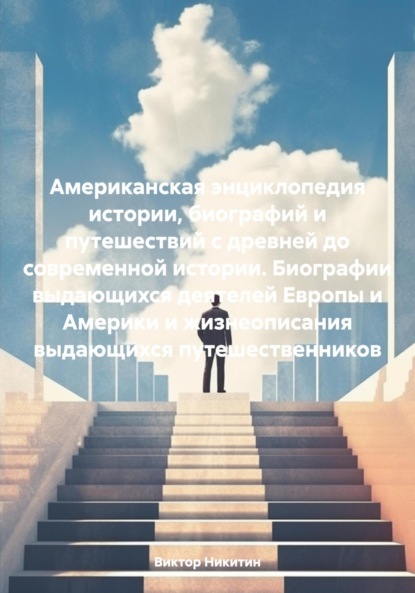
Полная версия:
Американская энциклопедия истории, биографий и путешествий с древней до современной истории. Биографии выдающихся деятелей Европы и Америки и жизнеописания выдающихся путешественников
Утвержденный в своем авторитете победоносным опровержением клеветы своих врагов, Перикл принял самые мудрые меры для общественной защиты от вторжения, которым угрожали пелопоннесцы. Не желая рисковать битвой со спартанцами, которые считались не менее непобедимыми на суше, чем афиняне на море, он заставил жителей Аттики перевезти свой скот на Эвбею и соседние острова и удалиться с таким количеством своего имущества, какое они могли взять с собой, в стены Афин. Благодаря этой предусмотрительной заботе город был снабжен продовольствием, достаточным для содержания толп, которые теперь переполняли его; но большие трудности возникли в обеспечении надлежащего размещения для столь огромного населения. Многие нашли пристанище в храмах и других общественных зданиях или в башнях городских стен, в то время как огромное количество людей были вынуждены строить себе временные жилища на пустом пространстве внутри длинных стен, простирающихся между городом и портом Пирей.
Памятное состязание продолжительностью в двадцать семь лет, называемое «Пелопоннесской войной», началось (431 г. до н. э.). Спартанский царь Архидам вошел в Аттику во главе большой армии союзников и, не встретив сопротивления, двинулся вдоль ее восточного побережья, сжигая города и опустошая страну на своем пути. Когда афиняне увидели, что враг опустошает страну почти до самых их ворот, потребовалась вся власть Перикла, чтобы удержать их в пределах своих укреплений. Пока союзники опустошали Аттику огнем и мечом, афинский и керкирский флоты, по указанию Перикла, мстили за нанесенный ущерб, опустошая почти беззащитные берега Пелопоннеса. Это, вместе с нехваткой продовольствия, вскоре побудило Архидама повести свою армию домой. Он отступил вдоль западного побережья, продолжая работу по опустошению по мере продвижения.
В начале лета следующего года союзники вернулись в Аттику, которую им снова разрешили опустошать по своему усмотрению, поскольку Перикл все еще придерживался своей осторожной политики ограничения своих усилий обороной столицы. Но враг, гораздо более страшный, чем пелопоннесцы, напал на несчастных афинян. Моровая язва, предположительно возникшая в Эфиопии и постепенно распространившаяся по Египту и западным частям Азии, вспыхнула в городе Пирей, жители которого сначала предположили, что их колодцы отравлены. Болезнь быстро распространилась в Афинах, где унесла множество жизней. Ее описывают как разновидность инфекционной лихорадки, сопровождавшуюся многими болезненными симптомами, и сопровождавшуюся, у тех, кто пережил первые стадии болезни, язвами кишечника и конечностей.
Историки в качестве доказательства исключительной вредоносности этой эпидемии приводят тот факт, что хищные птицы отказывались прикасаться к непогребенным телам ее жертв, а собаки, питавшиеся ядовитыми остатками, погибали.
Смертность была ужасной и, конечно, значительно возросла из-за перенаселенности города. Молитвы набожных и мастерство врачей оказались одинаково бесполезными, чтобы остановить развитие болезни; и несчастные афиняне, доведенные до отчаяния, считали, что их боги забыли о них или ненавидят их. Больных во многих случаях оставляли без присмотра, а тела умерших оставляли лежать непогребенными, в то время как те, кого чума еще не достигла, открыто презирали все законы, человеческие и божественные, и бросались во все крайности преступного снисхождения.
Перикл тем временем был занят, с флотом из 150 кораблей, опустошением огнем и мечом берегов Пелопоннеса. По возвращении в Афины, обнаружив, что враг поспешно отступил из Аттики из-за страха заразиться чумой, он отправил флот к побережью Халкидики, чтобы помочь афинским сухопутным войскам, которые все еще были заняты осадой Потидеи – неудачная мера, не приведшая ни к какому результату, кроме передачи чумы осаждающей армии, из-за чего большинство войск было быстро уничтожено. Обезумевшие от своих страданий, афиняне теперь стали громко роптать на Перикла, которого они обвиняли в том, что он навлек на них по крайней мере часть их бедствий, вовлекая их в Пелопоннесскую войну. Состоялось народное собрание, на котором Перикл приступил к оправданию своего поведения и призвал людей к мужеству и стойкости в защите своей независимости. Трудности, которым они подверглись из-за войны, были, как он заметил, только такими, к которым он подготовил их в предыдущих обращениях; а что касается эпидемии, то это было бедствие, которое никакое человеческое благоразумие не могло ни предвидеть, ни предотвратить. Он напомнил им, что у них все еще есть флот, с которым не мог сравниться ни один властелин на земле, и что после того, как нынешнее зло пройдет, их флот все еще может позволить им обрести всемирную империю. «То, что мы терпим от богов, – продолжал он, – мы должны переносить с терпением; то, что от наших врагов, – с мужественной стойкостью; и таковы были принципы наших предков. Из непоколебимой стойкости в несчастье возникла нынешняя мощь этого государства, а также та слава, которая, если наша империя, согласно судьбе всех земных вещей, придет в упадок, все равно сохранится для всех потомков».
Красноречивая речь Перикла уменьшила, но не устранила тревогу и раздражение афинян, и они не только уволили его со всех должностей, но и наложили на него большой штраф. Тем временем домашние невзгоды сочетались с политическими тревогами и унижениями, угнетая ум этого выдающегося человека, поскольку члены его семьи один за другим погибали от чумы. Тем не менее, он держался с мужеством, которое с восхищением наблюдали все вокруг; но на похоронах последнего из его детей его твердость наконец дала о себе знать; и когда он, согласно обычаю страны, возлагал гирлянду цветов на голову покойника, он разразился громкими причитаниями и пролил поток слез. Прошло немного времени, прежде чем его изменчивые соотечественники раскаялись в своей жестокости по отношению к нему и вернули ему гражданскую и военную власть. Вскоре он последовал за своими детьми в могилу, став, как и они, жертвой свирепствовавшей эпидемии (429 г. до н. э.). Совпадающие свидетельства древних писателей отводят Периклу первое место среди греческих государственных деятелей по мудрости и красноречию. Хотя он и честолюбив в отношении власти, он был умерен в ее применении; и его память заслуживает похвалы, что в эпоху и в стране, столь не щепетильной в пролитии крови, его долгое правление было столь же милосердным и мягким, сколь и энергичным и эффективным. Когда он был вынужден вести войну, постоянным занятием этого выдающегося государственного деятеля было то, как победить своих врагов с наименьшими потерями жизни, как с их стороны, так и со своей собственной. Рассказывают, что когда он лежал при смерти, и окружавшие его люди рассказывали о его великих деяниях, он внезапно прервал их, выразив удивление тем, что они воздают столько похвал достижениям, в которых с ним соперничали многие другие, при этом забыв упомянуть то, что он считал своей высшей и особой честью, а именно, что ни один его поступок не заставил ни одного афинянина надеть траур.
После смерти Перикла война продолжалась без перерыва еще семь лет, но без решающего преимущества для какой-либо из сторон. В этот период афинские советы в основном направлялись грубым и беспринципным демагогом по имени Клеон, который в конце концов был убит в битве под стенами Амфиполя, македонского города, владение которым оспаривалось афинянами и лакедемонянами. Клеона сменил в управлении государственными делами Никий, лидер аристократической партии, человек добродетельного, но непредприимчивого характера и военачальник средних способностей. Под его покровительством был заключен мир на пятьдесят лет, обычно известный под названием «Мир Никия», на десятом году войны (421 г. до н. э.). Однако прошло немного времени, прежде чем борьба возобновилась. Оскорбленный тем, что его союзники отказались от борьбы, предпринятой для утверждения его предполагаемых прав, Коринф отказался быть участником мирного договора и вступил в новый четверной союз с Аргосом, Элидой и Мантинеей, городом Аркадии; мнимой целью этой конфедерации была защита государств Пелопоннеса от агрессии Афин и Спарты. Эта цель, казалось, была нетрудно достижима, поскольку между двумя последними республиками возникло новое недоверие из-за нежелания, которое они чувствовали и проявляли обеими, уступить некоторые места, которые они обязались взаимно сдать по договору. Возбужденная таким образом зависть была раздута в неистовое пламя искусными мерами Алкивиада, молодого афинянина, который теперь начал подниматься к политической власти, и чей гений и характер впоследствии оказали сильное влияние на дела Афин.
АЛКИВИАД. Алкивиад был сыном Клиния, афинянина высокого ранга. Наделенный необычайной красотой и талантами высочайшего порядка, он, к сожалению, был лишен той непреклонной честности, которая является неотъемлемым элементом каждого истинно великого характера, и его бурные страсти иногда побуждали его действовать таким образом, который навлек позор на его память. Еще совсем молодым Алкивиад служил в афинской армии и стал товарищем и учеником Сократа, одного из самых мудрых и добродетельных греческих мудрецов. Оказав некоторую услугу своей стране в затяжной и бесполезной войне с Лакедемоном и обладая талантом обращаться к страстям толпы, Алкивиад, как и другие до него, стал бесспорным главой государственных дел в Афинах. Но это превосходство было недолгим. В народе возникло мнение, что он задумал ниспровергнуть конституцию, и его падение было столь же быстрым, как и его возвышение. Многие из его друзей были казнены, а он, находясь в отъезде, лишился своей власти. Оставшись таким образом без публичного управляющего делами, Афины, как обычно, были раздираемы внутренними раздорами: аристократическая фракция преуспела в ниспровержении демократического правительства (411 г. до н. э.) и создании совета из 400 человек для управления государственными делами, с правом созывать собрание из 5000 главнейших граждан для совета и помощи в любой чрезвычайной ситуации. Эти 400 тиранов, как их называли в народе, не успели облечься властью, как они уничтожили всю оставшуюся часть свободных учреждений Афин. Они вели себя с величайшей наглостью и суровостью по отношению к народу и пытались подтвердить и увековечить свою узурпированную власть, собрав отряд наемных войск на островах Эгейского моря с целью устрашения и порабощения своих сограждан. Афинская армия в это время находилась на острове Самос, куда она отступила после похода против восставших городов Малой Азии. Когда пришли вести о революции в Афинах и тиранических действиях олигархической фракции, солдаты с негодованием отказались подчиняться новому правительству и послали приглашение Алкивиаду вернуться к ним и помочь в восстановлении демократической конституции. Он повиновался призыву; и как только он прибыл на Самос, войска избрали его своим полководцем. Затем он отправил в Афины послание, в котором приказал 400 тиранам немедленно сложить с себя неконституционную власть, если они хотят избежать низложения и смерти от его рук.
Это сообщение достигло Афин в момент величайшего смятения и тревоги. 400 тиранов поссорились между собой и собирались обратиться к мечу: остров Эвбея, с которого Афины некоторое время в основном снабжались продовольствием, восстал, и флот, посланный для его покорения, был уничтожен лакедемонянами, так что берега Аттики и сам порт Афин теперь остались без защиты. В этих тягостных обстоятельствах народ, доведенный до отчаяния, восстал против своих угнетателей, сверг правительство 400, просуществовавшее всего несколько месяцев, и восстановил свои древние институты. Алкивиад был теперь отозван; но прежде чем снова посетить Афины, он желал совершить какой-нибудь блестящий военный подвиг, который мог бы стереть воспоминание о его недавней связи со спартанцами и придать его возвращению вид триумфа. Соответственно, он присоединился к афинскому флоту, тогда стоявшему у входа в Геллеспонт, и вскоре одержал несколько важных побед над лакедемонянами, как на море, так и на суше. Затем он вернулся в Афины, где его встретили с восторгом. На его голову осыпали венки из цветов, и среди самых восторженных возгласов он проследовал к месту собрания, где обратился к народу с речью такого красноречия и силы, что в ее конце на его чело был возложен золотой венец, и он был наделен верховным командованием афинских сил, как морских, так и военных. Его конфискованное имущество было возвращено, и жрецам было приказано отменить проклятия, которые ранее были произнесены на него.
Эта популярность Алкивиада не была долговременной. Многие из зависимых от Афин территорий находились в состоянии мятежа, и он принял командование вооружением, предназначенным для их усмирения. Но возникли обстоятельства, которые вынудили его на короткое время оставить флот под командованием одного из своих офицеров по имени Антиох, который, несмотря на четкие приказы об обратном, дал бой лакедемонянам во время отсутствия главнокомандующего и был разбит. Когда известие об этом действии достигло Афин, против Алкивиада поднялся яростный шум: его обвинили в пренебрежении своим долгом, и он получил вторичное увольнение со всех должностей. Узнав об этом, он покинул флот и, удалившись в крепость, которую он построил в Херсонесе Фракийском, собрал вокруг себя отряд военных авантюристов, с помощью которых он вел грабительскую войну против соседних фракийских племен.
Алкивиад не долго пережил свою вторую немилость у соотечественников. Найдя свое фракийское место жительства небезопасным из-за растущей мощи его врагов-лакедемонян, он переправился через Геллеспонт и поселился в Вифинии, стране на азиатской стороне Пропонтиды. Там его атаковали и разграбили фракийцы, он отправился во Фригию и отдал себя под защиту Фарнабаса, персидского сатрапа этой провинции. Но даже там несчастного вождя преследовала неумолимая ненависть лакедемонян, по указанию которых он был тайно и подло убит. Так погиб, около сорокового года своего возраста (403 г. до н. э.), один из самых способных людей, которых когда-либо рождала Греция. Выдающийся как воин, оратор и государственный деятель, и по своей природе благородный и великодушный, Алкивиад был бы поистине достоин нашего восхищения, если бы обладал честностью; Однако его беспринципность и необузданные страсти привели к тому, что он совершил множество тяжких ошибок, которые в немалой степени способствовали возникновению или усугублению тех бедствий, которые впоследствии его постигли.
УПАД АФИНСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ.
С Алкивиадом погиб последний из великих людей, обладавших властью повелевать дикой демократией или, собственно говоря, толпой Афин. С момента его смерти и до покорения страны афинский народ находился во власти соперничающих фракций и без единого устоявшегося принципа правления. В этот краткий период своей истории, когда своего рода народная демократия достигла господства над делами, произошел суд и осуждение Сократа, выдающегося учителя морали и человека, невиновного ни в каком проступке, кроме того, что он опозорил своими выдающимися заслугами пороки и глупости своих современников. По ложному обвинению в развращении нравов учеников, слушавших его восхитительные толкования, и в отрицании религии своей страны, он был, к вечному позору афинян, вынужден умереть, выпив яд, судьба, которой он покорился с великодушием, которое сделало его имя навсегда прославленным. Эта отвратительная сделка произошла в 400 году до н.э.
После смерти этого великого человека политическая независимость Афин подошла к концу – обстоятельство, которое не может вызвать ни малейшего удивления, когда мы размышляем о волнениях ее граждан, о преследовании ими добродетели и таланта и об их несчастном недоверии к любой устоявшейся форме правления. Их крах в конечном итоге был совершен их неудержимой жаждой войны и не может вызвать никаких эмоций жалости или сожаления у читателя их отвлеченной истории. Лакедемоняне под командованием способного офицера по имени Лисандр атаковали и полностью уничтожили афинский флот. Таким образом, получив бесспорное господство на море, Лисандр легко покорил те города на побережье Фракии и Малой Азии, а также те острова Эгейского моря, которые все еще признавали верховенство Афин. Лишив таким образом это некогда господствующее государство всех его зависимостей, он приступил к блокаде самого города Афин. Афиняне оказали героическую оборону; но после продолжительной осады, во время которой они перенесли все ужасы голода, они были вынуждены сдаться на таких условиях, которые их враги сочли нужным навязать (404 г. до н. э.). Спартанцы потребовали, чтобы укрепления Пирея и длинные стены, соединявшие его с городом, были разрушены; чтобы афиняне отказались от всех претензий на власть над своими бывшими данниками, отозвали изгнанных сторонников 400 тиранов, признали верховенство Спарты и следовали за ее командирами во время войны; и, наконец, чтобы они приняли такую политическую конституцию, которая бы встретила одобрение лакедемонян.
Так рухнула мощь Афин, которые так долго были ведущим государством Греции, и таким образом завершилась Пелопоннесская война, в которой греческие общины так долго вели войну, преследуя лишь одну цель: растратить силы и истощить ресурсы своей общей страны.
СОСТОЯНИЕ АФИН. В эпоху, предшествовавшую падению, Афины, как уже упоминалось, были значительно украшены и расширены Периклом. В то же время сравнительная простота нравов, которая преобладала прежде, была заменена роскошными привычками. Это изменение было описано Джиллисом в его «Истории Древней Греции» следующим образом: «В течение нескольких лет успех Аристида, Кимона и Перикла утроил доходы и увеличил в гораздо большей пропорции владения республики. Афинские галеры господствовали на восточном побережье Средиземного моря; их купцы поглощали торговлю соседних стран; склады Афин изобиловали деревом, металлом, черным деревом, слоновой костью и всеми материалами как полезных, так и приятных искусств; они импортировали предметы роскоши из Италии, Сицилии, Кипра, Лидии, Понта и Пелопоннеса; Опыт улучшил их мастерство в разработке серебряных рудников горы Лаврион; недавно они открыли ценные мраморные жилы на горе Пентелик; мед Гиметта стал важен для внутреннего потребления и внешней торговли; выращивание их оливок (масло долгое время было их основным товаром и единственным продуктом Аттики, который Солон разрешал им экспортировать) должно было улучшиться вместе с общим развитием страны в области искусств и сельского хозяйства, особенно под активным управлением Перикла, который щедро раздавал государственную казну для поощрения всех видов промышленности.
«Но если этот министр поощрял любовь к действию, он счел необходимым, по крайней мере, соответствовать, если не возбуждать, крайнюю страсть к удовольствию, которая тогда начала отличать его соотечественников. Народ Афин, преуспевающий во всех предприятиях против своих внешних, а также внутренних врагов, казалось, имел право пожинать плоды своих опасностей и побед. В течение по крайней мере двенадцати лет, предшествовавших войне Пелопоннеса, их город предоставлял постоянную сцену триумфа и празднества. Драматические развлечения, к которым они были страстно привязаны, больше не проводились в небольших, неукрашенных зданиях, но в каменных или мраморных театрах, возведенных с большими затратами и украшенных самыми драгоценными произведениями природы и искусства. Сокровищница была открыта не только для того, чтобы поставлять украшения для этого любимого развлечения, но и для того, чтобы дать возможность бедным гражданам наслаждаться им, не неся никаких личных расходов; и таким образом, за счет государства или, скорее, его союзников-данников и колоний, пировать и услаждать их уши и воображение объединенными прелестями музыки и поэзии. Удовольствие для глаз было особенно учтено и удовлетворено в архитектуре театров и других декоративных зданий; ибо как Фемистокл укрепил, так и Перикл украсил свой родной город; и если бы совпадающее свидетельство древности не было проиллюстрировано в Парфеноне, или храме Минервы, и других существующих останках, достойных быть бессмертными, было бы трудно поверить, что за несколько лет могли быть созданы эти многочисленные, но неоценимые чудеса искусства, те храмы, театры, статуи, алтари, бани, гимнасии и портики, которые, на языке древних панегириков, сделали Афины глазом и светом Греции.
«Перикла обвиняли в том, что он так украшал один любимый город, как тщеславная сладострастная блудница, за счет разграбленных провинций; но было бы счастьем для афинян, если бы их вымогаемое богатство не было использовано в более гибельной, а также более преступной роскоши. Пышность религиозных торжеств, которые были вдвое многочисленнее и дороже в Афинах, чем в любом другом городе Греции, – экстравагантность развлечений и пиров, которые в таких случаях всегда следовали за жертвоприношениями, – истощили ресурсы республики, не увеличив ее славы. Вместо хлеба, трав и простой пищи, рекомендованных законами Солона, афиняне вскоре после восьмидесятой Олимпиады воспользовались своей обширной торговлей, чтобы импортировать деликатесы далеких стран, которые готовились со всеми утонченностями кулинарии. Вина Кипра охлаждались снегом летом; зимой самые восхитительные цветы украшали столы и людей богатых афинян. Недостаточно было быть увенчанным розами, если их также не умащали самыми дорогими благовониями. Паразиты, танцоры и шуты были обычным дополнением к каждому развлечению. Среди слабого пола страсть к нежным птицам, отличавшимся голосом или оперением, доходила до таких крайностей, что заслуживала названия безумия. Тела тех юношей, которые не были особенно склонны к охоте и лошадям, которые начали становиться преобладающим вкусом, были развращены непристойным образом жизни; в то время как их умы были еще более осквернены распутной философией софистов. «Нет необходимости перегружать картину, поскольку можно заметить, одним словом, что пороки и излишества, которые, как предполагается, характеризуют упадок Греции и Рима, укоренились в Афинах во время правления Перикла, самого блестящего и процветающего в греческих анналах».
В этот период процветали Эсхил и Софокл, Еврипид и Аристофан, драматурги; Пиндар, лирический поэт; Геродот и Фукидид, историки; Ксенофан, Гераклит, Эмпедокл, Анаксагор и Сократ, философы (рассуждавшие о природе человеческого разума и о бессмертной судьбе человека). В этот период также, под управлением Перикла (с 458 по 429 г. до н. э.), скульптура и архитектура достигли своего совершенства. Именно тогда Фидий создал те великолепные произведения, статуи богов и богинь, которые вызывали восхищение мира, и с которыми последующие художники тщетно пытались соперничать. В то время как Афины распространили свою власть на большую часть побережья Эгейского моря и увеличили свою торговлю и коммерцию всеми доступными средствами, они также стали городом дворцов и храмов, руины которых продолжают восхищать века своим величием и красотой. Понятно, что греки переняли свои познания в архитектуре от египтян; но они значительно превзошли их в изяществе своих проектов и в значительной степени имеют право на характер изобретателей в этом искусстве. Красота коринфской колонны, например, никогда не была превзойдена ни в древние, ни в современные времена.
После сдачи Афин спартанцам (404 г. до н. э.) демократическая конституция была отменена, и правительство было доверено тридцати лицам, чье грабительское, угнетательское и кровавое управление вскоре обеспечило им титул Тридцати тиранов. Однако господство этих захватчиков было недолгим. Конон, которому в частном порядке помогали персы, желавшие унизить спартанцев, изгнал врага и восстановил независимость своей страны. Примерно семьдесят лет спустя новым источником волнений по всей Греции стали воинственные проекты Александра, царя Македонии, обычно именуемого.
АЛЕКСАНДР МАЛЫЙ. Этот бесстрашный и амбициозный солдат был сыном Филиппа, царя Македонии, небольшой территории, прилегающей к греческим государствам, от которой он изначально получил знания об искусствах и учености. Александр родился в 356 году до нашей эры, и его отец поручил ему получить образование философу Аристотелю; долг, который был добросовестно выполнен. Убийством Филиппа Александр был призван на трон Македонии, когда ему было всего двадцать лет, и сразу же получил возможность продемонстрировать свои великие воинские способности, проведя экспедицию в Грецию, которая сопровождалась выдающимся успехом и обеспечила ему честь стать преемником своего отца в качестве главнокомандующего греческими государствами. Теперь он осуществил план, который был составлен Филиппом, покорить Персию и другие страны Азии. Весной 334 г. до н. э. он переправился на азиатское побережье с армией в 30 000 пехотинцев и 5 000 всадников, тем самым начав самое важное военное предприятие, которое описано на страницах древней истории. Александр прошел через Малую Азию и в последовательных столкновениях полностью покорил армии Персии; но вся история его продвижения представляет собой лишь рассказ о великолепных победах. В течение примерно семи или восьми лет он завоевал Персию, Ассирию, Египет, Вавилонию и, по сути, стал хозяином почти всех полуцивилизованных стран Азии и Африки. Не похоже, чтобы у Александра были какие-либо мотивы для этого широкомасштабного свержения древних и отдаленных суверенитетов, за исключением простого честолюбия или желания завоевания, возможно, с неопределенной идеей улучшения социального положения стран, которые он завоевал. Из различных обстоятельств его карьеры становится ясно, что он никогда не помышлял о приобретении богатства или славы, за исключением тех, которыми он мог поделиться со своими солдатами, к которым он питал самую отеческую привязанность.



