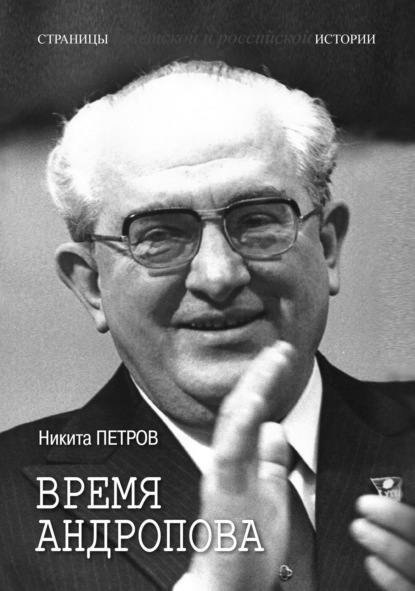
Полная версия:
Время Андропова
Безрадостное и подавленное настроение было у Андропова. Но еще хуже себя чувствовали остальные работники, давая волю страхам. Сидоров много чего наслушался и записал: «В посольстве у работников достаточная растерянность. Боятся, как бы не было ввода Амер[иканских] войск. В городе сейчас постреливают. Мы пообедали в столовой вполне прилично»[469]. Ну хоть с этим повезло – покормили.
В тот же день Сидоров записывает свои впечатления от прослушанного им выступления Имре Надя по радио: «Оплакивали социал[истическую] республику. Кажется, пропала и демократ[ическа]я республика. Гере нет в стране. Хегедюш – так же»[470]. Застрявших в посольстве советских граждан, и в их числе Сидорова, после полуночи переправили в советскую военную комендатуру, а оттуда в 8 утра на грузовиках под прикрытием танков и бронетранспортеров с полутора десятком автоматчиков на большой скорости доставили на аэродром. «До аэропорта добрались быстро», – пишет Сидоров. На этом его злоключения закончилось[471]. А в Венгрии все катилось к финалу.
Сын Андропова Игорь, в то время 14-летний подросток, вспоминал: «Когда 31 октября семьи советских дипломатов, минуя 3-й и 4-й блокпосты повстанцев, выезжали из Будапешта в аэропорт Текеле, я своими глазами видел трупы людей в серой форме – сотрудников госбезопасности и в синей милицейской, повешенные на фонарях, деревьях и даже в пролетах мостов. Детям пытались прикрыть глаза, но не видеть этого было нельзя. Вслед за нашим автобусом в аэропорт прорвалась группа сотрудников венгерской госбезопасности, их было человек 150»[472]. Вот, собственно, когда жена Андропова Татьяна Филипповна могла увидеть страшные картины и по-настоящему испугаться за мужа, себя и детей.
В Кремле лихорадочно решали, что делать. Серов 30 октября вылетел из Будапешта в Москву. На заседании Президиума ЦК КПСС 1 ноября 1956 года, когда обсуждалась обстановка в Венгрии, Серов высказался наиболее воинственно: «Надо решительные меры принимать. Оккупировать надо страну»[473]. На следующий день был выработан план действий. Военная часть операции получила кодовое название «Вихрь»[474].
Судя по мемуарам Хрущева, в Президиуме ЦК проявил колебания только Микоян. Он отсутствовал при принятии решения (о военной акции, намеченной на 4 ноября), а когда вернулся в Москву, поделился сомнениями с Хрущевым и высказался в резкой форме против применения военной силы, требовал нового голосования по этому вопросу. Но Хрущев отказался, сказав, что «решение уже состоялось» и сроки начала уже намечены[475]. Интересно, что Молотов не был против военной акции, но был против того, чтобы власть отдать Кадару, даже утверждал, что Кадар принадлежит к руководящей группе Надя[476]. Вот где сказался результат просчета Андропова. Он, пользовавшийся доверием Молотова, сформировал у него стойкое предубеждение в отношении Кадара.
В первый день ноября Андропов вечером был приглашен Имре Надем на заседание узкого состава кабинета министров. Венгерский премьер недоумевал, почему выведенные накануне из Будапешта советские войска далеко не ушли, а расположились в близлежащей местности и на аэродромах. Надь выразил протест, и его поддержал Кадар. Андропов выкручивался как мог, заявив, что начата подготовка к выводу войск[477].
Андропов знал о намеченной военной акции, как и о том, что Кремль теперь сделал ставку на Кадара. В ночь на 2 ноября при участии Андропова Кадар и министр внутренних дел Ференц Мюнних были переправлены в расположение штаба советских войск, откуда оба вылетели в Москву и приняли участие в заседаниях Президиума ЦК КПСС, где обсуждался состав будущего венгерского правительства[478].
2 ноября Имре Надь вызвал Андропова и вновь выразил протест в связи с продолжающимся движением советских войск в Венгрию через границу. В конце беседы, как пишет Андропов, Надь «в раздраженном тоне просил меня дать объяснение по поводу исчезновения Кадара и Мюнниха» и заявил, что Мюнниха видели около советского посольства, где он пересаживался в бронетранспортер. Андропов пишет: «Я решительно отверг претензию Надя относительно участия посольства в деле исчезновения Кадара и Мюнниха»[479].
А в это время в Москве заседал Президиум ЦК, на который прибыли Кадар и Мюнних. Члены Президиума их внимательно выслушали. Кадар рассказал несколько эпизодов, весьма выпукло характеризовавших хитрость и изворотливость Андропова. Речь шла о ходе заседания правительства Венгрии 1 ноября 1956 года:
«Сообщили, что советские войска перешли границу на машинах. Венгерские подразделения окопались. Что делать, стрелять или не стрелять? Вызвали Андропова. Андропов сказал, что это железнодорожники. Венгры с границы телеграфировали, что это [не] железнодорожники. Затем сообщили, что идут советские танки на Сольнок. Это было в полдень. В пр[авительст]ве нервозное положение. Вызвали Андропова. Ответил передислокация. Затем снова сообщили: советские танки окружили аэродромы. Вызвали Андропова. Ответил: вывоз раненых воинов»[480].
Впечатляет эта повторяющаяся фраза «вызвали Андропова». Он как будто прописался на заседаниях венгерского правительства, и на все у него уже заготовлен дежурный ответ. А сколько выдумки и изобретательности! Главное – усыпить бдительность. Члены Президиума ЦК КПСС могли по достоинству оценить таланты Андропова – настоящий дипломат!
Но Андропов венгров не убедил, ему не поверили. На заседании правительства стали обсуждать вопрос о провозглашении нейтралитета Венгрии и выходе из Варшавского договора. А это уже было весьма серьезно. Кадар, по его словам, поначалу возражал: «Я говорил, что этого делать нельзя, не поговорив с Андроповым»[481]. Но, увы, Андропову не удалось предотвратить неизбежное, несмотря на все уловки, отговорки и красноречие. Теперь он говорил о «военных маневрах». Кадар изложил подробности заседания:
«Весь кабинет заявил, кроме Кадара, что Совет[ское] пр[авительст]во обманет Венгерское пр[авительст]во. Оттянули на 2 часа. Разъяснение Сов[етского] пр[авительст]ва их не успокоило. Они заявили Андропову, что они сделают этот шаг. Когда Андропов ушел, они сделали свой шаг о нейтралитете и [решили] вопрос об обращении в ООН. Если это маневры, тогда отзовут вопрос из ООН. Когда Андропов ушел, то он, Кадар, тоже проголосовал за нейтралитет»[482].
Не сумев предотвратить столь серьезный политический шаг венгров, Андропов оправдывался перед Москвой, писал, что действовал «в духе полученных мной директив»[483]. В той же телеграмме содержится признание поддержки венгерским народом требования вывода советских войск: «…рабочие всех предприятий Венгрии объявили двухнедельную забастовку, требуя вывода из Венгрии советских войск»[484]. Андропов потерпел поражение, но не сильно унывал. Он знал, что через пару дней все решится по-иному. Все пойдет по советскому сценарию.
Кадар сделал свой выбор. Ему со всей очевидностью стало ясно уже 30 октября, что ликвидация однопартийной системы в Венгрии означает «падение коммунистического строя»[485]. Он четко осознал – его оттесняют от руководства. Возглавляемая Кадаром ВПТ оказалась полностью деморализованной и утратила рычаги власти. Кадар принял меры по созданию новой организации – Венгерской социалистической рабочей партии, о чем объявил по радио 1 ноября 1956 года[486]. Но власть ускользала из рук. Он был всего лишь членом правительства во главе с Надем. Уже после исчезновения Кадара из Будапешта Имре Надь сформировал 3 ноября новое правительство с представителями четырех основных партий.
А Андропов напускал туману. Утром 3 ноября он информировал Надя, что советское правительство приняло предложение о переговорах по военным аспектам вывода войск. В середине этого же дня переговоры венгров с советской делегацией во главе с генералом Малининым начались на военной базе в Текеле[487].
Это был лишь маневр для успокоения венгров. Решение в Москве уже было принято.
Группа из семи генералов КГБ во главе с Серовым отправилась из Москвы с Центрального аэродрома 3 ноября 1956 года и прибыла в Будапешт на военный аэродром Текель[488]. Там же, на аэродроме, Серов провел оперативное совещание и определил, кто из генералов возглавит конкретные оперативные секторы КГБ. Серов не стал изобретать велосипед. Привычная ему форма организации органов госбезопасности – оперсекторы. В зоне своего действия оперсекторы КГБ в Венгрии отвечали за проведение агентурно-оперативной работы, намечали «контингент для изъятия и изоляции», а аресты проводились силами особых отделов КГБ воинских частей Советской армии.
В середине дня 3 ноября начались переговоры между венгерской и советской делегациями о выводе войск из Венгрии. Их начало было обнадеживающим. Расхождения наметились только в сроках вывода войск. Венгры предлагали завершить вывод советских войск к 15 декабря 1956 года, советская сторона настаивала на дате 15 января 1957 года. В полночь с 3 на 4 ноября 1956 года в зал переговоров на советской военной базе в Текеле, близ Будапешта прибыл Серов и объявил об аресте всех членов венгерской делегации, включая министра обороны Пала Малетера и начальника Генштаба Иштвана Ковача[489].
Эта сцена описана в отчете ООН следующим образом:
«Обсуждение в Текеле между советской военной делегацией и венгерской военной делегацией было фактически прервано появлением одного лица, „которое не имело никаких знаков отличия“ – генерала Серова, главы советской полиции безопасности. Сопровождаемый советскими офицерами, он заявил, что он арестовывает венгерскую делегацию. Глава советской делегации генерал Малинин, удивленный этим вмешательством, сделал жест возмущения. После этого генерал Серов что-то сказал ему шепотом; в результате генерал Малинин пожал плечами и приказал советской делегации покинуть комнату. Венгерская делегация затем была арестована»[490]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
Брутенц К.Н. Несбывшееся. Неравнодушные заметки о перестройке. М., 2005. С. 50.
2
Андропов Ю.В. Ленинизм – неисчерпаемый источник революционной энергии и творчества масс: Избранные речи и статьи. М., 1984. С. 100.
3
РГАНИ. Ф. 82. Оп. 1. Д. 64. Л. 11. Личное дело учащегося Рыбинского техникума Ю.В. Андропова.
4
РГАНИ. Ф. 82. Оп. 1. Д. 64. Л. 16.
5
Там же. Л. 16 об., 17 об.
6
Костырченко Г.В. Карьерные страдания молодого Андропова: как он «отмывал» свое прошлое // Россия XXI. 2013. № 3. С. 50–73.
7
Центр документов новейшей истории Государственного архива Ярославской области (ЦДНИ ГАЯО). Ф. 594. Оп. 30. Д. 1. Л. 148.
8
Там же. Л. 150 об.
9
Там же. Д. 6. Л. 4.
10
РГАНИ. Ф. 82. Оп. 1. Д. 67. Л. 18. «Дело № 48 Андропова Ю.В.» – дело работника номенклатуры Ярославского обкома ВКП(б).
11
РГАНИ. Ф. 82. Оп. 1. Д. 66. Л. 8–9.
12
Моздокский вестник. 2014. 28 марта.
13
К сожалению, подтвердить год смерти матери Андропова другими объективными источниками пока не удалось. Просмотр номеров издававшейся в Моздоке районной газеты «За коллективизацию» за 1930–1931 годы на предмет поиска некролога или извещения о смерти ничего не дал.
14
В некоторых источниках год смерти матери Андропова указан 1923, но никаких документальных подтверждений этому нет (Медведев Р.А. Андропов. М., 2012. С. 23).
15
РГАНИ. Ф. 82. Оп. 1. Д. 67. Л. 18.
16
Там же. Л. 6.
17
РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 18. Д. 164а. Л. 6. Личное дело Ю.В. Андропова – работника номенклатуры ЦК ВЛКСМ.
18
Шлейкин Ю.В. Андропов. Карелия 1940–1951… Биографическая хроника. Петрозаводск, 2014. С. 245.
19
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 594. Оп. 30. Д. 1. Л. 148.
20
Там же. Л. 150.
21
РГАНИ. Ф. 82. Оп. 1. Д. 68. Л. 7. «Дело № 513 о переводе из кандидатов ВКП(б) в действительные члены ВКП(б) тов. Андропова Ю.В.».
22
Там же. Д. 67. Л. 12.
23
Там же. Л. 13.
24
Там же.
25
Там же.
26
Там же. Л. 14.
27
РГАНИ. Ф. 82. Оп. 1. Д. 67. Л. 15–16.
28
Батуева Е. У генсека была своя Арина Родионовна. – URL: http://yaroslavl.fsb.ru/smi/arina.html (дата обращения: 18.11.2022).
29
РГАНИ. Ф. 82. Оп. 1. Д. 67. Л. 13.
30
Там же. Л. 15–16.
31
Там же. См. также: Батуева Е. Указ. соч.
32
Костырченко Г.В. Карьерные страдания молодого Андропова…
33
Тёшкин Ю.А. Андропов и другие. Ярославль, 1998. С. 224 (вкладка с иллюстрациями).
34
Место рождения указано: ЦГА Москвы. Ф. 11. Оп. 1. Д. 8396. Л. 6 об.
35
Бабиченко Д. Легендарная личность // Итоги. 2005. 3 октября. №. 40. С. 32.
36
Вся Москва: Адресная и справочная книга на 1892 год: 21-й год издания. М., 1892. С. 215; 1893. С. 221; 1895. С. 195, 295; 1896. С. 206, 296; 1897. С. 229; 1898. С. 266, 331, 351; 1899. С. 286, 351; 1900. С. 310, 340; 1901. С. 469; 1902. С. 468; 1903. С. 227; 1904. С. 353; 1905. С. 231, 493; 1906. С. 417; 1907. С. 373; 1908. С. 422; 1909. С. 442; 1910. С. 277, 455; 1911. С. 281, 596; 1912. С. 262, 549; 1913. С. 240, 603; 1914. С. 239, 439, 695; 1915. С. 517; 1916. С. 526; 1917. С. 512.
37
Там же. 1892. С. 215; 1893. С. 221.
38
ЦГА Москвы. Ф. 117. Оп. 11. Д. 250. Л. 3 об.
39
ЦГА Москвы. Ф. 117. Оп. 11. Д. 250. Л. 2.
40
Вся Москва… 1894. С. 312.
41
Там же. 1897. С. 229.
42
Там же. 1898. С. 266.
43
Там же. 1900. С. 269.
44
Там же. 1899. С. 200.
45
Остроухов В.Ф. Московское Лазарево кладбище: Ист. исслед., сост. на основании имеющихся в кладбищен. церкви разных документов местным свящ. Владимиром Остроуховым. [М.], 1883.
46
ЦГА Москвы. Ф. 117. Оп. 11. Д. 250. Л. 14.
47
Там же. Л. 12–13.
48
Там же. Л. 23 об.
49
Вся Москва… 1917. С. 370.
50
ЦГА Москвы. Ф. 117. Оп. 11. Д. 250. Л. 12.
51
Там же. Ф. 179. Оп. 63. Д. 6585. Л. 1.
52
Вся Москва… 1912. С. 294; 1913. С. 267; 1914. С. 267.
53
Там же. 1896. С. 529; 1897. С. 440, 472; 1898. С. 1373; 1899. С. 1423; 1900. С. 1542, 1583; 1901. С. 1661, 1705; 1902. С. 1876, 1926; 1903. С. 312, 333; 1904. С. 521, 556; 1905. С. 629, 675; 1906. С. 614, 655; 1907. С. 608, 647; 1908. С. 422, 704; 1909. С. 442, 638, 681; 1910. С. 708, 753; 1911. С. 790, 838; 1912. С. 843, 896; 1913. С. 911, 961; 1914. С. 951, 1007; 1915. С. 839, 892; 1916. С. 769, 817.
54
Вся Москва… 1899. С. 1423; 1900. С. 340.
55
Справочная книга о лицах, получивших на 1899 год купеческие и промысловые свидетельства по г. Москве. М., 1899. С. 273.
56
Там же. 1902. С. 296; 1903. С. 293; 1904. С. 310.
57
Там же. 1905. С. 272.
58
Там же. 1906. С. 258; 1907. С. 247; 1909. С. 272; 1910. С. 245; 1915. С. 273.
59
См., например, отсутствие упоминаний Флекенштейн: Там же. 1911. С. 254; 1912. С. 271; 1913. С. 280; 1914. С. 255; 1916. С. 275.
60
ЦГА Москвы. Ф. 3. Оп. 4.
61
Костырченко Г.В. Карьерные страдания молодого Андропова…
62
Свод законов Российской империи. Пг., 1916. Т. 15. Ч. 1. С. 305.
63
Там же. С. 11, 335.
64
ЦГА Москвы. Ф. 131. Оп. 14. Д. 2301. Л. 4.
65
Там же. Л. 3 об.
66
Там же. Л. 8–9.
67
ЦГА Москвы. Ф. 179. Оп. 63. Д. 6585. Л. 1, 3.
68
ЦГА Москвы. Ф. 179. Оп. 63. Д. 6585. Л. 3.
69
Там же. Л. 7 об.
70
Там же. Ф. 11. Оп. 1. Д. 8396. Л. 1 об.
71
Там же. Л. 3.
72
Там же. Л. 6.
73
Там же. Л. 6, 12.
74
ЦГА Москвы. Ф. 11. Оп. 1. Д. 8396. Л. 6 об.
75
Там же. Ф. 131. Оп. 96. Д. 3. Л. 50.
76
Там же. Л. 50–50 об.
77
Там же. Оп. 99. Д. 185. Л. 7.
78
Там же. Оп. 96. Д. 3. Л. 51.
79
Там же. Л. 52–53 об.
80
Там же. Л. 54–55 об.
81
Там же. Л. 58 об.
82
ЦГА Москвы. Ф. 96. Д. 3. Л. 58 об.
83
Там же. Л. 62.
84
Там же. Л. 73 об.
85
Там же. Л. 84.
86
Там же. Л. 77.
87
Там же. Л. 89 об.
88
Дневники Императора Николая II. М., 1992. С. 531.
89
ЦГА Москвы. Ф. 131. Оп. 96. Д. 3. Л. 85–85 об.
90
Там же. Л. 92.
91
ЦГА Москвы. Ф. 16. Оп. 232. Д. 4. Л. 4.
92
Там же. Л. 172.
93
Там же. Л. 174.
94
Русское слово (Москва). 1915. 21 августа. Автор благодарит Ирину Середину и Татьяну Сенюхину за помощь в поиске некролога.
95
ЦГА Москвы. Ф. 2099. Оп. 2. Д. 148. Л. 144 об.
96
Там же. Д. 139. Л. 16; Д. 144. Л. 25.
97
Справочная книга о лицах, получивших на 1915 год купеческие и промысловые свидетельства по г. Москве. М., 1915. С. 273.
98
ЦГА Москвы. Ф. 179. Оп. 63. Д. 6585. Л. 23.
99
Вся Москва… 1917. С. 512.
100
Там же. С. 846, 897. В книге ошибочно указано два владельца магазина: в перечне часовых магазинов – Флеккенштейн Карл Александрович по адресу Пречистенка, 17 и в перечне ювелирных магазинов – Флеккенштейн Евдокия Егоровна по адресу Большая Лубянка, 17. В обоих случаях дан один и тот же телефон: 215-30. По адресу Большая Лубянка, 17 располагался Сретенский монастырь. По-видимому, при подготовке справочника (а сведения подавались до 1 сентября 1916 года) не учли факт смены владельца магазина, ошиблись в новом адресе, да и отчество Евдокии Флекенштейн дали то, какое она использовала до 1904 года.
101
ЦГА Москвы. Ф. Р-3096. Оп. 1. Д. 2, 5–7; Ф. Р-3108. Оп. 1, 2.
102
Вся Москва… 1895. С. 195.
103
ЦГА Москвы. Ф. 117. Оп. 23. Д. 405. Л. 69.
104
РГАНИ. Ф. 82. Оп. 1. Д. 64. Л. 22.
105
Там же. Д. 67. Л. 16.
106
ЦГА Москвы. Ф. 16. Оп. 82. Д. 238. Л. 1.
107
Там же. Л. 2, 7.
108
Там же. Л. 3, 9.
109
Там же. Л. 5 об.
110
ЦГА Москвы. Ф. 459. Оп. 5. Д. 2851. Л. 32.
111
Там же. Л. 26, 26 об, 29.
112
Вся Москва… 1910. С. 455.
113
Там же. С. 403.
114
Там же. 1913. С. 427; 1914. С. 695; 1915. С. 517; 1916. С. 526.
115
Там же. 1917. С. 512.
116
ЦГА Москвы. Ф. 179. Оп. 63. Д. 6585. Л. 20, 23.
117
Айдарова Н.М. Моя жизнь. – URL: uglich.mybb.ru/viewtopic.php?id=765 (дата обращения: 18.11.2022).
118
ЦГА Москвы. Ф. 459. Оп. 5. Д. 3630. Л. 19.
119
Там же. Д. 3683. Л. 200.
120
Там же. Л. 214 об. – 215.
121
Там же. Д. 3630. Л. 9.
122
ЦГА Москвы. Ф. 459. Оп. 5. Д. 3630. Л. 9.
123
Там же. Л. 14 об. – 15.
124
Там же. Л. 19.
125
Там же. Д. 5462. Л. 16 об. – 17.
126
Там же. Д. 3630. Л. 18 об., 27 об.
127
Там же. Д. 6087. Л. 8.
128
Вся Москва… 1914. С. 439.
129
Там же. 1915. С. 430.
130
Бабиченко Д. Указ. соч. С. 33–34.
131
Костырченко Г.В. Карьерные страдания молодого Андропова…
132
Семанов С.И. Андропов. Семь тайн генсека. М., 2001. С. 15–16.
133
Бабиченко Д. Указ. соч. С. 33–34.
134
Жирнов Е. Человек с душком // Коммерсантъ Власть. 2001. 6 февраля. № 5. С. 60.
135
Бабиченко Д. Указ. соч. С. 33.
136
Дадианова Т.В. Мифологизация и стихотворчество Ю.В. Андропова в контексте проблемы «Среда и человек». – URL: http://kvkz.ru/interesno/3420-mifologizaciya-i-stihotvorchestvo-yuv-andropova-v-kontekste-problemy-sreda-i-chelovek.html (дата обращения: 18.11.2022).
137
Там же. См. также: Костырченко Г.В. Карьерные страдания молодого Андропова…
138
РГАНИ. Ф. 82. Оп. 1. Д. 67. Л. 13. См. также: Емельянов И. Был ли Андропов сыном белогвардейца и хорошим штурвальным // Комсомольская правда. 2021. 9 июня.
139
Костырченко Г.В. Карьерные страдания молодого Андропова…
140
ЦГА Москвы. Ф. 231. Оп. 1 (Личные дела учащихся); Оп. 2. Д. 336–339; Оп. 3. Д. 91.
141
РГАНИ. Ф. 82. Оп. 1. Д. 64. Л. 6.
142
Костырченко Г.В. Карьерные страдания молодого Андропова…
143
Дадианова Т.В. Указ. соч.
144
РГАНИ. Ф. 82. Оп. 1. Д. 67. Л. 19.
145
Там же. Л. 19–20.
146
Там же. Л. 19.
147
В Моздоке отметили столетний юбилей Юрия Андропова // ГТРК «Алания». 17 июня 2014 г. – URL: https://alaniatv.ru/v-mozdoke-otmetili-stoletnij-yubilej-yuriya-andropova/ (дата обращения: 18.11.2022).

