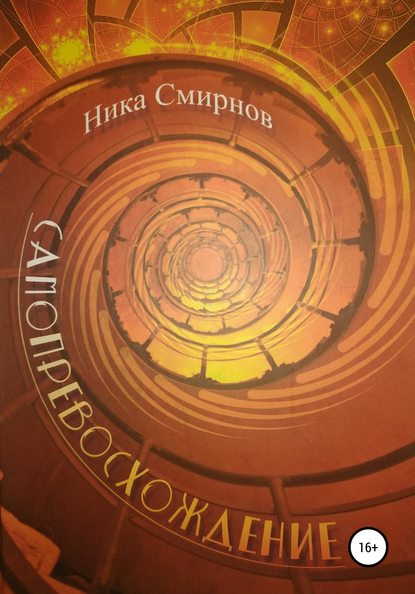 Полная версия
Полная версияСамопревосхождение
Она была в джинсовом комбинезоне и шелковистой вязаной кофточке бледно-сиреневого цвета, обтягивающей тонкие руки и заканчивающейся фонариками у плеч.
—
Привет! – Ася улыбнулась. – Как же я рада вас всех снова видеть!
Она широко развела руки, как бы желая обнять и дом, и сад, и озеро за ним, и где-то там, вдалеке, прозрачный мелкий залив с песчаными берегами и чайками, недвижно сидящими в воде на камнях.
—
Ася! Послушай, мы ведь тебя даже толком не поздравили, – сказал я, откровенно любуясь ею. – Правда, ты не позвала нас на свадьбу. Но подарки у нас есть.
—
А свадьбы и не было, – отмахнулась она. – Не было и регистрации, если ты об этом. У нас получился свободный европейский союз.
Она задумалась и замолчала, но мне, как всегда, нетрудно было держать с нею паузу.
—
Ты надолго приехала? – наконец спросил я.
—
Я здесь уже две недели. Сколько пробуду ещё, не знаю.
Мастерская была очень большой, она занимала весь второй этаж, и Ася чудесно смотрелась на фоне полностью застеклённой стены, за которой отчётливо были видны ветви высоко выросших деревьев с ещё клейкими, блестящими листочками.
—
Что ты всё улыбаешься? – Ася с любопытством поглядывала на меня, двигаясь своей лёгкой походкой по периметру освещённого солнцем помещения и постепенно приближаясь ко мне.
—
Очень хочется тебя обнять, …сестрёнка. Можно?
—
Почему нет, …братец?
Она подошла совсем близко и я осторожно положил руки ей на спину, сразу почувствовав и всю её хрупкую незащищённость, и всю свою пронзительную к ней нежность… Как вдруг неожиданно ощутил, уловил еле слышное дуновение от присутствия ещё одного, крохотного, живого существа, уже умеющего, однако, радоваться жизни.
—
Ты так и будешь держать меня? – насмешливо проговорила Ася.
—
Нет. – Я опустил руки.
Теперь она более пристально вглядывалась в меня.
—
Ты очень переменился.
Я пожал плечами о отошёл.
—
Все мы меняемся. Вот и у тебя, например, скоро появится девочка и ты станешь мамой.
Она вздрогнула и как-то вся напряглась:
—
Ты уверен, …что это будет девочка?
—
Да. Такая же прелестная, как ты.
—
Ну, раз ты всё знаешь, – заговорила она, по-прежнему внимательно меня изучая, – тогда, может быть, согласишься стать крёстным отцом?
—
Ну уж нет! – решительно сказал я.
—
Почему? – удивилась Ася.
—
Потому что тогда я не смогу никогда на тебе жениться – крёстным не положено.
Я хотел, чтобы всё выглядело обычной шуткой, хотя на самом деле прекрасно знал, что всё это правда.
—
Не говори глупости! Ты уже женат.
—
У тебя устаревшие сведения, моя дорогая, – усмехнулся я, – Алина сделала мне предложение: она пожелала оформить развод.
Я согласился.
Ася вопросительно смотрела на меня, очевидно ожидая разъяснений, но я не мог ей больше ничего сейчас сказать, разве что повторить общеизвестное:
—
Не бери в голову! Всё, что ни делается, всё к лучшему.
Ася ещё попыталась сопротивляться:
—
То есть, ты можешь быть крёстным?
—
Нет, конечно.
И тут, похоже, она всё поняла:
—
Это что, такое вот замысловатое объяснение в любви? «Нормальные герои всегда идут в обход»? – спросила она.
—
Да, так и есть, – спокойно ответил я. Отступать было некуда. – Но тебя это ни к чему не обязывает. Скорее наоборот.
—
Что значит «наоборот»? – проговорила она, упрямо встряхивая головой, и её непритязательно стянутые на затылке волосы закачались из стороны в сторону. – Ты меня совсем запутал.
Я молчал. Наша вторая пауза слегка затягивалась. Пришлось прервать её оживлённым, даже слишком, рассказом о первом, что пришло в голову. Первыми были Север и северяне. Ася слушала тихо, не задавая вопросов, и лишь когда я закончил, грустно заметила:
—
Как же много мы знаем и как мало понимаем, а «Вергилия нет за плечами…», – и опять замолчала.
И снова я не выдержал первым:
—
Ася, не грусти! Ну, хочешь, я буду крёстным? В конце концов, какая разница?
—
Теперь уже не хочу. – Она села в кресло и опустила голову. – Как же ты теперь будешь жить?
—
А ты не заметила, что я уже давно так живу, – сказал я, подошёл к ней и мягко взял за руки. – Прости, я не стою твоего сочувствия… и поверь, нет ничего дурного или сложного в том, чтобы научиться жить одному. Это вполне доступное умение для всех, кто его искренне желает.
—
Хочешь сказать, есть такие техники, которые… – Она не стала заканчивать фразу, лишь махнула рукой.
—
Нет. Это случается не благодаря технике. Техника только подготавливает почву, а дальше – нужно быть готовым и …просто ждать, и тогда, возможно, оно придёт, это состояние, …«случится»… каким-то таким образом, что энергии, текущие сквозь тебя и в тебе, начнут трансформироваться, перетекать друг в друга, а ты начнёшь понимать, что можешь ими управлять. Конечно, благодаря чему-то другому, гораздо более важному, чем любые, какие угодно, пусть даже редкие техники.
Ася была взволнована и не скрывала этого:
—
Это слишком сложно для меня!
—
Сложно?! Для тебя?! Да ты почти с пелёнок работаешь не с тем, что возможно или вероятно, а с тем, что невозможно и невероятно! Кого ты хочешь обмануть?
—
Себя, наверное. Смутил ты мою душу.
—
Ася! Ты просто не хочешь услышать. Послушай ещё раз. И в одиночестве есть свой глубокий, особый смысл, даже красота. Если один полюс жизни – это весёлое, шумное общение среди множества людей, то другой – тишина, безмолвие, уединение, созерцание… Разве плохо? Жизнь многогранна, она состоит из того и другого – разного! – и хороша именно своей противоречивой, но всё же цельной полнотой… Останови меня, пожалуйста, а то я могу увлечься!
—
А как же «молчание», «уединение»? Не рано ли ты их предпочёл?
К ней вернулась привычная насмешливость, и я был этому рад.
—
Ну, хватит! Предлагаю пойти к нам ужинать, – весело сказал я, – Екатерина Дмитриевна готовит какую-то грандиозную трапезу в честь приезда отца. Там могут оказаться и солёные огурчики!
А что ещё любят будущие мамы?
Ася вздохнула.
—
Неужели теперь мне всё это придётся постоянно терпеть?
Разве не печаль?
—
Какая печаль, Ася? Посмотри вокруг!
Я подхватил её на руки и отпустил, только когда мы очутились на террасе. Солнце светило ослепительно ярко, рисуя ветвями покачивающихся деревьев узоры на свежей зелёной траве. Вовсе не такие уж скромные, выносливые одуванчики уверенно и свободно раскинули в саду свои жёлтые цветы с множеством узких, тонких лепестков, вынашивающих появление воздушных белых головок, которые маленькими парашютами станут скоро, легко и долго, парить над землёй. И как же хорошо, что ещё больше месяца будет длиться, находящийся сейчас в самом разгаре, сезон Белых Ночей.
Весь июнь мы с Петром готовились к походу на приполярный Урал – он должен был состояться в конце лета. Мы даже посещали тренинг-семинары для новичков, где учили всему на свете: от умения ставить базовый поисковый лагерь в горах до поведения в особых климатических и психологических условиях сложной научно-практической экспедиции. Для нас это было, конечно, паломничество к «местам силы», где мы надеялись пережить, помимо получения уникальной информации, в некотором роде изменённые состояния сознания.
А пока мы осваивали сайты, книги и видеозаписи, подаренные нашими друзьями-северянами. В частности, о «Голосах льда», тонких, гудящих и урчащих, словно доносящихся издалека, или внезапных, взрывных, сопровождающихся яркими вспышками света. Или о «Сейдах» – священных объектах северных народов, представляющих собой различные сооружения из камней. Это могли быть пирамидки, скалы на подставках – «каменных ножках», частично приподнятые или поставленные в неустойчивое положение, а также чем-то особенные места – в горах, тундре, тайге: например выделяющийся выступ, приметный камень, пень, озеро или иное природное образование. Каменные сейды часто сгруппированы в большие скопления и насчитывают десятки, а то и сотни объектов.
Характерной их чертой является нарочитая неестественность, резкий контраст с окружающим пейзажем. Зачастую они одним своим видом отрицают само понятие равновесия, хотя и стоят там уже много веков. Учёные говорят, что сейды – или «летящие камни» – отмечают собой геологически активные точки ландшафта: центры прошедших землетрясений, разломы породы, места выхода радиоактивного газа родона. А по народным поверьям, сейды – это волшебники, собранные в определённом месте для встречи с духами. К ним следует проявлять уважение и, находясь около, соблюдать строжайшие правила: рядом с сейдом опасно шутить, нельзя шуметь, тем более ругаться, женщины и дети не должны подходить к ним очень близко и т. д. За невнимание, грубость и насмешки сейд способен покарать, порой жестоко. Зато своих почитателей он готов щедро отблагодарить. Словом, мы настраивались на «встречу с чудесным», тем более, что именно на Севере романтичные и отважные представители рода человеческого многие лета мечтали найти «утраченный рай», нередко связываемый с легендарной страной Гипербореев, которой всегда покровительствовала крылатая Лунная богиня Селена и следы которой остались не только на Кольском полуострове. Множество артефактов, каменных лабиринтов, могильников и, опять же, сейдов находят в Карелии, Гренландии, на полуострове Таймыр, неподалёку от Уральских гор и даже на затонувшем ныне острове (материке?) в Северном Ледовитом океане.
—
Есть мнение, – сказал Пётр, снимая очки и потирая переносицу, – что в этой легендарной стране жили счастливые, весёлые, мирные люди, любимые Богами и бесконечно одарённые. Сам Аполлон отправлялся к ним каждые девятнадцать лет, чтобы пригласить в свою страну философов-мудрецов и ценителей искусства: музыкантов, архитекторов, мастеров создания поэм, гимнов… Представляешь?
Пётр привычно включил интернет-поиск и прочёл следующее.
—
Древнеримский учёный Плиний Старший в своей «Естественной Истории» пишет так о гипербореях: «За этими Рифейскими горами, по ту сторону Аквилона, счастливый народ, который называется гиперборейцами, достигает весьма преклонных лет и прославлен чудесными легендами. Верят, что там находятся петли мира и крайние пределы обращения светил. Солнце светит там в течение полугода, и это только один день, когда солнце не скрывается от весеннего равноденствия до осеннего, светила там восходят только лишь однажды в год при летнем солнцестоянии, а заходят при зимнем. Страна эта находится вся на солнце, с благодатным климатом, и лишена всякого вредного ветра. Домами для этих жителей являются рощи, леса; культ Богов справляется отдельными людьми и всем обществом; там неизвестны раздоры и всякие болезни… Нельзя сомневаться в существовании этого народа…»
—
Подумать только! – обратился он ко мне, и глаза его заискрились. – Если совместить это «сокровенное знание», – а оно никогда никуда не исчезает, только скрывается от непосвящённых, как ты однажды написал, в «расселинах культуры» и «каменоломнях духа», – соединить его с современными нашими чаяниями… Может быть, и ответы, наконец, найдутся?
—
Например, на вопрос, – добавил я, – как остановить человечество, склонное время от времени к суициду, от неразумного стремления к самоуничтожению?
– Ну, да… – Пётр задумался, потом быстро продолжил, – хотя абсурдна сама постановка проблем, типа: «мир без гнева и ярости», «без войн и ядерного оружия», а в современном исполнении – без фобий и страхов, без деградаций и разных зависимостей. Опыт показывает, насколько бессмысленно и бесполезно впадать в любые крайности. Следовательно, ни в коем случае ничего не надо зачёркивать в существующем мире, но лишь привносить каждый раз новые позитивные открытия, оттачивать те или иные грани бытия и стремиться не сокращать, а расширять индивидуальное пространство личных Вселенных…
У меня возникли предположения, но он не дал мне их высказать, желая закончить мысль:
—
Вот тебе один лишь пример. Сегодня «продвинутые» исследователи говорят о том, что «римское право» уже устарело и препятствует почти любым инновациям. Поэтому необходимо в дополнение к нему создание «динамичного права», которое бы взяло под защиту инновационные процессы. Именно оно способно преобразовать систему в метасистему и использовать абсолютно новые ресурсы: парадоксы теории множеств, управление случайными совпадениями и вероятностными процессами и т. д. Сам переход науки к метанауке может привести к необычным результатам, так как в этом случае всякий прогресс в одной из дисциплин с неизбежностью приводит к столь же существенным результатам во всех остальных, ибо все они – не более, чем отражения некой единой, всеобщей сущности. Естественно, начнёт видоизменяться и вечная триада: наука – искусство – вера, ибо границы между ними станут приобретать фрактальный характер и «втягивать» в себя даже хаос, который, в свою очередь, тоже начнёт работать, и не только на эти три, но и на другие составные части нового знания.
—
Так о чём ты меня хотел спросить? – неожиданно перебил он себя и обратился ко мне.
—
Да я уже и забыл…
—
Тогда я сам тебе скажу. – Глаза Петра весело заблестели. – Всё это связано с нашей любимой эволюцией сознания, ради которой, собственно, мы и отправляемся с тобой в рискованное путешествие. Ура!
В этот день встреча с Петром происходила в нашем доме, поэтому после того, как мы поставили очередное многоточие в обсуждении, я, взглянув на часы, пригласил Петра к обеду. Он не отказался, и мы прошли в столовую.
Мама знала о нашем с Петром новом увлечении и «сокрушалась» лишь о том, что женщинам запрещено приближаться к сейдам. А то бы она сама взяла топорик и с удовольствием поставила палатку рядом с ними, загадав желание.
—
Я полагаю, – добавила она, заканчивая накрывать на стол и лукаво поглядывая на нас, – в вежливости вы мне не откажете?
Не правда ли, Николушка?
Николай, с новыми татуировками на руках, стоял рядом с мамой. Он теперь частенько навещал нас. Всегда весёлый, раскрепощённый, переполненный интернет-новостями и одновременно снисходительно-циничным к ним отношением (он называл себя хипстером в постмодернистском прикиде), Николай с подкупающей почтительностью исполнял все хозяйственные поручения мамы, за что она учила его готовить, а потом они вместе с аппетитом уплетали созданные «произведения кулинарного искусства», которые он от всей души и нахваливал. Сегодня мы с Петром присоединились к их пиршеству. Разливая из большого блюда вкусно пахнущий суп, мама мимоходом заметил:
—
Жаль, что Ася так быстро собралась и уехала в Швецию. Ну, да ладно! Она думает вернуться осенью, чтобы окрестить Иоанну…
…
«Так, – подумал я, – значит, имя уже есть: Иоанна – «Аннушка»…
…
считая, – мама от сдерживаемого волнения даже хлопнула крышкой супницы, – и правильно считая, что такой обряд должен проходить именно в Петербурге, городе всех поколений её предков.
А как вы думаете, молодые люди? – обратилась она к нам с Николаем.
—
Это к гадалке не ходи. – с готовностью согласился он.
Мама смотрела на меня, я же невозмутимо ответил, что нахожу вполне естественным такое желание Аси, и тут же обратился к Николаю, не давая маме лишнего повода понапрасну тревожиться:
—
А как поживает дама твоего сердца?
Мама, зная все секреты Николая, послала мне предупредительный знак. Николай нахмурился и ответил резко, в том самом стиле, который он обычно не позволял себе в присутствии мамы. Сейчас он, конечно, потерял контроль:
—
Давай не будем больше топить за любовь, ладно? А я лучше пойду лесом!
Стало совершенно ясно, что его безответная любовь так и осталась без ответа, а у нас появилась ещё одна запретная тема. Деликатно вступил в разговор Пётр:
—
Извини, я тебя перебил, – обратился он ко мне, – а ты, кажется, начал рассказывать какую-то сказочку, что поведала тебе Софья Алексеевна. Так о чём она?
Я охотно поддержал его.
—
О том, как однажды Александр Македонский не пошёл завоёвывать Сибирь и ведрусов, которые тогда там проживали, – как говорят непроверенные источники, а пошёл на юг, в Индию, где его ожидали тоже не лучшие дни.
—
А разве в Сибири жили тогда не амазонки? – вступила в разговор мама.
—
Нет, они были там гораздо раньше, по свидетельству тех же источников. – Я продолжал:
—
Белокурые, кудрявые и бородатые богатыри, ловко скачущие на своих быстрых конях без седла и без узды, в домотканых рубахах, без оружия, лишь с узким кожаным ремешком, схватывающим их отливающие золотом на солнце волосы, – занимались охотой и земледелием и были очень миролюбивы. Казалось, для закалённых в боях воинов Александра они представляли собой очень лёгкую добычу, поэтому он и послал к ним лишь небольшой отряд. Римляне посмотрели на аборигенов, презрительно усмехнулись и подняли копья. И вдруг произошло нечто невиданное в доселе непобедимом войске империи.
Былинные витязи спешились, подошли ближе и стали молча смотреть на людей в доспехах, чуть улыбаясь. Римляне даже не поняли, что происходит. Они опустились на землю, отложили оружие в сторону и почувствовали что-то странное: они не хотели больше драться и убивать, они думали о том, что война – это вовсе не такое достойное занятие, как им прежде рассказывали, что гораздо лучше жить, просто жить и радоваться жизни… Хорошо бы ещё подружиться с этими сильными, золотоволосыми богатырями, которые стоят сейчас напротив и что-то такое знают про жизнь, о чём они, римские воины, победившие столько стран и народов, вовсе и не догадываются. А, впрочем, никто уже не узнает, о чём ещё думали бывшие воины в эти мгновения, пока стояли рядом спокойные, красивые люди и, по-доброму улыбаясь, с сочувствием смотрели на них.
Возможно, незадачливые наши герои даже уснули ненадолго, а проснувшись, медленно пошли обратно, потому что всадники уже ускакали к себе домой, внешне не причинив им никакого вреда. Воинам же нужно было идти на поклон к императору и его подданным, чтобы объяснять необъяснимое…
—
Могли их, бедных, и оприходовать, – сочувственно заметил Николай, – опричники во все времена только повода ждут.
—
Говорят, – кивнул я Николаю, завершая рассказ, – их отослали обратно в дальние провинции Рима, ибо бойцовские качества они полностью растеряли, да и говорили какие-то несусветные вещи – о мире и всеобщем братстве людей. Что с ними стало дальше, неизвестно. История умалчивает.
Да… – задумчиво сказал Пётр, – вполне возможно, что всадники были прямыми потомками гипербореев, и если они могли такое сделать, то, может быть, и мы тоже… – И вдруг, не закончив мысль, воскликнул:
—
Но как же хороши эти заставки к сказаниям! «Однажды», «Во время оно», «Когда-то в далёкое раннее утро»… ну, и, конечно, «В начале»… Что же означает всё это великолепие? «В начале было Слово и Слово было у Бога…»? В начале каких времён? Нет никакого начала и, скорее всего, не будет никакого конца. И Бог вечен. Он есть, и был, и грядёт, ибо Он – Вседержитель и вечная Созидающая сила… И жизнь тоже вечна… Зато Священное писание, да, конечно, должно иметь где-то начало! И вот появляется эта Божественная Красота:
В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог…
—
«Упанишады кажутся лишь слабым звуком. Веды бледнеют от зависти. В начале было Слово», – Пётр помолчал и тихо добавил:
—
Человек может действовать в соответствии со своими человеческими представлениями лишь до какого-то предела, а потом… только совместно с Богом… А как же ещё? Только так…
Мама замерла. Николай забыл о перипетиях своей земной любви, а передо мной возник и остался образ Анны-Марии с маленькой девочкой на руках.
По возвращении из северной экспедиции, которая действительно произвела на нас грандиозное впечатление – в основном из-за того, что заставила пережить необычные эмоции и абсолютно новые состояния сознания, – мы с Петром стали ближе друг к другу и виделись гораздо чаще. Вероятно, мы тоже пришлись ко двору, так как получили приглашение принять участие в дальнейших тематических походах. Планы организаторов простирались на много лет вперёд и охватывали, как мы поняли, сначала Алтай, Сибирь и Байкал, Дальний Восток и Камчатку с тем, чтобы, завершив полный круг, снова оказаться на Крайнем Севере с предварительным заходом на Соловецкие острова и в Соловецкий монастырь. Причём таких кругов по всей планете было несколько.
—
И как ты на всё это смотришь? – спросил меня Пётр, выкладывая на кухне множество продуктов из больших пакетов, которые он купил по списку, продиктованному мамой по телефону.
Сама мама вот-вот должна была вернуться с работы, и теперь, в ожидании её, я распределял продукты в холодильнике, Пётр осторожно играл и гладил Диану, Ева уютно лежала посреди подушек на диванчике, вытянув перед собой лапы и положив на них голову. Она, не мигая, смотрела на акварельный портрет мамы, висящий прямо напротив на стене, как бы вызывая её из пространства. Лишь изредка она удостаивала коротким взглядом и нас. Я предложил Петру немного выпить перед обедом, и мы прошли в гостиную.
—
Что тебе налить? – спросил я, подходя к бару.
—
То же, что и себе, – машинально ответил он.
—
Я буду пить просто воду.
—
Значит, и я тоже. Ну, так как? – повторил он свой вопрос.
—
Раз в год, надеюсь, я смогу потянуть, а там видно будет.
Сначала я отвечал спокойным ровным голосом, но, конечно, не удержался и воскликнул:
—
Но как же они соблазнительны, чёрт возьми, эти путешествия!
Абсолютно ни с чем не сравнимы.
—
А тебе есть с чем сравнивать? – усмехнулся Пётр.
—
Ну, кое-где я всё-таки побывал – в горах, на морях-океанах… Но ты прав, там всё было совсем другое, хотя словами выразить эти ощущения я, пожалуй, ещё не смогу.
Почему? – Пётр с интересом смотрел на меня.
—
Потому что это – «скрытое», «тайное» знание.
–
–
Для кого?
—
Для меня, конечно.
—
А помнишь, о чём они там говорили? – вдруг оживился Пётр. – Мозг неразвитый или развитый не в ту сторону, при молчании сердца, таит в себе огромную беду, ибо порождает настоящие эпидемии духовно-душевно-телесных заболеваний, как у отдельного человека, так и у целых народов. Мы уже это сегодня наблюдаем, начиная от агрессии (ложно- или вообще немотивированной), стремления к уничтожению всего живого, в том числе и самого себя, – до тотального разочарования и безумного страха перед жизнью. В результате – страдания души и тела у одних и непреходящие «шум и ярость» – у других. И ведь против подобных заболеваний бессильно всё, кроме изменения себя и своего же сознания. Ибо:
«о чём ты думаешь, у того ты и в плену».
«Вот и Сонечка так говорила», – подумал я и добавил вслух:
—
Уже известно отдельным людям, даже кое-где напечатано, что, познав себя, точнее, непрерывно себя познавая, никто не остаётся тем, кем он был прежде. Когда ты познаёшь себя, всё сущее познаёт тебя тоже. И процесс этот необратим! Казалось бы, почему не взять это готовое знание? Вот оно, лежит на поверхности и предоставляет человеку – безвозмездно! – такие возможности, какие ему и не снились. И здесь умение справляться с негативными переживаниями и нежелательными ситуациями, а то и предвидеть их, занимает далеко не главное место.
У меня были ответы на свои же вопросы, но мне хотелось услышать, что думает по этому поводу Пётр.
—
Наверное, потому, – стал размышлять он, – что человек может услышать только того, кому он равен, а равен он тому, кого понимает. Иными словами: человек понимает других людей лишь в той степени, в какой понимает самого себя, а также исключительно на уровне понимания своего собственного бытия. Конечно, это великолепное и редкое искусство – познание и творение самого себя (если не рассматривать его с точки зрения обыденного сознания). Но ведь кто-то же смог это сделать! Так почему не я? Почему бы и мне не принять этот весьма достойный вызов самой жизни? – Пётр обаятельно улыбнулся. – Вспоминая роман Хемингуэя, можно ещё добавить: «Не спрашивай никогда, по ком звонит колокол, – он звонит по тебе».

