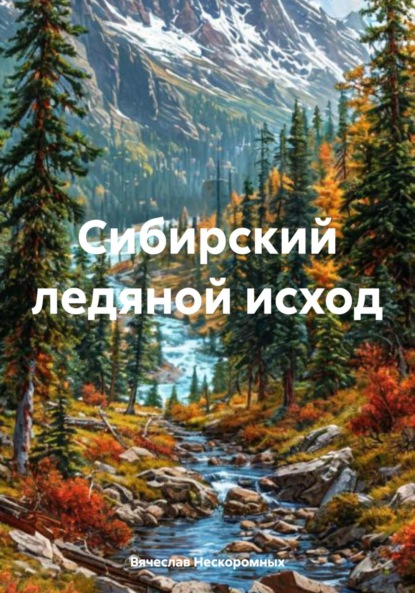
Полная версия:
Сибирский ледяной исход
− Вы ошалели, Сыровы? – гневно отмел последний вариант Жанен.
– Я Вам твержу, что тоннели у Байкала и мосты заминированы. Или вы хотите провернуть войсковую операцию и захватить все тоннели и мосты раньше, чем они превратятся в груды камней?
− Посмотрите, − Жанен ткнул пальцем в карту, − их там десятки, а вся дорога протяженностью в сто километров идет вдоль скал, которые можно просто обрушить нам на головы умелым взрывом.
− Да, я понимаю, наши возможности в противостоянии крайне ограничены, − сжав губы, ответил Сыровы.
− Кстати, о Каппеле. Этот идеалист прислал мне депешу с вызовом на дуэль! Каково?! Это он в отместку за задержку поезда Колчака в Нижнеудинске. Узнаю Каппеля. Человеку под сорок, а он еще полон благородных юношеских порывов. Смешно.
Жанен, потягивая сигару, задумался, очевидно, что-то припомнив:
− Странные они, эти русские офицеры старой закалки. В них столько чести и колкости, что из них можно плести бесконечной длины колючую проволоку. Вот новая формация офицеров, что пришли уже после войны в армию, намного практичнее и все сплошь циники.
− Так и есть, генерал, − ответил Сыровы, − а еще пьянь несусветная. Этих можно купить за ломаный полтинник или за литр хорошего коньяка.
− Так что? Решено? Колчака сдаем Политцентру в обмен на гарантии нашего беспрепятственного прохода по железной дороге? − стал подводить итог разговора Жанен.
− Да. Я думаю, это единственный для нас приемлемый вариант.
Так свершилось предательство союзников во имя собственных интересов.
Двадцать первого января эсеро-меньшевистский Политцентр в Иркутске прекратил свое существование, а власть в городе полностью перешла в руки Иркутского военно-революционного комитета большевиков. В начале февраля председатель Иркутского ревкома Александр Ширямов подписал с чехословацкими легионерами соглашение о беспрепятственном движении поездов через Иркутск и по Кругобайкальской железной дороге. Золотой запас был отправлен под охрану большевистского конвоя после ареста адмирала, и хотя бы в этой части намерения Колчака сбылись. Возможно, в этом и был смысл жертвы адмирала Колчака – исключить разграбление золотого запаса России союзниками и передать его тем, кто входил во власть страны основательно и надолго.
Тридцатого января Сибирская армия, двигаясь спешно на Иркутск, разбила высланные навстречу красные отряды у станции Зима и, с ходу взяла Черемхово. Через неделю Сибирская армия вошла в пригород Иркутска.
Генерал Войцеховский, принявший командование от Владимира Каппеля, выдвинул оборонявшим город красным отрядам ультиматум с требованием освободить адмирала и арестованных с ним лиц. Вторым пунктом выдвинутых условий значилось предоставление фуража и выплаты контрибуции, обещая обойти в этом случае город стороной.
В эти зимние неспокойные дни, когда Сибирская армия уже толкалась на окраинах Иркутска, в тюрьме состоялся последний допрос адмирала Колчака, а вечером было принято поспешное постановление Иркутского Военно-революционного комитета о его расстреле.
Из Москвы от Ленина, как отклик на известие о задержании Колчака, пришла директива с зашифрованной подписью и с характерным стилем Ильича о необходимости сделать все «архинадежно… при угрозе Каппеля».
Одним из скрытых мотивов советских руководителей в Москве было желание уничтожить, может быть, одного из главных свидетелей страшного убийства царской семьи и близких к ним людей в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге. Ведь именно Колчак приказал создать следственную группу и направил ее для расследования страшного по форме убийства, исполнив то, что не могли сделать толково с июля 1918 года.
В январе 1919 года адмирал Колчак возложил на генерала Михаила Дитерихса общее руководство по расследованию дела об убийстве семьи бывшего императора Николая Романова:
«Настоящим повелеваю всем местам и лицам исполнять беспрекословно и точно все законные требования Судебного следователя по особо важным делам Н. А. Соколова и оказывать ему содействие при выполнении возложенных на него, по моей воле, обязанностей по производству предварительных следствий об убийстве бывшего Императора, его семьи и Великих Князей».
На основании проведенного длительного и тщательного расследования следователем Николаем Соколовым был составлен отчет, в котором убедительно доказывалось, что императорская семья убита, трупы расчленены и сожжены, а обезображенные серной кислотой останки частью брошены в шахту, а частью погребены в полотне дороги.
Выходило, что злодеяние было совершено не единожды. Если математические вычисления способны оценить степень жестокости содеянного по убийству и сокрытию преступления, то знак сложения лишь отчасти способен отразить точную оценку уровня злодеяния. В данном случае, учитывая исторические обстоятельства и реальную ситуацию, процесс физического уничтожения известнейших и значимых для всей России людей, в том числе детей, не повинных в той катастрофе, в которой оказалась страна, переходит в плоскость морали и нравственности, веры и совести каждого, кто в убийстве замешан.
Через несколько месяцев после январского распоряжения Верховного увесистый том приобщенных к расследованию документов, собранных следователем Соколовым, был на столе Колчака. Несколько дней документы изучались комиссией, и стала понятна ужасающая картина страшного убийства.
Генерал Михаил Дехтерикс, ознакомившись с делом и докладывая Колчаку, охарактеризовал эти убийства как «особо исключительными по зверству, полными великого значения, характера и смысла для будущей истории русского народа».
Поезд в один конец
Поезд медленно тянулся из последних сил, таранил снежные заносы, устало пыхтя и пуская натужно белые клубы пара и стелящийся над вагонами густой шлейф белесого дыма.
Приходилось использовать березовые, лиственничные и сосновые дрова и чурбаки вперемешку, а порой и вместо добротного угля. Силенок железной махине не хватало для быстрого бега без угольного жара, и натужно пыхтя, и нещадно поскрипывая, состав одинокой гусеницей монотонно и многотонно пересекал снежные пространства сибирской тайги по стылым в инее рельсам. Стальной профиль стонал под бегущими колесами, приседал, выгибаясь, колыхал шпалы и выдавливал опасно торчащие из них костыли, и было заметно, как утомился металл, и устала, без каждодневного пригляда, дорога, готовая уже разрушиться, как распадалась вся великая страна без разумной воли управления и заботы человеческой.
Поезд шел на восток, убегая от катящегося следом вала боевых столкновений, которые организованной войной назвать было сложно. Фронта как такового – вытянутых укреплений и окопов, опоясанных рядами колючей проволоки и прикрытых минными полями, открытых для атаки пространств не было.
Группы вооруженных людей, часто без формы, порой просто в обносках, лаптях, кутаясь в шинелишки, полушубки, бушлаты, косматые шапки и папахи передвигались по заснеженным дорогам на санях с запряженными насмерть уставшими и голодными лошадьми. Голодные животные одичали от недоедания и норовили грызть кожаные постромки и, прибыв к привалу, недоуменно глядели на седоков, ожидая, наконец, после тягот перехода сытного овса. Овса не было. Кормились жухлой травой из-под снега, да случайно найденным у дороги сеном, в неубранных сельчанами стожках. Подъедали запасы и в деревнях, если удавалось что-то найти по дворам.
Люди-воины-скитальцы теребили друг друга, постреливая и предъявляя права на занятие того или иного населенного пункта, преследуя решение простых задач, – переночевать в тепле и съесть хоть что-то. Нестерпимо хотелось насытиться горячей пищей, хотя бы похлебать кипятка с хлебом или с сухарями вприкуску.
На подходе очередной боевой части, если неприятель не хотел столкновения, то снимался и уходил, бросив раненых и часть имущества. На насиженное место приходил отряд противника и обустраивался, отъедался, отбирая последнее у селян.
Порой сгоняли с насиженного места и свои части, пуганув на подходе оружейным залпом, со словами:
− А кто его разберет?! Красные то, а ли белые!
И так катилась безобразно по сибирской земле мало организованным потоком гражданская война, без предоставления каких-либо гарантий и правил для тех, кто в ней участвовал и так или иначе с ней соприкасался.
В штабном вагоне за письменным столом сидел Александр Колчак, − человек которого величали последний год его жизни диктатором, Верховным Правителем России и Главнокомандующим Российской армии.
Адмирал непрерывно курил длинные папиросы, вынимая их часто из серебряного портсигара. Достав папиросу, Колчак долго постукивал мундштуком, разминал табак и глубоко затягивался, поднеся ярко вспыхнувшую спичку к табаку. В этот момент его лицо с глубокими складками у крупного носа казались менее резкими, лицо несколько молодело, а в глазах металось пламя.
В строгом суконном мундире с яркими погонами и Георгием на левой стороне груди, адмирал Колчак то склонялся над столом, то выпрямлялся, опираясь на спинку стула и, казалось, внимательно анализировал карту, на которой был обозначен театр боевых действий его Сибирской армии.
На самом деле анализировать особо было нечего. Ситуация была ясной в общем, но абсолютно запутанной в мелочах и только в голове метались мысли о том, как выйти из сложившейся ситуации, из безысходного, как оказалось положения. Сложилась за осень и зиму аховая, гибельная ситуация, которая требовала принятия важных, единственно возможных решений. Требовалось сохранить армию, золотой запас и развернуть ход событий так, чтобы не растратить последние силы, веру офицеров и солдат в возможное преодоление полосы неудач последних месяцев. Армия, плохо одетая и вооруженная, слабо выученная и мало мотивированная, безнадежно отстала от поездов, двигалась вытянувшись на несколько километров по заснеженному пространству сибирской земли. Требовалось также окончательно не разругаться с союзниками, добиваться от них реальной поддержки, не смотря на противоречия.
Что-либо значительного для организации действий армии Колчак сделать уже не мог. Мощная, как казалось, на поле боя огромная воинская масса рассыпалась и потерялась в этих таежных просторах. Теперь только ее самая крепкие боеспособные части теперь слабой вереницей двигались, преодолевая заснеженные версты, и была ему практически неподвластна. Регулярная связь с армией отсутствовала, не было контроля и над железной дорогой. На станциях, через которые проходил штабной поезд, порой приносили донесения, отправленные по телеграфу. Сведения были скупые и приходили с опозданиями. Подробных сведений о боевом порядке не поступало, и было непонятно, на какие силы можно было рассчитывать в дальнейшей борьбе за власть в Сибири.
Сомнения одолевали Колчака. Насколько правильные он принимал решения? Да, верно говорят, − нет длиннее дороги к цели, чем дорога через собственные сомнения. Эту истину он усвоил давно, стараясь действовать обдуманно, но решительно. Но в данный момент это было невозможно. И сомнений хватало. Они роились в голове, словно десятки назойливых злых мух на жаре над падалью, и как чувствовал Колчак, все вели к гибели, к катастрофе.
Колчак вспомнил генерала Гайду. Почему он поступил этим летом так самовольно, неумно, не подчинившись трезвому, верному приказу и подставил под удар всю Западную армию, что привело к началу катастрофы фронта? И вот новая весть о нем пришла, когда были на пути к Новониколаевску: Гайда, помилованный им в Омске, возглавил мятеж против его власти во Владивостоке. Получается все действия этого человека не случайность, а преднамеренная измена? Или месть? В чем истоки ее? В обиде, озлобленности, в нереализованных амбициях?
Измена, − обратная сторона неудачи и политического тупика. Этому приходилось учиться теперь и смиренно нести свой крест, чтобы до последней запятой заучить горький закон поражения.
Теперь поезд нес Верховного правителя России в Иркутск, где, как предполагал Колчак, должны произойти ключевые события борьбы за власть в Сибири, за контроль над ее восточными областями. Тянулись теперь к Иркутску разрозненные силы белого движения, чехословацкие легионеры, представители Антанты, настороженные японцы.
А большевики проявились вдруг на всей огромной, казалось покоренной, территории от Урала до Байкала, выйдя дружно из подполья, прибирали власть к рукам на местах в ответ на стремительное продвижение Красной армии с запада.
Иркутск для адмирала был хорошо знакомым городом. Бывал здесь он неоднократно. Помнил дыхание и свежесть могучей реки, сияние куполов и голос церквей, что возвышались в основном над деревянными городскими строениями, раскинувшегося вдоль реки города.
Поздней осенью 1902 года по Лене-реке и Качугскому тракту он впервые попал в этот наполненный колокольным звоном город, что стоял на берегу Ангары, − реки, несущей мощное свежее дыхание Байкала. В этом городе завершилась для него первая арктическая экспедиция, продлившаяся более двух лет. По приезду, несколько передохнув, Колчак попал в окружение представителей местных чиновников и интеллигенции. Его и спутников наперебой звали на обеды, балы и собрания, уделяли знаки внимания местные, абсолютно восторженные барышни. Все ждали рассказов полярников об экспедиции в поисках северной неведомой земли купца Санникова.
Александр Васильевич с удовольствием вспомнил, как в зале Мавританского замка Русского географического общества на берегу Ангары, он в строгой форме лейтенанта военного флота сделал доклад об экспедиции. Рассказывал вдохновенно, вновь переживая все трудности и удивительные приключения во льдах с чувством честно и хорошо исполненного дела. Он рассказывал об открытых новых островах и манящей путешественников земле, которая как мираж в пустыне, отметившись на горизонте, не пожелала быть открытой.
Теперь в этом тряском вагоне Колчак вспоминал яркие всполохи северного сияния, трескучие раскаты наэлектризованных, словно осыпающихся с небес кристаллов, трущихся друг о друга кротких оленей, любопытных тюленей, глобальную тишину огромных пространств и остро, до боли в сердце, ощутил зов севера. Сердце обманулось в очередной раз и сладко защемило в груди, как ответ на отказ в долгожданной встрече с любимым человеком.
И было понятно теперь, что такой встречи, вероятно, уже не будет вовсе.
Поезд качало на поворотах особенно сильно.
Адмирал, закурил очередную папиросу и пересел на кожаный диван. Диван заскрипел пружинами. Удобнее устроившись, адмирал откинулся, вытянул ноги, потянувшись, распрямил тело и вспомнил, как он вернулся из спасательной экспедиции к Новосибирским островам и на остров Беннетта в феврале 1904 года.
Ярким событием было скорое, наспех венчание с Софьей. При отъезде Колчака в экспедицию планировали обвенчаться в Петербурге, но теперь, с началом войны планы пришлось менять, дабы не огорчать невесту новой отсрочкой венчания.
Из Якутска Колчак отправил телеграмму Софье и попросил приехать в Иркутск для краткой встречи и венчания, сразу сообщив, что просится на фронт и вероятно уедет из Иркутска в Порт-Артур.
По прибытии в город стало заметно, что Иркутск уже живет военными заботами. Улицы наводнили люди в серых шинелях, казачьих папахах, черных морских бушлатах. По центральным улицам ходили степенно патрули. То здесь, то там, мелькали белые косынки сестер милосердия и красные кресты врачебной помощи. Подтянулись в город и уголовные элементы, которых, впрочем, в Сибири всегда хватало: то и дело слышались тревожные свистки городовых, и очередная «заварушка» с поимкой воришки привлекала внимание зевак. Город, в котором проживало не более семидесяти тысяч жителей, задыхался от избытка войск и уже прибывающих раненых. Резко возникла проблема недостатка топлива и продовольствия. Железная дорога едва справлялась с перевозками, но многочисленные спекулянты «пробивали» на восток вагоны с сахаром, консервами, кофе, и мгновенно наживали капиталы. Рестораны ломились от посетителей: офицеры отмечали отправку на фронт, а спекулянты «обмывали» новые барыши на продаже и поставках всякой всячины для нужд армии. Иркутяне роптали: в городе участились грабежи, убийства, расцвело распутство. Благородные чувства к «защитникам Веры, Царя и Отечества» сменились неприязнью к разношерстным «уполномоченным» в погонах, тыловикам и спекулянтам, заполонившим театры и рестораны.
Колчаку с трудом удалось достать два номера в деревянной, со скрипучими лестницами гостинице «Метрополь». Недалеко, почти на берегу Ангары, располагалось и знакомое Колчаку здание Русского географического общества, куда лейтенанта вновь пригласили выступить с докладом.
Второго марта зал географического общества был переполнен. В полной тишине иркутяне слушали доклад Колчака об отчаянных днях поисков барона Толля.
Выглядел Колчак исхудавшим, с почерневшим, обожженным морозом и солнцем лицом, ввалившимися глазами, горящими лихорадочным огнем, а выступление неоднократно приходилось прерывать из-за приступов кашля. Завершив доклад, Колчак, едва ответив на вопросы, без сил отправился в гостиницу и залег в постель с температурой. Тяжелый поход сказался на здоровье: Александр жаловался на боли в суставах и позвоночнике. Ночью он часто подолгу кашлял, просыпался в поту и жаловался на то, что тело словно прокалывают раскаленным штыком, каждое движение отзывалось болью.
− Ревматизм, батенька, − констатировал врач Ивано-Матренинской больницы, переоборудованной в госпиталь, куда по настоянию Софьи и Василия Ивановича привезли Колчака.
− Где это, вы так, голубчик, натрудились, в неполные тридцать лет? Виданное ли дело, так себя проморозить, − расспрашивал врач, простукивая грудь и слушая хрипы в пораженных воспалением легких.
− На севере, доктор, − дважды в полынью нырнуть пришлось, − отшучивался Колчак.
− Хотелось бы знать, что вы там искали и нашли ли? А вот здоровье вы свое навек потеряли, – вдруг, как будто рассердившись на легкомысленного пациента, высказался доктор, осматривая распухшие суставы на ногах.
Врач выписал согревающие мази, таблетки и рекомендовал не тянуть, а поехать в санаторий на грязи и воды, где следует пожить месяца три, а то и полгода, чтобы немного восстановиться и снять воспаление.
− Непременно, доктор. Вот жду направление к южному морю, − снова шутил Колчак, представляя, как от боевого огня японских крейсеров ему скоро придется «согревать» свой простуженный организм.
Вспоминая жену, сына Ростислава, Колчак подумал, что судьба развела их. Главное, что они теперь в безопасности. Ему же выпала честь и счастье быть с той, которую ему определило провидение. Он вспомнил необыкновенное чувство, которое посетило его, когда он встретил ее, свою последнюю любовь – Анну на офицерском собрании в Гельсингфорсе.
Они встретились, встреча эта была предопределена, а вскоре почувствовали оба: это – судьба. И ничего в тот момент не стало препятствием: ни служба, ни то, что оба были не свободны.
Испытав вновь чувство любви, Колчак, казалось, парил над землей: мальчишеское, задорное настроение не покидало его в походах. В это время зрелому мореходу удавались невероятные замыслы, и он сумел добыть ряд ярких побед в борьбе с грозным флотом Германии. Победы эти были добыты не просто в сражении, а благодаря искусной разведывательной работе, выстроенной радиоигры, расшифровке намерений врага, когда на его пути, куда бы он ни собирался идти, появлялись минные заграждения. Это был вдохновенная работа умелого дерзкого коллектива полностью переигравшего серьезного противника.
На волне успеха, куража, уже в звании адмирала, Колчак оказался вскоре командующим Черноморским флотом России.
Теперь уже турецкие моряки почувствовали на себе пристальное внимание нового командующего и с опаской выходили со своих баз в открытое море, шаря горизонт биноклями и с опаской контролируя пути отхода.
Тем временем подходили стремительной поступью летящих по континенту конных армий и характерные невероятной леденящей жестокостью «окаянные дни».
Обстановка в стране накалилась до крайности, последовали убийства офицеров и адмиралов распоясавшейся толпой нижних чинов, чьи настроения подогревали провокаторы и агитаторы всех мастей. В весенние месяцы 1917 года были убиты разгулявшимися во вседозволенности матросами многие боевые товарищи Колчака.
Казалось, страна катится в пропасть.
Анна, получив весточку о том, что Колчак в Харбине, тут же примчалась из Владивостока. Они встретились на вокзале. Колчак ждал Анну со скромным букетом фиалок и был необыкновенно скован и даже робок:
− Ты приехала ко мне? Я просто счастлив!
− Да, я объяснилась с мужем. Сергей теперь во Владивостоке.
− Я слышал. Он теперь командует флотом России на Дальнем Востоке.
− Мы решили, что все следует расставить по местам: наш брак давно является формальностью, а теперь, когда грянули такие события, и все так смешалось, нужно быть честными друг перед другом. Сын наш теперь в России у родственников, а я должна быть с тобой.
− Я счастлив таким твоим выбором. Сергея я чту и очень уважаю. Он мой товарищ. Мы вместе были в Порт-Артуре и в плену. Но чувства к тебе так высоки и чисты, что никак не могут бросить тень на нас.
− Какие у Вас планы, Александр Васильевич! К чему мне готовиться?
− Милая, Анна Васильевна, я еду в Россию. Здесь вблизи Отечества моего я понял, что должен быть с ним. Я должен участвовать в этой борьбе. По рассказам прибывших из России, Отечество наше гибнет, и мы обязаны его спасать. Я отменяю свое решение служить во флоте Великобритании и хочу отправиться в действующую против большевиков армию, вероятно к Деникину: здесь среди местных я не нашел понимания.
− Какое бы решение ты не принял, я буду с тобой.
Теперь сидя в стылом вагоне поезда, Колчак вспоминал о том, как он, мучительно сомневаясь, принял решение взвалить на себя эту ношу – повести страну за собой, честно исполнить долг гражданина и воина по спасению Отечества, которое сползало в бездну под снисходительные усмешки союзников.
В результате власть Колчака, окрашенная оттенком царизма, полная высокомерия и пренебрежения к людям со стороны лиц ее олицетворяющих, совершенно не воспринималась населением Сибири.
Были глухи сибиряки и к воззваниям о создании новой, но в тоже время, как бы старой, то есть обновленной России. В чем же суть этой обновленной России толком объяснить никто не мог.
Вот такое непонимание нужности белого движения, гнала теперь Сибирскую армию на восток.
Тем не менее, уже тогда, в тяжких условиях гражданской войны хотелось думать и действовать в направлении развития России и Сибири. Думал Колчак и том, что если не удастся сломить большевистский фронт, создавать здесь в Сибири новую Россию, способную выжить самостоятельно.
Колчак нервно встал, потянулся, взял папиросу из портсигара, прикурил от чадящей керосиновой лампы. Поезд сильно раскачивало и Колчаку приходилось держаться за край стола. Вновь вспомнились отчаянно жуткие события октября 1917 года. Прежде всего, он вспомнил друга адмирала Адриана Непенина, так удачно начавшего применение беспроволочной телеграфии в военных целях радиоразведки, убитого и униженного уже после смерти пьяными матросами. Методы Непенина давали реальные результаты на Балтике в борьбе с германцами. Как бы пригодились теперь такие люди, как Адриан Иванович и десятки других – подготовленных, преданных Отечеству людей, офицеров чести.
Вспомнился Колчаку день, который потряс его и поселил гордость в сердце, когда русский инженер Игорь Сикорский, за несколько лет сумевший создать серию выдающихся летательных аппаратов, в 1914 году удивил весь мир, совершив перелет из Санкт-Петербурга в Киев и обратно в непогоду, поднявшись выше облаков на своем четырехмоторном «Илье Муромце». Отечественный самолет за время чуть более суток совершил перелет в две тысячи пятьсот километров с командой и пассажирами на борту, – шестнадцать человек. Грузоподъемность тяжеловеса почти сто пудов. После столь успешного полета Русско-Балтийский завод сразу получил заказ на десять пассажирских самолетов.
– Представляешь, – суетился рядом с Колчаком корнет, объясняя юной спутнице, ‒ каждый мотор имеет мощь сто пятьдесят сил, а в сумме шестьсот. Это немыслимо, такая силища! В авиации такого еще не было!
– А сколько сил у паровоза, Ленечка? Можно ли сравнить с таким могучим механизмом?
– В паровозе, милая, сил будет две, а то и три тысячи. Но ты посмотри какая между ними разница! Паровоз-то не летает!
Девушка восхищенно смотрела на своего друга, словно это он добился такого вот успеха и действительно, на душе было светло и верилось, что грядут большие дела, и встанет страна, вздохнет, отряхнет прах и шагнет по новому веку гордо и мощно.
За несколько лет самолеты Сикорского побили все известные рекорды в области зародившейся авиации, а Россия стала авиационной державой. Становился реальным новый вид скоростного, грузоподъемного транспорта, новейший вид боевой системы – тяжелая, способная нести сотни килограммов бомб и грузов, боевая и транспортная авиация.



