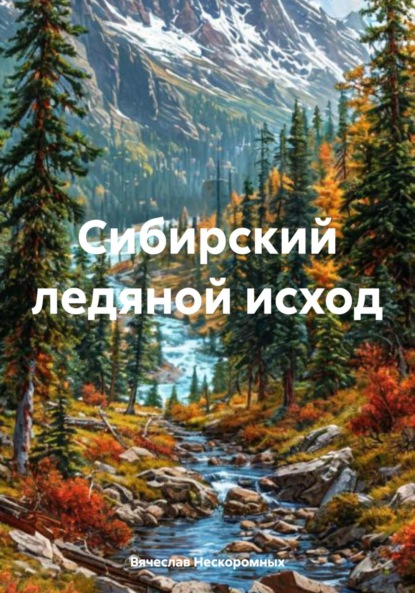
Полная версия:
Сибирский ледяной исход
Генерал Владимир Каппель бодрил своих усталых солдат:
– Ребятушки, пушки мы добудем! Не теряйте духа, в этом залог нашей победы! Помните наставления фельдмаршала Суворова, который через Альпы перемахнул и даже без пушек вышел из окружения!
Перед Каппелем встал вопрос, куда двигаться дальше после Красноярска. Было решено спускаться вниз по Енисею и идти по льду замерзшей реки Кан в направлении Канска и далее до Нижнеудинска, в обход железной дороги и мест дислокации красных партизан.
Кан − река порожистая, а берега реки изобилуют родниками и минеральными источниками, что делает лед реки ненадежным. Часть офицеров, опасаясь застать неприятеля на тракте, настаивала на маршруте по Енисею до Стрелки – месту слияния двух могучих сибирских рек, после чего идти на восток уже по Ангаре и далее к Байкалу. Этот путь представлялся безопасным, но значительно более долгим.
В результате после кратких горячих дискуссий войска разделились: генералы Александр Перхуров и Николай Сукин двинули несколько тысяч своих подчиненных по Енисею до слияния с Ангарой. Достигнув Стрелки, войска пошли далее в сторону Илима по Ангаре, рассчитывая по льду рек добраться до Байкала. Следуя этим долгим маршрутом, испытав тяжелые боевые столкновения с частями красных партизан, часть сохранившейся армии под командованием начальника Уральского корпуса генерала Николая Сукина вышла у прибрежного бурятского поселка Онгурен к Байкалу. Только в этом месте был участок берега с пологим выходом на лед озера: севернее начинались крутые прибрежные скалы Байкальского разлома, южнее отроги Приморского хребта. Впрочем, и название селения в переводе с бурятского означает именно, – конец пути, ибо от этого места на север вдоль берега дорога по указанным причинам отсутствует и ныне.
Далее, по льду, минуя скалу-мыс Хобой северной оконечности острова Ольхон, поредевшие воинские части преодолели Байкал и оказались в Верхнеудинске только к апрелю.
Генерал Перхуров со своим отрядом в лютую пургу отбился от основных сил и был пленен партизанами у старого сибирского села Подымахинское на берегу Лены, близ Усть-Кута.
Обессиленных, обмороженных и практически без боекомплекта солдат подразделения генерала Перхурова окружила группа местных партизан-охотников и сопроводила под конвоем в Иркутск.
После допросов в Иркутской тюрьме, генерал, как участник восстания против большевиков в Ярославле еще в 1918 году, был отправлен в этот город на Волге, где осужденный трибуналом был расстрелян.
Владимир Каппель повел войска по льду Кана, стремясь не отставать от Верховного командующего Колчака, двинулся по более короткому маршруту вслед, рассчитывая соединиться в пределах Трансиба.
Но, как оказалось, опасения относительно состояния ледяного покрова реки были не напрасны. Несмотря на сильные, тридцатиградусные морозы, пороги Кана не замерзли, а по поверхности льда реки под снегом струилась вода из термальных источников. Это создавало огромные проблемы. Пороги приходилось обходить по заснеженной тайге, а двигаться по льду, по глубокому снегу, под которым стояла вода, было невероятно тяжело. Люди в пешем строю проваливались в снег до воды, промокали и тут же на морозе покрывались льдом, жестоко обмораживались. Мучились и лошади – выбивались из сил, резали себе надкопытные венчики об острые ледяные грани. Обувь тяжелела, и идти в ней становилось тяжко до невозможности. Сани, проваливаясь до воды, тяжелели от намерзающего льда, примерзали полозьями к снегу, что требовало огромных дополнительных усилий: лошади и люди выбивались из сил. Снег валил сутками, и настроение войск было удручающим от усталости, холодных ночевок и отсутствия ясности в перспективах изнурительного похода.
Именно во время этого перехода генерал Каппель промок, провалившись под лед на своем коне. Стояла морозная погода, и генерал не уберегся: отморозил ноги и, тяжко больной, простуженный, продолжал путь до тех пор, пока не свалился в горячке. Отмороженные ступни воспалились, началась гангрена и потребовалась срочная операция. Ампутацию ступней провели тут же на реке в походной палатке, но Каппель продолжил путь сразу после операции, превозмогая боль и тяжелейшее свое состояние.
Пятнадцатого января армия Каппеля овладела Канском и вышла на Сибирский тракт. За городком две колонны Сибирской армии неожиданно соединились. Оказалось, что часть войск с обозами под командованием генерала Сахарова пошла по более короткому маршруту вдоль Сибирского тракта и успешно преодолела двести верст до города, не имея сведений ни о неприятеле, ни об армии генерала Каппеля.
Такое соединение разбросанных отступлением войск позволило создать более боеспособное войсковое соединение: походное движение управлялось теперь более четко, появилось снабжение войск провизией. Численность армии составила около тридцати тысяч человек, и этот поток отчаявшихся было людей, теперь уверенно двигался по тракту и успешно вел бои против партизан и боевых отрядов неприятеля. Появилась надежда возрождения боеспособного белого движения, но было понятно – сил пока хватало только на спасение.
Перед Нижнеудинском возникли боевые столкновения с отрядами противника, но, оттеснив красных умелым натиском, в ожидании тепла и краткого отдыха, двадцать первого января войска Каппеля вошли в город.
От пленных красноармейцев Каппель узнал, что власть в Иркутске захвачена большевиками, сместивших эсеровский Политцентр, а Верховный правитель адмирал Александр Колчак выдан новой власти. Каппель собрал последнее в своей жизни совещание, полулежа в кровати, опираясь на подушки. Был он бледен, пот застилал глаза и человек таял – иссякал, казалось, на глазах.
Но генералу еще хватало решимости: было приказано войскам срочно атаковать Иркутск и отбить Колчака.
Неуступчивый Иркутск
Власть в Иркутске перешла к большевикам в результате активного наступления Красной армии и решающего влияния на события чехословацкого корпуса, захватившего вокзал и железную дорогу.
В декабре, в последнюю неделю уходящего 1919 года произошло восстание в казармах Иркутского гарнизона в Глазковском предместье, что у самого вокзала, раскинувшегося у реки. Следуя к центру города, две роты повстанцев захватили телеграф и развернули наступление на гостиницу «Модерн», в которой размещались члены колчаковского правительства. Всю ночь шел бой, но восставшие к утру были отброшены в сторону рабочего предместья за речку Ушаковку, и на этом мятеж практически провалился.
Обыватели могли наблюдать, как бежали в наступающей темноте в панике восставшие, изредка останавливались и с колен спешно стреляли из винтовок в надвигающихся нестройной лавой казаков. Но опытные, обозленные всей этой затянувшейся смутой казаки, проявляя настойчивость, высекая из брусчатки искры подковами коней, настигали бегущих и яростно выкашивали шашками. Только наиболее расторопные успевали скрыться под мостом, разбегались далее по льду реки, прятались во дворах домов за высокими глухими дощатыми заборами. Можно было видеть, как выскочила на улицу предместья за рекой пара мечущихся повстанцев, как стучали они отчаянно в ворота двора, прося укрыть их от скачущих по улице казаков. Били в ворота отчаянно, с перекошенными лицами озираясь вокруг, несчастные, зажатые казаками среди глухих заборов рабочего Предместья. Высоченные ворота и калитку никто не открыл, и оба пали тут же у глухого к их просьбам забора с раскроенными головами: налетевшие казаки крутнулись только на своих конях, – и блеск шашек над головами завершили этот кровавый вечер.
Ангара в эту пору еще не встала под лед и парила, словно свежее стираное белье на морозе, коробилась отдельными льдинами, вороша их, двигала, громоздя завалы у берега. Понтонный мост через Ангару, соединяющий Глазковское предместье с центром города, был разрушен начавшимся ледоходом, что усложняло ведение боевых действий по усмирению восставших.
Начальник Иркутского гарнизона, генерал Ефим Сычев, решил привести взбунтовавшийся полк к порядку и решительно открыл с утра артиллерийский обстрел казарм. В ответ на активные действия по усмирению недовольных солдат, представитель Антанты при правительстве Колчака генерал Жанен, неожиданно для начальника гарнизона сообщил, что не допустит обстрела. Если же обстрел последует, откроет огонь из пушек по центру Иркутска с бронепоезда.
− Это что за выверты! − ревел на заседании с командирами подразделений начальник городского гарнизона, потомственный казак генерал Ефим Сычев.
− Предатели, шкурники! Что прикажете делать в такой ситуации?
− Выхода нет, придется подчиниться, Ефим Георгиевич! У них сила многократно поболее нашей будет. Если выступят, сомнут нас, как кулек бумажный.
− А почему они не хотят нам помочь подавить мятеж? Это их союзнический долг. Удержим власть в городе, они смогут беспрепятственно отбыть на восток! − продолжал бушевать генерал.
− Своя рубаха ближе к телу. Берегут то, что имеют.
− Сукины дети! Делают из России, как из шлюхи, все, что хотят!
− Да уж! Загуляла старушка на старости лет! Встряхнется, небось, − омолодится!
Выходило, что генерал Жанен и весь корпус чехословацких легионеров занял сторону восставшего полка против правительства Колчака. Формально это было так, но фактически продиктовано личными интересами, которые сводились к тому, чтобы сохранить в целости железнодорожные пути, вагоны и паровозы, − все то, что было необходимо для эвакуации подразделений легиона и представителей Антанты из пылающей Сибири во Владивосток, в порт, откуда можно было покинуть гибнущую Империю.
Перед самым новым годом на станцию Байкал, разместившуюся на скалистом берегу озера у истока Ангары, пришли вызванные Сычевым по телеграфу три бронепоезда и тысяча казаков атамана Семенова из Верхнеудинска для подавления восстания взбунтовавшихся солдат гарнизона.
Показалось, что гибельную ситуацию в городе удастся исправить, ведь бронепоезда – это сила. Но укрытые сталью поезда были остановлены близ Иркутска выставленным на путях обездвиженным паровозом. Едва бронепоезда подошли к возникшей на путях преграде, обороняющие дорогу солдаты чехословацкого легиона открыли предупредительный огонь с крутого ангарского берега. Пришлось возвращать бронепоезда назад и ждать исхода событий на берегу Байкала, намереваясь все же как-то поддержать гарнизон. Но вскоре к станции Байкал нежданно подошел из Иркутска и атаковал семеновцев бронепоезд «Орлик» чехословацкого легиона, и белоказаки были вынуждены уйти со станции в сторону Слюдянки.
Творилось непонятное. Недавние союзники теперь противостояли друг другу, решая свои, как оказалось, несовпадающие по цели задачи. Если Сибирская армия белых билась с большевиками за власть над территорией, то легионеры ревностно заботились о контроле над железной дорогой и старательно оберегали путь на восток, как единственный для своего спасения и возврата на родину.
Были памятны еще успешные для Белой армии события лета 1918 года, когда удалось предотвратить взрыв тоннелей отступающими на восток красными войсками на станции Байкал.
Станция и одновременно порт Байкал разместилась на скалистом берегу озера у самого истока Ангары, а, напротив, через реку лепился к скалам на узкой береговой линии вдоль озера поселок рыбаков Лиственничный. Поселок с Иркутском связывает Байкальский тракт протяженностью в шестьдесят верст, а от станции Байкал к Иркутску вела железная дорога вдоль левого берега Ангары. Добраться до станции скрытно можно было только таежными тропами, что удалось отряду урядника Воронкова, отчаянного и расчетливого опытного разведчика, донского пластуна. Удачная скрытая вылазка конного отряда разведчиков со стороны Иркутска позволила разобрать рельсы и отрезать путь красным по железной дороге на восток, а затем уничтожить вагон с четырьмя тоннами динамита, собранные для подрыва тоннелей. Страшный взрыв убил десятки людей, разнес станцию в клочья, опрокинул часть жилых построек, и в результате красным не удалось подорвать тоннели Кругобайкальской дороги. Тем не менее, один тоннель близ Култука красные, отходя на восток, сумели все же взорвать. Для восстановления порушенного участка дороги потребовалось три недели напряженной работы, а движение поездов без задержек смогли организовать только к осени.
Опыт тех событий требовал: сложную дорогу вдоль Байкала следует беречь изо всех сил.
В январе 1920 года бои в Иркутске шли вяло: постреливали в городском предместье, в ответ закипала как будто жаркая перестрелка в центре, ей вторила беспорядочная стрельба у реки, и все вновь стихало. Поутру неспешно убирали единичные окоченевшие трупы с улиц: как в основном оказалось не бойцов, а ограбленных, под шумок стрельбы, горожан.
Чехословацкие легионеры удерживали под охраной вокзал и вагонное депо с паровозами, выставив посты на улицах, ведущих к полуразрушенному понтонному мосту и вокзалу, требуя всякий раз не стрелять в сторону железной дороги.
Японцы, закрывшись в глухом дворе частного обширного купеческого подворья у Лагерной деревянной церкви в Глазковском предместье, сидели тихо, усердно занимаясь строевой подготовкой и потягивая местный самогон, за неимением сакэ.
В Иркутске был знаменит Центральный рынок, разместившийся среди Иркутских церквей. На левом берегу Ангары за понтонным мостом после открытия нового железнодорожного вокзала стал расти рынок Глазковский: было выгодно торговаться с проезжающими и прибывшими. Глазковский рынок был удобен и тем, что рядом стояла ладно рубленная из сосны большая Лагерная церковь, куда водили на молитву солдат здешнего гарнизона. Вечно голодные солдатики активно раскупали орехи, рыбку, стряпню – калачи, пирожки да пряники. А как грянула гражданская распря и в Иркутск вошли по-хозяйски чехословацкие легионеры, приспособили Лагерную, поименованную Петропавловской, иностранцы под себя и справляли молебны на свой манер. Обряды вершили со своим капелланом, но рыбку, орехи да стряпню скупали также охотно. Галдели солдатики, заполнив ряды, на наречии, как бы знакомом, но все же непонятном. Но на рынке оно все просто: ткнет пальцем в товар покупатель, денежку отвалит, – вот и весь торг.
Японцы также наведывались на рынок. Батальон басурман разместился в предместье Глазково за высоким забором купеческого подворья, и солдатики бегали на рынок, раскосо выглядывали товар, частенько принюхивались, морща плоские свои носы, прикупали охотно и рыбку, и самогон, галдя: «Сакэ, сакэ…».
Борьба со стрельбой в Иркутске тянулась всю новогоднюю неделю. Постреливая, стращая друг друга, обеды не добились ни восставшие, стремившиеся скинуть власть Колчаковского правительства, ни войска гарнизона. В городе оказалось сразу два центра власти: совет министров правительства адмирала Колчака и Политический Центр, создавшийся из земцев, меньшевиков и социалистов-революционеров. Обе стороны были одинаково бессильны и не имели никакого основания считать себя правительствами, ибо каких-либо подчиненных им органов управления не имели. Многое в городе держалось на рабочих дружинах большевиков, которые до поры отсиживались в подполье, но с активностью пятой армии РККА, напиравшей с запада, все более проявляли себя.
Население держалось пассивно, выживало, выжидая и чутко прислушиваясь, чья возьмет.
Все изменилось пятого января, когда по всему городу были расклеены объявления об отречении от власти Колчака. Блокированный в Нижнеудинске адмирал подписал указ о передаче власти в России генералу Деникину, а на востоке страны атаману Семенову.
Так автоматически прекратилась власть Верховного правителя России адмирала Колчака в Иркутске, а власть формально оказалась в руках Политцентра. А казалось, для сохранения власти были вполне благоприятные условия, которые определялись поддержкой союзников по войне с Германией, наличием японских войск на Дальнем Востоке и в самом Иркутске. Добавляло оснований удержать власть значительный, в несколько сот миллионов рублей, золотой запас Российской Империи. Столь солидный капитал как приз нежданно упал к ногам Колчака именно в тот момент, когда он пришел к власти и был признан силами Белого движения Верховным правителем России.
Через год, когда стало явно то, что власть Колчака пошатнулась, глава иностранной миссии генерал Жанен в Омске перед отступлением предложил адмиралу взять золото под свою охрану, гарантируя его сохранность при доставке на восток. Но что такое гарантии союзников, Колчак хорошо представлял. Адмирал на это предложение отвечал в свойственной ему манере − резко:
− Я лучше передам его большевикам, чем вам. Союзникам я не верю.
Этот грубый ответ был, по существу, правильным, так как персональная и единоличная гарантия Жанена не могла считаться даже минимально достаточной. Хорошо понимал Колчак и то, что, провозглашая лозунг «За единую и неделимую Россию», он выступает против интересов бывших союзников в войне с Германией, для которых сильная и богатая Россия была не нужна, была всегда опасна, а золотой запас рассматривался как приз за участие в разделе страны. При этом Колчак полагал, что российское золото принадлежит, прежде всего, российскому народу и должно остаться в России при любых обстоятельствах, даже несмотря на не желаемую им смену власти.
Предлагая Колчаку взять золото под охрану и, давая гарантии сохранности золотого запаса, генерал Жанен предполагал опираться на военную силу чехословацкого легиона.
Легионеры занимали особое и крайне неоднозначное место в тех, столь запутанных исторических событиях. Сформированные в России для борьбы с австро-венгерской и германской коалицией на фронтах мировой войны, после октябрьских событий, армия добровольцев, перебежчиков и плененных чехов и словаков, оказалась не у дел. Позорный вынужденный Брестский мир Совета народных комиссаров с германским канцлером вывел Россию из войны с огромными потерями территорий, с контрибуциями, с потерей репутации надежного союзника, и встал вопрос о возвращении легионеров на родину. Для решения задачи выхода из полыхающей страны, понимая, что в сложившемся в стране хаосе только они сами способны решить свою судьбу, легионеры взялись контролировать единственный возможный путь – Транссибирскую магистраль, чтобы морем из Владивостока покинуть Россию. При этом и большевики, и контрреволюционные силы стремились вовлечь чехов и словаков в противостояние, надеясь извлечь свою выгоду. В результате исход легионеров затянулся на долгие два года и сопровождался жестким противостоянием со всеми, кто готов был помешать вернуться домой. Продвижение на восток многотысячной группировки войск сопровождалось грабежами, захватом вагонов, паровозов, ценностей, а также убийствами всех, кто вступал в противостояние с легионерами.
Во время активной борьбы за власть в Иркутске адмирал Колчак находился на железнодорожном вокзале в своем поезде в Нижнеудинске, в пятистах верстах от Иркутска: поезда были блокированы по распоряжению генерала Жанена. Вскоре последовали требования об отречении Колчака от власти и распоряжения о разоружении конвоя.
Понимая, что ситуация складывается крайне неблагоприятно, Колчак в тягостных раздумьях, раздираемый противоречивыми идеями, не решился оставить золотой запас под контролем чехословацких легионеров и уйти с конвоем в сторону Забайкалья и Монголии.
Пытаясь хоть как-то сопротивляться давлению союзников, адмирал принимает решение остаться в Нижнеудинске, силами конвоя держать оборону и не уступать командованию чехословацким легионом и генералу Жанену золотой запас. Требовалось дождаться подхода армии генерала Каппеля, которая была вынуждена двигаться в пешем строю. Отставала армия всего-то на пару недель.
Но в ответ на предложение Колчака к конвою поддержать его предложение, практически все из окружения и охраны покинули адмирала. Потеряв уверенность и оставшись только с горсткой преданных офицеров и казаков, адмирал был вынужден довериться командованию чехословацких легионеров и генералу Жанену. Союзники заверяли адмирала, что берут под охрану и обеспечат безопасность при передвижении через охваченное боевыми столкновениями Приангарье.
Под охрану чехословацких легионеров передавалось теперь и золото.
Понимая, что утрачивается контроль над российским золотом и, понимая, как обогатились легионеры, Колчак в последние дни перед отречением направляет в таможню Владивостока указание о ревизии багажа выезжающих через порт чехов и словаков на предмет изъятия ценностей, захваченных в России. Запрет Колчака для таможни озлобил союзников, что практически предопределило судьбу адмирала.
Этот неподъемный золотой запас Империи, канувшей в небытие, похоже, тянул адмирала на дно, как тяжкий камень тянет утопленника, поскольку, даже потеряв власть, Колчак, следуя присяге, не складывал с себя ответственности за сохранность золотого запаса − достояния России.
Как только Колчак оказался в поезде практически под арестом, со стороны большевистского Революционного комитета, претендующего на полную власть в Иркутске, поступило требование о выдаче адмирала и золотого запаса. В противном случае представители большевистской власти в городе грозились взорвать байкальские береговые тоннели и мосты.
Теперь в штабном вагоне генерал Морис Жанен и командир чехословацкого легиона генерал Ян Сыровы обсуждали варианты дальнейших действий, учитывая сложнейшую ситуацию с дорогой вдоль Байкала.
Жанен информировал Сыровы:
− До нас дошла информация, что генерал Семенов приказал приготовить вагон с взрывчаткой, который стоит на станции Половинка. При вагоне постоянно находится группа саперов, и, как только поступит приказ, вагон загонят в тоннель и взорвут. В этом случае дорога будет перекрыта на очень длительный срок. Вот такие наши перспективы.
− С другой стороны, − продолжал Жанен, − большевики прочно держат власть в Слюдянке и Култуке. В этих пунктах у них крепкое подполье в железнодорожных депо. Власти надлежащей там нет, и никто не способен помешать большевикам, сделать то же самое на южной оконечности Байкала в районе станции Ангасолка. Есть информация, что арочный каменный мост через речку и распадок у станции могут заминировать. По мнению наших специалистов, восстановить такой мост быстро не удастся – распадок достаточно глубок.
− Смотрите, генерал, − Жанен развернул перед Сыровы карту Прибайкалья с черной линией Транссибирской магистрали, − дорога на расстоянии около ста километров очень уязвима: десятки тоннелей, мостов, скалы и практически полное отсутствие другой альтернативной дороги.
− Ситуация скверная. Что предлагаете, генерал? – отозвался Сыровы, оглядев карту с железной дорогой вдоль Байкала и подробными сведениями о тоннелях.
− Наш план прибрать золото и выйти вместе с ним на восток, видимо, не состоятелен: мы упустили время, а этому способствовал Колчак, − продолжил Жанен, скривившись как от зубной боли, вспомнив последнюю встречу с адмиралом.
– Колчак многое предопределил, долго задержавшись с отъездом из Омска. Я предлагал ему взять золото под свою, то есть нашу охрану, когда еще в октябре уезжал из города. Оставаться там было уже небезопасно. Но Верховный отказался и был крайне решителен. Все мои доводы он исключил и даже высказался о том, что скорее передаст золото большевикам, чем нам, его союзникам. Я впервые от него слышал столь резкую брань в отношении союзнических сил. Назвал наши действия «дешевой мыльной опереткой в стиле Мулен-Руж», − Жанен криво усмехнулся и продолжил:
− Теперь власть в Иркутске переходит в руки большевиков, и убедить их пропустить поезд с золотым запасом, конечно, невозможно. Нужно учитывать, что часть дороги, наиболее уязвимые ее места вдоль Байкала ими прочно контролируются.
− Похоже, Колчак вел дело именно к этому, учитывая его позицию еще в Омске, − высказался Сыровы и подумал, что Колчак прав про театр, если учитывать, что многие в этом представлении играют часто не свои роли, а реплики их сплошь фальшивы.
− Я этого не то, что не допускаю, но понять это невозможно. Ведь в этом случае Колчак обречен. Теперь он не сможет вырваться, и мы будем вынуждены его выдать. В противном случае железная дорога для нас будет закрыта.
− Насколько я знаю, адмиралу были даны заверения союзников о его безопасности, и нам следует подумать о сохранении лица, − ответил Сыровы.
− «A la guerre comme, a la guerre…− на войне, как на войне», − так, кажется, будет по-русски, − прикуривая сигару и пуская дым, ответил Жанен.
– Приходится чем-то жертвовать, чтобы добиться генеральной победы или, по крайней мере, выйти сухими из этого болота. И потом, насколько теперь сам Колчак нужен нам как политическая фигура? Золотой запас практически в руках большевиков, каких-либо уступок по территориям он нам не подтвердил. И какова цена этих уступок, когда его Сибирская армия бежит на восток со скоростью напуганного, израненного оленя.
− Да, Вы правы, генерал, нам остается или передавать Колчака Советам, или вступать в бой с большевиками и потерять на время железную дорогу. Ведь генерал Каппель со своей армией на подходе. Он наверняка возьмет Иркутск, а с его помощью мы пробьемся на восток, − продолжал размышлять Сыровы о вариантах решения проблемы.



