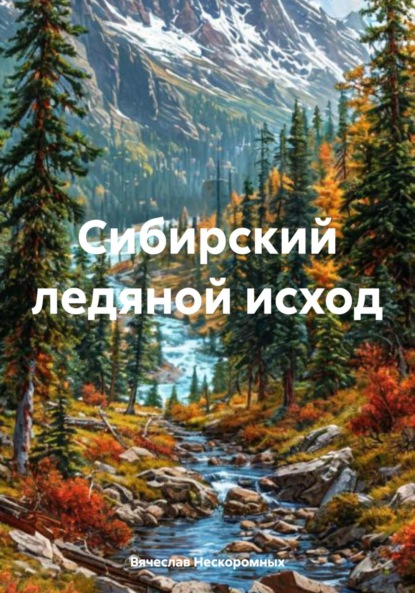
Полная версия:
Сибирский ледяной исход

Вячеслав Нескоромных
Сибирский ледяной исход
ПРОЛОГ
Трагические события гражданской войны в России в сибирских пределах имели свои особенности. На огромных просторах от Урала и до Владивостока, среди полноводных рек и тайги сталкивались интересы монархистов и анархистов, эсеров и либералов разных мастей, иностранные части легиона чехов и словаков, японские и американские войска, отряды казачьих атаманов, интернациональные батальоны и бандиты, что грабили и убивали всех без разбору. Долгие годы, под самыми различными лозунгами, противостоящие друг другу силы бились с переменным успехом, делили золотой запас России, пытались проводить свою, одним им понятную политику, раздирая восток Империи на части. Можно было слышать лозунги «За единую Россию!», «За веру, царя и Отечество!», «За власть Советов!», «За Советы без коммунистов!», «Анархия – мать порядка!», «Земля и воля!», «Земля − крестьянам!» и многие другие, часто противоречивые призывы.
В огне этой борьбы гибли люди, совершались великие преступления, была уничтожена царская семья, тайно убиты Великие князья – возможные наследники престола, разгонялись прежние правительства, был расстрелян адмирал Колчак и премьер Пепеляев, терялось и вывозилось достояние Империи, ее золотой запас, создавались и распадались новые государственные образования. История гражданской войны в Сибири крайне противоречива, интересна и представляет собой порой самые загадочные события, которые совершались незаурядными людьми.
Одним из наиболее трагических событий страшного по жестокости противостояния является Сибирский ледяной поход, по сути, массовый исход значительной части российского общества через тайгу, через снега, по неверному льду рек, через Байкал бесконечной по размерам разветвленной дорогой по Сибири в Забайкалье и за пределы России.
Борьба в Сибири, Якутии, Приморье затянулась на долгие годы, едва завершившись только к окончанию десятилетия от начала революционных перемен. На просторах Сибири долго еще тлели и вспыхивали очаги возмущения: поднимались сибиряки, дальневосточники, чтобы отстоять свое право на жизнь в родных селениях, среди тайги, у реки или озера, вопреки диктату, продразверстке, коллективизации, монополии на мнение со стороны правящей в стране силы и партии. Не соглашались неуступчивые люди с притеснениями, с навязываемыми властью новыми правилами жизни без Бога, но с верою в неведомый призрачный, как райские кущи, коммунизм и никому не нужную Мировую Революцию. Выворачивали большевистские силы страну наизнанку, свершив вооруженный антигосударственный переворот, коверкая смыслы цивилизованного развития страны. Чтобы сломить логику служения Отечеству, раздавали щедро ложные обещания свободы, земли, владения средствами производства. В то же время, отвергая уклад естественной человеческой жизни, продвигая свои идеологические установки, придуманные правила жизни, осуществляли подмену понятий, цель которых состояла в достижении безграничной власти правящей большевистской партии, ее формальных лидеров – людей, желающих повелевать всем тем, что было обещано.
Минуло уже сто лет, как отгремели горны и боевой рокот гражданской войны. Более долгой она была на востоке страны. Этот сборник создан в память о тех, кто прошел тот тяжкий путь братской вражды.
Одни идут освобождать
Москву и вновь сковать Россию,
Другие, разнуздав стихию,
Хотят весь мир пересоздать.
А я стою один меж них
В ревущем пламени и дыме
И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других.
Максимилиан Волошин
СИБИРСКИЙ ЛЕДЯНОЙ ИСХОД
Леденящая души дорога
Весной 1919 года фронт, удерживаемый Сибирскими армиями Верховного Правителя России А. В. Колчака, держался уверенно и, развивая наступление, вышел к Волге, удерживал Пермь и Екатеринбург, наметилось взятие Казани. Казалось, что еще усилие и фронт Красной Армии затрещит и развалится, откроется путь на Москву и скоро все будет кончено со смутой.
Командовал армией, стремительно возвысившийся за год от лейтенанта до генерала, молодой амбициозный чех из состава чехословацкого легиона Радола Гайда, выдвинутый Александром Колчаком на высокий пост за активную смелую деятельность. Гайда поначалу оправдывал ожидания Верховного, но летом, когда Западный фронт армии под командованием генерала Константина Сахарова, стал отступать и были потеряны Пермь и Екатеринбург, отказался исполнять приказ командующего о завершении столь удачного наступления на Казань во имя спасения Западного фронта. В результате огромный участок фронта был охвачен и смят красными войсками, и вся Сибирская армия вынуждено спешно и не организованно побежала, опрокинутая во фланг.
Гайда был отстранен от командования, скоро уволен из армии, лишен наград и генеральского звания.
В сентябре отступление Сибирской армии приняло характер катастрофы. Критический момент возник, когда отступая с боями, армия уже в ноябре была прижата к Иртышу, огромной сибирской реке, по которой шла шуга, а переправы для десятков тысяч повозок не было. Реальным был один путь – пешком через железнодорожный мост без вооружения, продуктов питания, всего того, что определяет боеспособность армии. Воспользоваться железнодорожной магистралью в разразившейся суматохе, из-за захвата подвижного состава чехословацким легионом, не представлялось возможным: армия оказалась неорганизованной и брошенной.
Тем не менее, через сутки, изрядно подморозило, и река встала под лед. Скоро смогли переправиться через реку десятки тысяч солдат, казаков и беженцев с повозками, с вооружением и продуктами питания.
– Господь с нами! – отметил великую удачу командующий Владимир Каппель и приказал, сохраняя строй двигаться к Омску.
Уповать на Господа только-то и оставалось Сибирской армии, теряющей боевой строй на глазах.
Переправившаяся через Иртыш армия, сопровождаемая десятками тысяч гражданских лиц, двинулась на восток сплошным горестным потоком, ощетинившись штыками. Так начался Сибирский ледяной поход, Великий по масштабам, по свалившейся на граждан и воинов тягости, по уровню проявленной стойкости людей России, вместивший горечь поражений, смертей, предательства и яркие примеры выдержки и героики. Поход, который, как стало понятно, не имел заданной конечной цели и превратился, в конечном счете, в Великий исход в ледяном пространстве Сибири.
Поражения Сибирских армий вынудили Верховного Правителя России Александра Колчака с остатками правительства Директории покинуть Омск, оставив на растерзание красных худые заслоны арьергарда. Восстановить фронт и удержать город не удалось. Приходилось, потеряв строй, прорываться с боями, краткими кровавыми стычками через охваченные волнениями восточные области Сибири, пролетарский Красноярск.
Из Омска Верховный Правитель России адмирал Колчак прибыл в Новониколаевск, сделав на пару недель будущий Новосибирск столичным городом. Две недели прошли в судорожной, мало организованной, но активной работе. Адмирал собирал аппарат правительства, отстранял от должности одних, делал назначения других, издавал, порой противоречивые распоряжения, энергично выступал с речами, так, что сорвал голос: все было направлено на исправление ситуации с отступлением.
В Новониколаевске появилось эмоциональное «Воззвание Верховного правителя» к населению, в котором Колчак признавал неудачи на фронте и взывал вступать добровольцами в армию, организовывать отряды самообороны, помогать средствами.
В Новониколаевске оперативно был назначен на пост главы правительства Виктор Пепеляев, взамен отстраненного Петра Вологодского, с требованием от Колчака работать не в пример более активно и жестко.
Но ощущалось во всем: активность адмирала Колчака, не способна раскручивать практически остановившийся маховик власти, донести до армии четкие установки, хоть чем-то укрепить линию обороны.
Ситуация на фронте была крайне плачевной, что отзывалось смутой и в тылу. Казалось, при пребывании Верховного в городе, крепкий и преданный Барабинский полк, вдруг восстал после его отъезда: предательство шло за Верховным правителем России по пятам, ступая шаг в шаг с большевистскими агитаторами. Коррозия политической пропаганды продолжала разъедать воинскую дисциплину и дух сопротивления.
Генерал Анатолий Пепеляев, − молодой командующий, избалованный воинским успехом 1918 года, в результате отступления практически потерял армию. Сплоченные воинские соединения разложились за два месяца под натиском неудач и большевистских агитаторов. Пепеляев, оставшись только со своим штабом и ротой охраны, обвинил в развале фронта главнокомандующего генерала Сахарова и самого Колчака.
В декабре, когда Верховный Правитель России прибыл на станцию Тайга, его состав был задержан и окружен войсками генерала. Пепеляев тут же прибыл к поезду и в нелицеприятной беседе с Колчаком, выкрикивая публично обвинения, потребовал расследования предательства и причин сдачи Омска.
– Как вы могли сдать Омск? Это не просчет, это предательство! Теперь армию не остановить! Почуяли кровь, – будут рвать на части! А другой линии обороны у нас нет! – шумел, изводясь в крике, двадцативосьмилетний Пепеляев и рядом с угрюмым, осунувшимся и резко сдавшим за последние недели Колчаком выглядел разгоряченным, раскрасневшимся кадетом.
Ситуацию спас только что назначенный на пост премьер-министра правительства Виктор Пепеляев, − он примирил Колчака и брата. В результате Пепеляев отказался подчиняться власти Колчака и отправился на восток, захватив несколько вагонов в проходящем поезде, а генерал Сахаров был смещен с должности.
Многочисленные партизанские отряды, появившиеся в таежной местности в ответ на жесткую власть Верховного и его наместников в уездах, теперь шли след в след за отступающими частями Сибирской белой армии и подобно охотничьим псам рвали плоть огромной, еще способной за себя постоять, армейской силе, все более превращающейся в жертву.
Армия Сибирских войск под командованием генерала Владимира Каппеля отступала теперь на восток, двигаясь параллельными курсами вдоль Транссибирской железнодорожной магистрали, и сохраняла еще боеспособность в отличие от армии генерала Анатолия Пепеляева, которая массово переходила на сторону большевиков и не подчинялась общему руководству. Третья армия генерала Сахарова отступала южнее через Западно-Сибирскую тайгу по узким заснеженным просекам и тропам.
Несмотря на наличие железной дороги, части белых войск не имели возможности воспользоваться Транссибом для доставки вооружений и солдат: чехословацкие легионеры ревностно контролировали единственный путь из России, лишая русскую армию стратегической возможности использовать железнодорожный транспорт. Поезда, на которых еще размещались в пути до Ачинска и Красноярска штабы и вооружение, отдельные части сопровождения едва ползли друг за другом, останавливаясь подолгу среди полей и тайги. Порой так и ночевали, обессиленные без запаса угля составы, застрявшие среди дикого леса, полные замерзающими в них людьми.
Тайга в зимнее время превратилась в ловушку для отступающих: c запада Сибирскую армию преследовали пять дивизий Красной Армии; c юга обширные территории контролировались партизанскими армиями Петра Щетинкина и Александра Кравченко; c севера простиралась необжитая, заснеженная на тысячи верст тайга. Открытой оставалась лишь дорога на восток и весь армейский и людской потоки снялись со своих мест и двинулись, повинуясь законам жестокого раздора гражданской войны.
Ощетинилась Сибирь против Колчака и его армии всем своим жестким естеством, неуступчивым характером.
Красные войска наступали, объявив тотальную мобилизацию и комплектуя свои армии путем активной агитации. Им это удавалось: манили посылами и призывами к расправе над теми, кто мешал получить щедро обещанные блага и свободы. Несогласных служить новой власти и колеблющихся, слабо поддающихся на посылы, отправляли в сборные пункты и в регулярные части под конвоем. Пленных, захваченных в наступательных боях, охватах, «просеивали», отделяя неблагонадежных, и определяли в боевой строй против своих вчерашних соратников. В случае неповиновения или дезертирства, а также и выявленных «неблагонадежных», расстреливали без всякого суда.
Сибирская армия перемещалась, растянувшись длинной лентой бесконечных конных санок с двумя-тремя седоками в тулупах до пят, с винтовками и баулами с провиантом и вещами. На узкой лесной дороге могли разместиться только двое саней в ряд, а если наезженный путь сужался, возникали пробки, обойти которые по глубокому снегу среди леса было невозможно. Приходилось останавливаться и ждать.
По мере продвижения людские потоки редели, и крайне сложно было сохранять воинский боевой дух в такой-то неразберихе, в отсутствии должного управления и снабжения: люди были голодны, плохо одеты и нуждались в насущном. При вынужденных остановках арьергарду приходилось спешно занимать оборону, чтобы прикрывать армию и многочисленные обозы с мирными жителями от наседающих войск красных.
Пути следования отступающих войск армий Колчака были завалены брошенными санями, артиллерийскими орудиями и обозными повозками, которые передовые части не смогли вывезти из-за катастрофической нехватки лошадей: животные массово гибли от переутомления, голода и лютого мороза. Мороз давил и после ночевок на привалах оставались трупы околевших коней и окоченевшие тела несчастных воинов земли русской. По обе стороны армии шла целая армия голодных волков. Не довольствуясь трупами павших лошадей и телами умерших, волки кидались и на отставшие одинокие повозки с раненными и больными.
Войска шли, порой утопая в снегу. Кавалеристы на своих конях прокладывали путь пехоте. За ними бесконечной вереницей тянулись сани-розвальни с больными тифом и раненными бойцами. Спали на снегу, едва укрывшись, сидя, питаясь крайне скудно, часто мясом павших лошадей. После таких ночевок многие уже не просыпались, умерев во сне.
Но шла через Сибирь Сибирская белая армия шаг за шагом без ропота, обреченная пройти этот горестный путь до конца.
Войска практически не имели централизованного управления после Омска, который был сдан без обороны, вступая в бой, лишь следуя сложившейся ситуации, отбиваясь беспорядочно и погибая.
У деревни Дмитриевка боевое арьергардное соединение Уральской дивизии, державшее более суток натиск красных войск, вынуждено было остановиться и расчищать завалы на заснеженной дороге. Пока растаскивали преграды, освобождая дорогу и утопая в снегу по пояс, застрявшие войска почти полностью полегли под огнем пулеметов и были добиты неуклюжим, через снежные топи, наскоком конницы красных эскадронов. Уставшие смертельно уральцы, голодные, без поддержки пулеметов и конницы, были порублены и перемешаны со снегом. После дикой, со звериным оскалом на лицах, рубки, поле боя выглядело как снежное, с мелкой зыбью и волной море, на поверхности которого как бы плавали тела порубленных солдат, и пенилась на закате волна с красным оттенком.
В котловине у поселка Успенского арьергард Ижевской дивизии белых обнаружил множество трупов, которые были брошены отступающими в обозе: хоронить не было ни какой-либо возможности. Не было и желания – улетучилось милосердие, а пока справлялись успешно стужа и снега – мороз хоронил стерильно.
Отступающие солдаты и беженцы умирали от холода, ослабленные голодом и болезнями. Раненые солдаты и казаки лежали вперемешку с женщинами и детьми: лица и тех, и других были полны страданий и мольбы. Тут же в беспорядке валялись трупы павших лошадей, обломки саней, сундуки и ящики со скарбом, брошенные артиллерийские орудия.
Войска были измотаны долгим пешим переходом. Кто-то, вконец обессилев, садился в стороне от дороги и оставался умирать, безучастный и совершенно опустошенный. Войска красных, наступая следом за отходящей армией, двигались порой в пределах узкой лесной дороги по телам сотен полузанесенных снегом людей, некоторые из которых были еще живы. Умирающим не помогали, а в лучшем случае обходили стороной, оставляя погибать не под полозьями саней, а медленной смертью в объятиях леденящего плоть мороза.
Тем не менее, войска сибирских колчаковских армий оставались еще боеспособными: огрызались боями на отходе, цеплялись за каждый изгиб дороги, за каждую деревню, пригорок или овраг, сдерживая напор красных. И было непонятно, что ковало этот боевой дух. Но продолжал стоять солдат и офицер Сибирской армии, являя миру веками складывающийся боевой характер русских дружин.
Третья армия в первых числах января вышла из Западно-Сибирской тайги сильно поредевшая и практически без артиллерии, которую пришлось бросить в лесу. Лишь восемь орудий малого калибра вынесли на своих руках артиллеристы и солдаты Ижевской дивизии.
Красная Армия, поддерживаемая партизанами, напирала, и в декабре овладела Новониколаевском, Тайгой, Томском, а в самом начале января пал и Ачинск, охваченный наступающими войсками и партизанами.
Одной из наиболее страшных страниц Великого отступления явился взрыв на станции Ачинск 29 декабря. В небольшом сибирском городке к этому времени скопилось на станции более десятка эшелонов и десятки тысяч отступающих людей: солдат, казаков и беженцев. Железнодорожники старались пропустить все поезда через станцию, но им мешали чехословаки: тысячи вагонов с награбленным добром создавали заторы на железной дороге.
Среди скопившихся на путях вагонов были наполненные взрывчаткой и боеприпасами. Два вагона стояли заполненные бочками с порохом. В середине дня на станции случился страшный по мощности взрыв. Несколько поездов в одно мгновение превратились в груды искореженного металла, пути вздыбились, строения превратились в щепу, а вокруг все оказалось завалено фрагментами изуродованных человеческих тел вперемешку с обломками вагоном, строений, окровавленного снега.
Жертв взрыва было огромное число: более тысячи погибших, многие десятки тысяч раненых. Определить точно число оказавшихся в эпицентре людей невозможно, – толчея была неописуемая, не менее сотни пропали без вести. Груды тел и их фрагментов были собраны и уложены штабелями вдоль путей и позже захоронены за городком в общей траншее. Погибли гражданские и военные, в том числе почти весь конвой командующего из казаков Енисейского казачьего полка Владимира Каппеля. Сам генерал был контужен, но остался жив случайно, ибо находился рядом с центром взрыва.
Причина взрыва неизвестна, но следует предположить, что взорвалось несколько сотен пудов пороха, за которым не было контроля, и начались торг и обмен: порох рассыпали из бочек в мешки и уносили, труся по земле. При этом смолили самосад чуть ли не все, бросая окурки на землю. Как тут пороху не загореться, и как было избежать катастрофы?
Разруха она верно «в головах» прежде, а от нее и до погибели шага делать не нужно.
События в Ачинске подорвали и без того слабый настрой белой армии. Держаться вместе заставляла необходимость хоть как-то выжить, выйти из возникшей катастрофы живыми.
Впереди, после Ачинска, на пути отступающих армий был мятежный Красноярск. Казалось, что этот большой город с гарнизоном – оплот власти и можно встать после тяжкого пути, отдохнуть, зацепиться и остановить Красную Армию, но оказалось, что твердь обернулась хлипким гнилостным болотом, – изменой. Боеспособный кадровый гарнизон, его начальник генерал Бронислав Зиневич, крепко державший семидесятитысячный город, переметнулись в подчинение к эсеровскому Политцентру, отвергая резко пошатнувшуюся власть адмирала Александра Колчака. Политцентр же был слаб и как только к городу подошли дивизии Красной Армии, власть перешла к большевикам.
Поезда с Верховным правителем Колчаком и вагонами с золотым запасом едва успели проскочить Красноярск, как случился мятеж.
Четвертого января Сибирская Армия, потеряв две дивизии, деморализованные взрывом и сдавшиеся в Ачинске, подошла к Красноярску. Численность подошедших войск и беженцев была огромна – десятки тысяч солдат и еще столько же гражданских лиц. Командующий армией генерал Каппель поручил генералу Войцеховскому выбить из города взбунтовавшийся гарнизон. Но успеха действия войск не имели из-за нерешительности и отсутствия сведений о противнике.
Между тем силы, защищающие город, были незначительны и могли быть смяты многотысячной армией. Но кроме достаточного числа штыков в армии, нужны еще решимость и умелое управление частями. Этого в тот момент в достатке не оказалось.
Из Красноярска в сторону деревни Дрокино для преграждения пути в город, была спешно выслана полурота пехоты красноармейцев с пулеметами. Наспех собранные, слабо обученные бойцы заняли высоты к северо-западу от города верстах в трех от него, в тайне надеясь, что пронесет и боя не случится. А место было выгодное: c Лысой горы, что господствовала над долиной и рекой, все открытое в этих местах пространство простреливалось на многие километры.
На противоположном плато собралось несколько тысяч саней с сидящей на них Белой армией, подошедшей с запада. Тут же при войске был верхом и командующий генерал Каппель, его заместитель генерал Сергей Войцеховский, и с ними несколько всадников из штаба. Воинское начальство только, что покинуло вагоны, вставшего окончательно перед городом поезда, и теперь озирало театр действий и не видело перспектив превратить унылый ход слабоуправляемых частей в победную поступь многочисленного, но смертельно уставшего войска.
Прогнать несколько десятков красноармейцев можно было обходом влево с одновременным нанесением прямого удара, о чем тут же был сделан приказ. Однако ни один солдат из саней выходить не пожелал, и все завершилось к ночи только бессмысленной взаимной пальбой без каких-либо последствий. С наступлением ночи войска пошли в обход Красноярска, направляясь в сторону Емельяново и далее на восток. Другая часть подразделений прошла через город по его окраинам, не зная о ситуации в городе. Это привело к тому, что боеспособные части попали в засаду и сдались Красноярскому гарнизону, еще недавно входившему в состав Сибирской армии.
Части корпуса генерала Каппеля также попали в окружение возле Красноярска, не получив вовремя сведений о том, что город контролируется предавшими их войсками. Приходилось с боем прорывались по окраинам, сминая заслоны красных и неся потери. В этакой неразберихе белые войска потеряли свой последний аэроплан, использовавшийся для разведки.
Аэроплан, что базировался на оборудованном под аэродром поле возле деревни Дрокино, взмыл в небо по приказу из штаба Каппеля для изучения обстановки вокруг города и пробыл в небе около часа. Но когда пришлось возвращаться, аэродромное поле уже было захвачено отрядом бойцов, изменивших присяге Колчаку. При посадке летчик Ставрогин заметил подвох, уже завершая пробежку, − вдруг увидел красные ленты на шапках солдат, их искореженные гневом лица, и сумел вновь поднять свою механическую птицу в небо. Но далеко не улетел: пулеметный огонь разметал обшивку, заглушил двигатель, и аэроплан, плавно скользя, упал за Дрокинской горой. Ближе к упавшему самолету оказались войска Белой армии, и летчик не пропал, а был вызволен из аэроплана.
Продырявленную огнем пулемета механическую птицу бросили, а летчик Ставрогин, прослезившись, вскинул на плечо кавалерийский карабин, что хранил в аэроплане на случай, если придется совершить вынужденную посадку, встал в строй и зашагал вместе со всеми, слившись с одноликой серой массой. Теперь, размеренно ступая шаг в шаг среди солдат, пилот Ставрогин отличался только тем, что мог представить, как бы он смотрелся с высоты полета над этой заснеженной и заросшей бесконечными лесами местностью среди смертельно усталых и выживающих на морозе людей, бредущих неизвестно куда и с какой целью.
Оценив складывающуюся ситуацию, генерал Каппель приказал обойти город и пробиваться с боями в направлении Канска и Иркутска, оставив больных и тех, кто уже не имел сил двигаться по зимней дороге. Более половины отступающих сдались и остались в городе на милость победителей. Седьмого января 30-ая дивизия Пятой РККА вошла в Красноярск.
Оказавшиеся в городе и сдавшиеся части Сибирской Армии, а также часть беженцев были помещены в созданный в Военном городке Красноярска лагерь для военнопленных. За год большая часть оказавшихся в лагерях погибла от голода, болезней, многие были расстреляны. Тела погибших сбрасывали с гранитной кручи берега к руслу Енисей.
Сохранившиеся части Сибирской армии двинулись дальше на восток.
Пушки тащить по заснеженной тайге без дорог было невероятно тяжко. Лошади уже не справлялись, также выбившись из сил без отдыха и добротного корма. Пришлось пушки бросить, а замки и прицелы от пушек утопить в реке. Шли теперь как бы налегке, оставив только самые легкие мортиры, которые можно было навьючить на коней. Корпус сохранял боеспособность и, сминая заставы красных войск, двигался по бездорожью, не встречая крупных сил противника.



