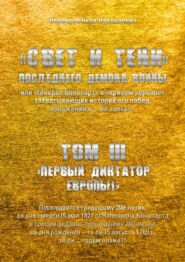скачать книгу бесплатно
Только около полудня на правом французском фланге появились головные колонны III-го корпуса маршала Даву. Его войска приближались к полю сражения по-эшелонно. Первым появился авангард и внезапной атакой заставил отойти русских от Зерпаллена. Вслед за авангардом быстрым маршем к полю сражения подходили дивизия Фриана, за ней – дивизии Морана и Гюдена. Поскольку всего в распоряжении Даву было более 15 тыс. чел., то по численности армия Наполеона могла вскоре сравняться с русской (62—63 тыс. против 67 тыс. солдат).
Полки Даву, развернувшись в боевые порядки, пошли в атаку на Кляйн-Заусгартен и Зерпаллен, атаковав левый фланг армии Беннигсена. Наполеон поддержал III-й корпус, бросив ему на усиление часть корпуса Сульта (дивизию Сент-Илера и бригаду резервной лёгкой кавалерии в составе двух полков). Селения Кляйн-Заусгартен и Зерпаллен переходили из рук в руки множество раз. Французам ценой невероятных усилий удалось сбросить русских с высот близ деревни Кляйн-Заусгартен, господствующих над этой частью поля сражения, и, выбив врага из самой деревни, двинуться в направлении деревни Ауклаппен и одноименного леса. Неся значительные потери, Даву продвигается-таки всё дальше и дальше в сторону леса Ауклаппен. Для русской армии возникла угроза выхода французов в её тыл и Беннигсен вынужден, постепенно ослабляя центр, перебрасывать войска к своему левому флангу, чтобы избежать обхода. Иначе русская армия могла оказаться отрезанной от пути отступления к Неману, т.е. от русской границы.
Заметив, что значительная часть русских резервов сконцентрировалась против Даву, Наполеон решает нанести по центру русской армии удар силами 15-тысячного корпуса Ожеро. И вот две его дивизии проходят южнее кладбища Эйлау, развёртываются и бросаются в атаку через покрытую глубоким снегом равнину под ураганным огнём русской артиллерии. Справа наступает дивизия генерала Дежардена, слева – генерала Эдле. В каждой из дивизий первая бригада движется в развёрнутом боевом порядке, а вторая сомкнутыми колоннами позади флангов первой. Эти колонны могли в любой момент перестроиться в каре, если бы вдруг их атаковала русская кавалерия. Для поддержки пехоты корпусная артиллерия Ожеро развернулась в 400 метрах перед кладбищем.
И надо же такому случиться, что именно в этот момент на обе армии внезапно налетела сильная снежная буря. Из-за этого поле боя стало быстро покрываться кубометрами снега, которые вихри ветера поднимали в воздух. Ослеплённые бьющим в лицо снегом французские войска, дезориентировавшись, потеряли нужное направление и слишком отклонились влево. В результате идущие в атаку солдаты Ожеро неожиданно оказался менее чем в 300 шагах прямо напротив самой большой батареи русских – центральной из 72 орудий. С такой дистанции промахнуться просто невозможно – почти каждый выстрел попал в цель. Раз за разом русские ядра врезались в плотные массы вражеской пехоты и выкашивали целые ее ряды. Буквально за несколько минут корпус Ожеро потерял 5.200 солдат убитыми и ранеными – треть своего состава. Сам маршал получил ранение, Дежарден был убит, Эдле серьезно ранен. Остатки корпуса Ожеро остановились, дрогнули и попятились назад.
Воспользовавшись моментом паники и беспорядка в помятых и обескровленных вражеских рядах, Беннигсен перешёл в контрнаступление. Пытаясь прорвать ослабленный центр неприятел, он быстро бросил на отступающих «ожеровцев» застоявшуюся на морозе кавалерию и, разгоряченную прямо перед атакой ядреной порционной водкой, пехоту. Кроме того, атакующая масса русских войск была поддержана артиллерией. Более того, её плотный огонь был сконцентрирован на гвардии Наполеона, стоявшей на кладбище Эйлау. Разгорелся кровопролитный штыковой бой. Войска Ожеро, понеся ужасные потери, начали отступать.
Однако стремительно наступая, русские сильно оторвались от своей основной линии. Увидев это, Наполеон, постарался воспользоваться этим неожиданно подвернувшимся ему шансом повернуть в свою пользу неудачно складывавшийся для него ход кровавой битвы. Он немедленно отдаёт Мюрату приказ ввести в бой всю резервную кавалерию. Двум дивизиям (драгуны Груши и кирасиры д’Опуля – 64 эскадрона – более 7 тыс. сабель) сведенным в одну могучую колонну тяжёлой кавалерии в развёрнутом строю (тем самым увеличивалась ее пробивная сила!) предстояло спасти Великую армию и… ее императора, попытавшегося было вернуть себе инициативу сокрушительным ударом «бронированного» конного кулака.
Дело в том, что преследуя «ожеровцев», русская пехота и кавалерия почти прорвались к ставке Наполеона. Очевидцы свидетельствуют, что, увидев накатывающийся вал атакующих русских, Наполеон восхищенно произнес: «Какая отвага!». Казалось бы, ещё одно мгновение, и французский император будет схвачен в плен или даже убит.
И тут вся кавалерия Мюрата на полном ходу мощным тараном врезалась в ряды русских войск. Начался ожесточенный бой с переменным успехом. Обе стороны понесли в нём тяжелые потери. Тем не менее, именно блестящая конная атака Мюрата спасла положение французской армии.
Обессиленные противники отвели свои потрепанные части на исходные позиции, но артиллерийская дуэль продолжалась.
Левый фланг Беннигсена тем временем продолжал медленно отступать назад – к Кучиттену, оставляя в руках неприятеля опорные пункты своей обороны. Исправил положение меткий огонь 36 орудий мобильных конных батарей под командованием полковника Ермолова и 6—7 тыс. чел. из корпуса Лестока, которые очень вовремя прибыли на подмогу левофланговым войскам Остермана-Толстого. С их помощью на всем левом фланге французы были остановлены и отброшены назад.
Фактически на этом битва при Прейсиш-Эйлау закончилась.
Правда, канонада продолжалась с обеих сторон еще до 21 часа, но обескровленные войска больше не предпринимали новых атак.
Более того, ночью русская армия начала отход. Французы уже не имели сил преследовать ее.
По сути дела противники разошлись «в ничью», но поскольку русские сами покинули поле битвы, то Наполеон резонно посчитал нужным объявить о своей победе.
Французам она обошлась в 4.893 убитых, 23.598 раненых и 1.152 пленных (5 знамён было потеряно) – всего: 29.643 человек. А вот данные о русских потерях не столь конкретны: 15 – 20 тыс. убитых и раненых, 3 тыс. пленных, т.е. всего – от 18 до 23 тыс. чел. Рассказывали, что опоздавший на поле битвы маршал Ней, глядя на десятки тысяч убитых и раненых, воскликнул: «Что за бойня, и без всякой пользы!»
Наполеон простоял на поле битвы целых 10 дней. Затем он начал отступление в противоположном направлении. Казаки, бросившись в погоню, отбили и захватили в плен 2 тыс. раненых Великой армии.
Более трёх месяцев понадобилось армиям противоборствующих сторон, чтобы прийти в себя после такого крупномасштабного, но бессмысленного сражения, не принёсшего ни одной из сторон ожидаемой решительной победы, хотя с обеих сторон было пролито «море» крови.
…Между прочим, участие в первой «ничейной» битве с самим Бонапартом (правда, многоопытный царедворец Беннигсен рапортовал царю о битве при Эйлау как о своей победе;спустя пять после бородинской «мясорубки» точно так же поступит знаменитый «дворский» генерал М. И. Кутузов!) было отмечено выдачей армии многочисленных наград. Практически сразу после того, как известие о сражении пришло в Санкт-Петербург, был учреждён знак отличия военного ордена, предназначенный для нижних чинов армии. А уже 31 августа 1807 г. специально для награждения офицеров, участвовавших в той памятной битве, был выпущен крест «За победу при Прейсиш-Эйлау». 18 офицеров получили орд. Св. Георгия III-го класса, а 33 офицера – орд. Св. Георгия IV-го класса, некоторых наградили орд. Св. Владимира. И наконец, сам «триумфатор» генерал от кавалерии Леонтий Леонтьевич Беннигсен получил от расщедрившегося царя наипрестижнейший орд. Св. Андрея Первозванного и пожизненную пенсию в 12 тыс. рублей – по тем временам огромные деньги…
Пока противники «элегантно вальсировали и крепко бодались» в заснеженных Польше и восточной Пруссии в январе 1807 г. Штральзунд и остров Рюген оказались заняты 15 тыс. шведских войск под командованием генерала Эссена, за которыми наблюдал малочисленный французский корпус маршала Мортье. 18 января, переправившись через реку Пеена, Мортье опрокинул шведские авангарды у Грейфсвальде, Штефенгагаена и Элленгорста и осадил Штральзунд.
Вылазки гарнизона, предпринятые в конце января и начале марта были отбиты с большим уроном. Но 17 марта Мортье был вынужден с 1-й дивизией своего корпуса отправиться на осаду Кольберга, а под Штральзундом осталась лишь дивизия Гранжана. Воспользовавшись этим, шведы превосходящими силами напали на неё и оттеснили за реку Пеену.
Вторично в кампанию того года французы появятся перед Штральзундом уже в июле. Город обложат дивизии Луазона, Буде и Молитора. В ночь на 4 августа начнутся траншейные работы и обстрел города. 8 августа шведские войска ретируются на остров Рюген и жители Штральзунда откроют ворота. Французам достанутся 500 орудий и множество всевозможных запасов. 12 августа генералы Фрерон и Рейль приступом возьмут оставшиеся шведские укрепления – Старый форт и укреплённый о-в Денхольм.
19 марта 1807 г. началась осада X-м корпусом маршала Лефевра прусского города Данциг с 60 тыс. населения, затянувшаяся на три с лишним месяца.
Этот укреплённый порт в устье реки Висла занимал важное стратегическое положение. Если бы французы продолжили наступать на восток, то он оказался бы в тылу их левого фланга, и там могли бы спокойно высадиться войска для действий против французов. Причем, атаковать Данциг было можно только с запада, так как с севера он был прикрыт Вислой, а с юга и востока – болотами. Помимо своей стратегической значимости он был интересен для французских войск и своими запасами пороха, зерна и «всем прочим», столь необходимых для дальнейшей кампании на востоке. Гарнизон Данцига насчитывал примерно 11 тыс. чел. и 300 орудий под командованием фельдмаршала фон Калькройта.
Х-й корпус Лефевра состоял из двух польских дивизий под командованием генерала Яна Домбровского, саксонского корпуса, воинского контингента из Бадена, двух итальянских дивизий, и ок. 10 тыс. чел. собственно французских войск – всего ок. 27 тыс. чел. и 3 тыс. лошадей.
В помощь солдатам Лефевра был придан генерал Шасслу-Лоба, командовавший сапёрами, и Бастон де Ларибуазьер, командовавший артиллерией. Оба считались одними из лучших по своей специальности во всей Великой армии. Начальником штаба был генерал Друо, тоже очень толковый и разностороннеодаренный военачальник, в частности, один из «гуру» наполеоновской артиллерии.
…Кстати сказать, в ту пору в Великой армии их было сразу несколько: Сорбье, Сенармон, Фуше де Карей, д`Антуар и др. – выдающихся «фейерверк-мейстеров» по определению, несших от их умело организованного огня серьезные потери, противников…
20 марта, выполняя приказ Наполеона о блокаде Данцига, французский генерал Жан-Адам Шрамм (1760—1826) вывел 2 тыс. солдат на северный берег Вислы за форт Вайхсельмюнде, заняв позиции прямо к северу от города. 2 апреля земля оттаяла достаточно для того, чтобы можно было начать земляные осадные работы. 8 апреля была начата вторая траншея, завершённая 15 апреля, а к 25 апреля была закончена третья траншея. После того, как 11 апреля Вандам взял крепость Швейдниц в Силезии, оттуда к Данцигу были отправлены большие осадные орудия, прибывшие 21 апреля.
23 марта французская артиллерия начала обстрел города. Между 10 и 15 мая русское командование предприняло попытку доставить в город подкрепления в количестве 8 тыс. чел. под командованием отличившегося в полевых сражениях этой военной кампании генерала Н. М. Каменского 2-го.
…Кстати, привечаемого самим «неистовым стариком Souvaroff», ласково-уважительно прозвавшего Николая Михайловича за отличие при штурме Чертова моста в Альпах «Чертовым генералом»! И это при том, что старик был очень скуп на похвалу «коллегам по ремеслу» в высоких чинах. Тем более, что Николай был сыном его заклятого антагониста, которым у Александра Васильевича были очень большие «тёрки» со времен Козлужди, т.е. свыше 30 лет назад! Так бывает: Суворов – военный талант ставил превыше всего, если он (чужое дарование), конечно, не грозил Его Собственной СлавеПервого Полководца Его Времени – «Времени Незабвенного! Времени Славы и Восторга»!..
Подкрепления шли на 57 транспортных судах под защитой английского шлюпа «Фэлкон» и шведского линейного корабля. Из-за опоздания шведского корабля, на борту которого было 1.200 солдат, Каменский вынужден был задержаться, что дало Лефевру время для укрепления своих позиций. Попытка русских прорываться к городу была отбита, причем, если их союзники англичане говорили, что эта неудача обошлась русским потерей 1.600 солдат и 46 офицеров, то французы и вовсе утверждали о 3 тыс. чел. Попытка британского 18-пушечного корвета «Даунтлесс» доставить по реке 150 баррелей пороха также провалилась: корабль сел на мель и был взят на абордаж французскими гренадерами.
После срыва всех этих неуклюжих попыток деблокировать Данциг французы продолжили осадные работы. 21 мая прибыл корпус Мортье, что сделало возможным штурм Гагельсберга. Понимая что город ему не удержать, фон Калькройт разумно предложил Лефевру переговоры, потребовав те же условия капитуляции, что пруссаки предоставили французам много лет назад после осады Майнца в 1793 г. Поскольку Наполеон заранее был на это согласен, то условия были приняты. 24 мая 1807 г. Данциг сдался и гарнизон покинул его со всеми военными почестями – с развевающимися знамёнами и под барабанный бой.
Почему условия оказались столь мягкими?
Все очень просто: Бонапарт стремился завершить осаду до наступления лета, чтобы к началу летней полевой кампании против Беннигсена устранить угрозу своему тылу и перебросить войска на другие участки.
Наполеон приказал осадить близлежащий форт Вайхсельмюнде. Поскольку генерал Каменский предпочел ретировался со своими войсками, то и гарнизон не стал сопротивляться и сдался. Если Наполеону «взятие» Данцига обошлось примерно в 400 солдат, то данцигский гарнизон «отделался» гораздо дороже: ок. 11 тыс. чел.
Во второй половине мая к русской армии, все еще пребывавшей на зимних квартирах, наконец-то стало поступать в нужном количестве продовольствие, что было столь необходимо для дальнейшего эффективного ведения войны с Наполеоном. Общая ее численность стала оцениваться в 125 тыс. чел., в том числе, 8 тыс. казаков и 20 тыс. чел. в отдельно стоящим корпусе Н. Тучкова 1-го в Польше.
Правда, Великая армия, несмотря на серьезные эйлаусские потери, была еще больше, насчитывая до 150 тыс. человек. С самого февраля по распоряжению Наполеона она была расквартирована за рекой Пассаргой: 27-тысячный корпус Бернадота – на левом фланге, корпус Сульта – в центре у Либштата. Гвардия, резервная кавалерия и корпус Даву – у Гогенштейна и Остероде. А вот 20-тысячный корпус маршала Нея был сильно выдвинут к Гуттштадту.
Примечательно, что русские войска зимовали на северо-востоке от корпуса Нея. Две дивизии Дохтурова находились у Вормдита, две дивизии Остен-Сакена и кавалерия Уварова под общим командованием первого, а также две пехотные дивизии и кавалерия князя Д. Б. Голицына располагались у Аренсдорфа на северо-западе от Гуттштадта. Авангард во главе с П. И. Багратионом базировался в Лаунау, севернее позиций Нея. А вот корпус князя Алексея И. Горчакова 1-го и казаки Платова стояли южнее за рекой Алле.
Серьезно подготовившись к возобновлению военной кампании, до того развивавшейся весьма успешно (по сути дела дотоле столь победоносному Бонапарту так ни разу и не проиграли!), Беннигсен принял решение атаковать отдалённый от основных сил Великой армии корпус Нея у Гуттштадта. По его плану Дохтурову полагалось перерезать сообщение корпусов Сульта и Нея у Ломитена, авангарду ударить во фронт французских сил, а корпусам Горчакова 1-го и Остен-Сакена напасть на фланг и в тыл неприятеля. В тоже время прусскому корпусу Лестока было приказано демонстративно отвлекать войска Бернадота, а казачьим соединениям переправиться через р. Алле и преследовать отступающие части французов сколько это будет возможно.
23 мая (5 июня) основная диспозиция была донесена до сведений командиров и армия приготовилась к активным боевым действиям против уже не столь страшного как ранее, уже не всегда исключительно победоносного, «корсиканского чудовища».
В 3 ч. утра 24 мая части Дохтурова двинулись к Ломитену.
Так началась целая серия жарких боев, протекавших с переменным успехом – с 23 мая (4 июня по старому стилю) по 28 мая (9 июня). В исторической литературе ее принято называть единообразно – «сражениепри Гуттштадте», поскольку все они протекали в районе города Гуттштадта.
В лесу, перед селением Ломитен, завязался бой с авангардом корпуса Сульта. Маршал, помня распоряжение императора не пересекать р. Пассаргу, не решился атаковать всеми силами и, отбросив врага, вернулся на исходные позиции, охраняя переправу. Однако и Дохтуров смог выполнить данный ему приказ: он расположился на занятых позициях у Ломитена, т.е. перерезал коммуникации неприятеля.
Уже утром в бой ринулся авангард князя Багратиона. Пройдя стремительным темпом Гронау, он занял Альткирх (Альтенкирхен) по дороге на Гуттштадт. Тут он стал ожидать подхода сил Горчакова 1-го и Остен-Сакена, поскольку опасался, что если он сам в одиночку ударит по позициям Нея, то может понудить врага отступить и, тем самым, позволит ему ускользнуть из готовящихся сомкнуться русских «клещей». Проще говоря, Багратион старался не спугнуть неприятеля с позиции, окружаемой остальными частями русской армии.
Однако французы не стали ждать пока «капкан» захлопнется. Ней посчитал, что багратионовский авангард – всего лишь усиленная разведка противника, не влекущая за собой никакой активности в его сторону. Он решил отбросить Багратиона на исходные позиции, атаковав Альткирх всеми силами. Завязался тяжёлый бой, в котором главной задачей русских было дождаться подхода подкреплений. Но французский маршал наседал так сильно, что мог с минуты на минуту опрокинуть русский авангард. Багратион, заметив неподалёку долгожданные полки Остен-Сакена и кавалерию Уварова, перешёл в контратаку на вражеский корпус. Теснимый с севера, он начал отступать по дороге на Деппен, мужественно отбивая атаки противника на всём пути отступления.
К концу дня после тяжелого шестичасового боя Ней все же остановил свои войска в р-не Анкендорфа и начал переправлять тяжести и обозы на левый берег р. Пассарги, куда, планировался к 27 мая подход всех соединений Великой армии.
Так, план русского командования по окружению и разгрому корпуса Нея провалился. Дело было в несвоевременном прибытии колонн Горчакова и Остен-Сакена. Они подошли на указанные позиции гораздо позже запланированного времени, а именно тогда, когда части Багратиона уже отбросили противника от Гуттштадта. Казаки Платова также опоздали с занятием Бергфрида, однако всю вину за провал операции главнокомандующий возложил именно на Остен-Сакена, дело которого позже отдали в военный трибунал.
Русская армия заночевала у Глогау и Квеца.
В ночь с 24 на 25 мая Беннигсен упустил блестящую возможность отрезать Нея от Деппенских переправ. Он не воспользовался тем, что маршал ночевал прямо перед основными силами врага. Отчаянная (эдакая «безбашенная») смелость всегда выделяла этого маршала даже среди других наполеоновских маршалов-храбрецов (Мюрата с Ланном и Удино, например), но в этой ситуации она могла выйти ему и его солдатам боком.
И вот, в 3 часа утра 25 мая, Багратион внезапно атаковал неприятеля у Анкендорфа. Но его позиция оказалась очень крепкой: левый фланг был прикрыт болотами, а правый – упирался в лесистые горы. И все же, после непродолжительного боя корпус Нея снова оказался разбит авангардом русской армии и окончательно отошёл за р. Пассарга. За два дня боя маршал потерял только пленными 1,5—3 тыс. солдат (в том числе генерала Роге), 2 орудия и свой личный экипаж впридачу к обозам.
Только узнав о нападении русских войск на отдельно стоящий корпус Нея, Наполеон начал собирать все свои силы (порядка 123 тыс. солдат?) в единый кулак у Заальфельда.
26 мая генерал Беннигсен узнал об этом и стал прикидывать, где бы ему получше обустроить свои позиции для вполне возможного генерального сражения в возобновившейся кампании. Он колебался в выборе между позициями – у Гуттштадта или у Гейльсберга, но, все же, стал возводить укрепления у первого пункта и расположил свои войска поблизости.
Уже утром 27 мая, отдав последние распоряжения к бою, Наполеон приказал войскам переправляться через р. Пассаргу сразу в двух местах – у Деппена и у Эльдитена. Тем временем, приехавший на позиции Багратиона главнокомандующий Беннигсен вновь проявил нерешительность, приказав сдерживать французов у Деппена, где должны были переправляться главные силы французской армии, но не ввязываться с ними в решительный бой. Корпус маршала Сульта согласно приказу Наполеона перешёл реку в назначенный срок у Эльдитена и с ходу атаковал селение Клейненфельд, где находились войска под началом Н. Н. Раевского, проявившего тогда выдающийся героизм. Весь день за селение гремел тяжелейший бой. В одной из атак Раевскому удалось окружить и истребить целую пехотную бригаду французов. За неосмотрительные действия поплатился и её командир, генерал Гюйо. Но даже этого подвига было мало, чтобы сдержать натиск всего корпуса Сульта, атакующего очень энергично при значительном численном превосходстве. Обстановка обострилась до того, что в ситуацию пришлось вмешаться самому Багратиону.
В связи с началом переправы французов у Деппена, он отвел свои силы к Анкендорфу и приказал Раевскому отойти на одну с ним высоту к Вольфсдорфу. Только вечером последний смог выполнить приказ своего командующего, выведя свою бригаду к указанному ему месту. Оказавшись поблизости друг от друга и в условиях хорошей связи, Раевский и Багратион приготовились к новой схватке, собираясь передислоцироваться потом в расположение основных сил русской армии у Гуттштадта.
Однако ночью Беннигсен приказал авангарду Багратиона сдерживать врага как можно дольше, решив дать неприятелю генеральное сражение, все же, не у Гуттштадта, а у Гейльсберга, куда и стягивал все русские войска (примерно 105 тыс. чел), правда, очень медленно.
28 мая в рамках «Гуттшадтского сражения» произошёл последний бой.
Весь тот день, постоянно наседая, французские силы теснили русских к Гуттштадту. Корпус Сульта атаковал Вольфсдорф. Судя по всему, столь же жарко было и у Анкендорфа. Вражеские силы намного превосходили войска Багратиона. Теснимые со всех сторон многочисленным противником, русские около четырёх часов сдерживали его на фронте протяженностью в 14 км. Близ города кипел ожесточенный бой. Как и при Прейсиш-Эйлау, покрыли себя славой артиллеристы А. П. Ермолова, подпуская врага на дистанцию прямого выстрела в упор. И все же, русским пришлось отступить в Гуттштадт. Жаркий штыковой бой на улицах города в последний раз позволил Багратиону отбросить противника и успеть отойти за р. Алле, после чего мосты через нее были своевременно уничтожены казаками Платова.
По сути дела сражение при Гуттштадте, как и при Колозомбе, Чарново, Голымине, Пултуске и Эйлау (хотя во всех случаях русские отходили с поля боя первыми, что по законам войны той поры считалось признанием поражения), закончилось уже ставшей традиционной для той кампании кровавой «ничьей» и лишь ознаменовало возобновление боевых действий после трёхмесячного перерыва в связи с весенней распутицей.
Главным виновником неудачи русских войск, порой, считают самого Беннигсена, не проявившего большого умения организовать нужное для победы тактическое взаимодействие сил и дважды упустившего отменный шанс разгромить корпус Нея. Медлительность и неопределённость в действиях обрекла русских на тяжёлые арьергардные бои с превосходящим противником во время отхода основных сил к месту будущего генерального сражения весенней кампании. Принято считать, что лишь исключительное мужество и невероятная стойкость русских войск помогли им избежать тогда поражения.
В общем, ни одна из противоборствующих сторон, несмотря на внушительные потери (французы – до 3 тыс. убитых и раненых; русские – несколько больше – 5—7 тыс. убитых, раненых, пленных), так и не выполнила поставленных перед ними задач.
После неудачного нападения Беннигсена на корпус маршала Нея около Гуттштадта 90 (?) -тысячная русская армия отступила на заранее выбранные и укреплённые по приказу Беннигсена позиции перед восточно-прусским городом Гейльсбергом (ныне Лидзбарк-Варминьски в Польше), расположенным на берегу р. Алле. Здесь она была разделена на 2 части – 3 дивизии и царская гвардия на правом берегу, главные силы – на левом, перед Гейльсбергом. Это было связано с тем, что не было понятно, откуда атакует Наполеон. Через реку Алле навели три понтонных моста, что позволяло своевременно усилить любую из двух группировок, если бы она подверглась неприятельскому нападению.
По данным разведки стало известно, что главные силы французов (корпуса Мюрата, Сульта, Нея, Ланна и гвардия) численностью до 50 тыс. наступают по левому берегу реки Алле. Тогда как корпусам Мортье и Даву следовало отрезать русскую армию от Кёнигсберга, бывшего её главной базой снабжения в Восточной Пруссии. После этого можно было обрушиться на нее всеми силами и раздавить численным превосходством.
Утром 29 мая (10 июня) корпус Мюрата с успехом атаковал авангард русской армии (три пехотных полка) под командованием Бороздина. Вскоре Беннигсен направил ему на помощь ещё 3 полка. Кроме того, убедившись, что на правом берегу Алле французов нет, на подкрепление Бороздину был послан Багратион, который и принял на себя командование всем авангардом, после чего наступление Мюрата было остановлено. Он ограничился артиллерийским обстрелом позиций Багратиона, ожидая подхода мощного 30-тысячного корпуса Сульта. Тот вскоре прибыл на поле боя и начал атаку, пытаясь обойти русский авангард с фланга, пока Мюрат связал его фронтальными атаками.
Численно уступая, Багратион не смог сдержать натиск противника и стал отступать. В это время Беннигсен, видя тяжёлое положение своего авангарда, бросил ему на помощь 25 эскадронов кавалерии Уварова.
Начавшаяся кавалерийская рубка был чрезвычайно упорной. Французы несколько раз отбивали пушки у русского авангарда, но каждый раз стремительной контратакой русская конница возвращала захваченную артиллерию. Медленно отступая под непрерывными атаками сразу двух неприятельских корпусов, Багратион постепенно отошёл к укреплённой позиции под Гейльсбергом, где плотный огонь русских батарей заставил врага прекратить атаки. Войска русского авангарда оказались настолько обескровлены жестоким боем, что Беннигсен был вынужден вывести их в резерв, расположив на отдых и перегруппировку в своем тылу.
Удалой кавалерист Мюрат, не проведя тщательной разведки, в 17 часов вечера бросил свой уже изрядно потрепанный в кровавом противостоянии с авангардом Багратиона корпус на сильно укреплённые гейльсбергские позиции русской армии и был отбит с очень тяжелыми потерями. В тоже время, Беннигсен, всерьез обеспокоенный очередной убийственной атакой Мюрата, перевёл на правый берег Алле практически всю свою армию, оставив на левом берегу только царскую гвардию.
Надо признать, что этот ретирадный по своей сути маневр он проделал очень своевременно. Дело в том, что к этому времени на поле сражения появился наконец Наполеон собственной персоной, причем, со свежим корпусом Ланна и со всей своей гвардией. Получив такое подкрепление, французы опять пошли в атаку.
Сразу после сильной артподготовки Наполеон нанёс мощный удар по центру русской армии. Под ответным убийственным огнём русских орудий французская пехота бросилась на гейльсбергский редут №2. В это ответственнейший момент с Беннигсеном случился внезапный приступ столь сильных желудочных колик, что он даже на какое-то время потерял сознание, и командование войсками принял один из двух братьев, суворовских племянников, Горчаковых – Алексей И. Горчаков 1-й. Атака французов была отбита. Но Наполеон вскоре повторил её, усилив силы штурмующих гвардейскими частями. С такой серьезной поддержкой противник ворвался в редут и захватил его. Однако Н. М. Каменский 2-й очень вовремя яростно контратаковал и вернул потерянные укрепления. Не удовлетворившись этим успехом, Николай Михайлович со своими воодушевлёнными удачей солдатами преследовал отступающих французов, пока не столкнулся с их свежими войсками и не был вынужден отойти обратно в редут.
Но и эта неудача не обескуражила Наполеона: он просто-напросто перенес направление главного удара. Корпус Ланна обрушился на правое крыло русской армии, но контратаки обороняющихся и здесь оказались столь успешны, что все попытки французов потеснить их были сорваны. Наполеон прекратил наступление и ограничился массированным артиллерийским обстрелом позиций Беннигсена.
Уже ночью – в 22 часа – к французам подошёл свежий корпус Нея, и Бонапарт (как бы на ночь глядя) решил ещё раз попытаться прорвать оборону русских. Массы французов снова бросились на центр их позиции. Но метким огнём артиллерии, в первую очередь, одного из героев Эйлау и Гуттштадта А. П. Ермолова, были отбиты с огромными для себя потерями.
Только ок. 11 вечера вражеские атаки наконец прекратились.
Кровопролитная битва закончилась.
Французы потеряли 12.600 солдат (1.398 убитых, 10.359 раненых и 864 пленных), в том числе, корпус Сульта лишился сразу 6.600 чел. Русским гейльсбергское противостояние стоило на порядок меньше: ок. 8 тыс. человек (правда, из них 2 тыс. убитых).
Казалось бы, в сугубо тактическом плане это сражние можно было бы считать в какой-то мере даже победой русских. Ведь Беннигсен умело отразил все настойчивые попытки сначала маршалов Наполеона, а затем и его самого сбить русских с укрепленной гейльсбергской позиции, но вскоре все очень «круто» изменилось…
После кровопролитной битвы при Гейльсберге 10 июня 1807 г., в которой русская армия отбила все атаки французов, Наполеон решил заставить неприятеля покинуть эту укрепленную позицию фланговым маршем на Кенигсберг. Он предвидел, что Беннигсену придется спасать столицу Пруссии. Вот обе армии и двинулись к Кенигсбергу, правда, по разным берегам реки Алле (ныне Лава).
1 (13) июня, дойдя до лежашего в 43 км к юго-востоку от Кёнигсберга, города Фридланда (ныне город Правдинск Калининградской области), находящегося на реке и имеющего стратегическое значение, русский авангард обнаружил, что три полка французской кавалерии уже занимают этот город. Действия авангарда заставили французов покинуть его и выстроиться в боевой порядок на окраине. Эти три полка принадлежали к корпусу маршала Ланна, который принял бой в надежде задержать русских и втянуть их в сражение. Постепенно большая часть русской армии перешла на левый берег и построилась перед французами. Была явная возможность для разгрома корпуса Ланна, пока он был в одиночестве, но Беннигсен в этот день был болен и нераспорядителен, по крайней мере, так, порой (или даже зачастую!), утверждается в отечественной литературе.
В результате даже на следующий день, 2 (14) июня – когда Наполеон уже знал положение русских и спешил к месту сражения, армия Беннигсена весь день ограничивалась лишь вялой артиллерийской дуэлью и отдельными стычками с французами – время для разгрома Ланна было окончательно упущено.
В 3 часа утра 2 (14) июня из всей французской армии (а это ок. 80? тыс. чел.) на поле боя находился только корпус маршала Ланна, насчитывавший 12 тыс. человек, к нему со стороны Эйлау подходили подкрепления, оттуда же ждали самого Наполеона с основной частью армии. На французскую сторону реки Алле перешли 10 тыс. русских солдат и к удерживаемому ими плацдарму подходили все новые и новые русские части.
Если к 9 часам утра французские силы смогли увеличиться только до 17 тыс. человек, то русских – до 45 тыс. Несмотря на такое подавляющее численное превосходство Беннигсен предпочитал ограничиваться лишь артиллерийской дуэлью и отдельными незначительными стычками.
Вскоре после полудня на поле битвы прибыл сам Наполеон вместе со своим штабом и принял командование от Ланна. Острым взором матерого полководца он мгновенно оценил ситуацию.
46-тысячная русская армия была развёрнута вдоль четырёхмильной линии по обеим сторонам Алле и построена в виде дуги, огибавшей город Фридланд от Каршау, Генрихсдорфа (ныне пос. Киселевка, пос. Ровное) до Сортлака (ныне поселок юго-западнее Правдинска). Позиции русских были разделены ручьём Мюлен-Флюс/Мюленфлис (ныне Правда), протекавшем по дну глубокого оврага. Левым флангом русских войск командовал Багратион, правым – Алексей И. Горчаков 1-й. Еще 20 тыс. человек с тяжелой артиллерией и 20 эскадронами (из имевшихся на тот момент у Беннигсена под рукой – по некоторым данным – примерно 65 тыс. со 120 орудиями) остались в резерве на правом берегу реки у Алленау (пос. Поречье).
Положение русских осложнялось тем, что разделенные рекой Алле, они находились в крайне невыгодном положении. Мало того, что их позицию на левом берегу надвое разделял обрывистый ручей, так еще и несколько легких мостов, наведённых через него, не могли обеспечить эффективного взаимодействия между флангами. Русская артиллерия, расположенная на левом берегу – как покажет практика боя, оказалась, все же, слишком удалена от позиций русской армии на противоположном берегу Алле – что также не способствовало успешной обороне.
Русские офицеры с колокольни собора во Фридланде (ныне православный храм Георгия Победоносца) стали доносить Беннигсену о подходе с запада густых колонн противника, а о прибытии к войскам самого Наполеона можно было судить по приветственным крикам французов, которые явственно слышали русские на передовых позициях. С каждым часом русская армия всё больше и больше оказывалась в ловушке. Только теперь, Беннигсен понял свое крайне опасное положение: армия зажата рекой, а французы уже имеют чуть ли не двукратное (?) преимущество. Принимать генеральное сражение в этой ситуации было самоубийством, но и уйти назад быстро, не потеряв порядок и не понеся заметных потерь, было уже нельзя, вот он и медлил с приказом о ретираде.
Наполеон увидел «детскую» ошибку Беннигсена и решил, что у него достаточно сил, чтобы выиграть решающую битву, разгромить, угодивших в западню, русских и, тем самым, победоносно «закруглить» столь затянувшуюся войну. (Напомним, что с учетом скоротечной прусской кампании 1806 г. его солдаты уже более полугода сражались и погибали во славу… императора Франции Наполеона I Бонапарта и многие из них уже начали весьма неоднозначно высказываться на «предмет особой необходимости» так далеко от Франции защищать ее…суверенные границы!) С деревянного помоста, сооруженного в парке имения Постенен (пос. Передовое), он принялся лично руководить подготовкой к решающей атаке.
К 16 часам дня императорская гвардия и часть I-го корпуса уже были на месте битвы, а к вечеру оказалась в сборе вся чуть ли не 80-тысячная французская армия со 118 пушками и прямо с марша пошла в атаку. Сначала предстояло обрушиться на русский левый фланг под командованием Багратиона.
Ровно в 17:30 тишина, воцарившаяся над полем боя, внезапно разорвалась несколькими частыми залпами французской 20-пушечной батареи. Это был сигнал императора маршалу Нею о начале атаки.
Ней вынырнул из Сорталакского леса, приказал установить на опушке леса батарею в 40 орудий, под ее огневым прикрытием двинулся на русские позиции. Во главе наступавших французских частей шла дивизия генерала Маршана, левее от него – солдаты генерала Биссона, а за ними наступала кавалерия Латур-Мобура. Передовые части Багратиона перед ними отступали, и Маршан слегка отклонился вправо, чтобы загнать беглецов в реку Алле. Видимо, этот манёвр показался Беннигсену удачным моментом для контратаки. Он бросил в атаку казаков и регулярную кавалерию Кологривова для расширения бреши, образовавшейся между двумя французскими дивизиями. Особенно прославили себя русские кавалергарды, лихо врубившиеся в плотные ряды атакующих. У них был свой «должок» за аустрелицкий 1805 год: тогда их «братья по оружию» насмерть бесстрашно схлестнулись с численно превосходящей гвардейской кавалерией Бессьера и немало из них полегло в неравной «кавалерийской карусели». Вот теперь часть пехоты Нея и погибла под их яростными клинками. Однако этот контрудар русских захлебнулся после того как им навстречу выдвинулась кавалерийская дивизия Латур-Мобура. Попав сразу между трёх «огней» (Маршана-Биссона-Мобура), русские кавалеристы в замешательстве повернули назад.
И вновь под прикрытием 40-пушечной батареи французы возобновили наступление.
Однако их встретил организованный фланговый огонь дальнобойных орудий 14-й резервной дивизии русских, поставленной на противоположном восточном берегу Алле. Французы было заколебались, тем более, что Беннигсен бросил на них новый отряд кавалеристов и направил его против левого фланга Биссона.
В этот критический момент, когда французская атака начала уже было захлёбываться, Наполеон в подкрепление дивизиям Нея выдвинул резервный корпус генерала Виктора, головные части которого вёл генерал Дюпон. С помощью кавалеристов Латур-Мобура эта атака французов оказалась успешной: русские эскадроны были отброшены назад к своей пехоте.
Только теперь, Беннигсен отдал приказ об отходе за Алле, как оказалось, запоздалый: выход из боя с атакующим противником «на плечах» – самый сложный вид боя, и не всегда, и не всем, он – «по плечу».
Получив приказ об отступлении, Багратион стал свертывать свои войска в колонны для переправы. Началось отступление русского левого фланга к мостам, казавшееся французом паникой и воодушевлявшее их. Колонны русских войск растянулись по дороге во Фридланд. Левый фланг русской армии стал прекрасной мишенью для французских артиллеристов, среди которых особо отличился бригадир Сенармон. Он передвинул свою батарею ближе к русским и ядрами и гранатами стал обстреливать отходившие колонны. Причём, расстояние от его пушек до русских, в конце концов, сократилось чуть ли не до 60 шагов (!) и французская картечь с каждым залпом просто выкашивала их пехотные ряды.
Остатки русской кавалерии попытались было помочь своим пехотинцам, но только разделили их печальную судьбу – картечь разметала в стороны людей и коней. Через некоторое время сенармоновцы пододвинули батарею еще ближе и открыли огонь уже по переправам.
Поскольку, в первую очередь, Багратион уводил артиллерию (в который уже раз напомним, что ее потеря в русской армии каралась очень сурово!), поэтому его арьергард оказался в положении смертников – ему под убийственным огнём французской артиллерии Сенармона любой ценой необходимо было сдержать наступление превосходящих сил противника. Видя приближение вражеской пехоты, находившиеся в арьергарде лейб-гвардии Измайловский и Павловский гренадерские полки неоднократно ходили в штыки, но были вынуждены отступить под огнем превосходящих сил противника, понеся очень тяжелые потери.
…Между прочим, в этих героических попытках сдержать натиск французов погиб командир Павловского полка генерал Николай Мазовский. Раненный в руку и ногу, не имея возможности сидеть на коне, он велел нести себя двум гренадерам перед полком и в последний раз повёл его в штыки. Воодушевленные героизмом своего командира гренадеры бросились вперед. И тут картечная пуля поразила Мазовского насмерть. Говорили, что последними его словами были: «Друзья, не робейта!» Впрочем, по другой версии раненного Мазовского, его гренадеры, все же, смогли отнести в город и оставить в доме №25 по улице Мелештрассе. И уже после занятия Фридланда французами они закололи генерала и других раненых штыками, а тела их выбросили на улицы города.. A la guerre comme a la guerre, не так ли…
А картечь Сенармона все рвала и рвала ряды гвардейцев: павловцев и измайловцев. И вражья сила с восторженным ревом «Да здравствует, Император!» все ломила и ломила. Даже князь Багратион, обнажив шпагу, что делал он очень редко, для воодушевления отступающих войск, не мог ничего поделать. Все отчаянные попытки Беннигсена хоть как-то помочь отступающему Багратиону вели лишь к гибели все новых и новых тысяч русских солдат на подступах к Алле, а затем и в его водах.
В этот момент битвы отличился генерал Дюпон. Со своей дивизией он нанёс разящий удар в стык русских флангов, т.е. в русский центр, а затем яростно атаковал уже измотанные и обескровленные арьергардными боями полки русской гвардии.
…Между прочим, рассказывали, что Наполеон высоко оценит эти энергичные и умелые действия генерала Дюпона и по слухам даже «поставит» его следующим в очереди на маршальство (за Фридланд его получит начальник Дюпона генерал Виктор), но судьба распорядится иначе. Впрочем, об это чуть позже…
Вся дорога во Фридланд покрылась телами русских и французов. Огрызаясь штыковыми контратаками и сдерживая напор противника, Багратион смог вывести остатки своих войск к мостам и переправить их с левого берега – на правый берег – понеся при этом ужасные потери. Последними уходили лейб-гвардейцы павловцы – обеспечивая переправу, с неимоверным упорством защищались оставшиеся в живых гренадеры русского царя.
Только к 20 часам Ней вошел-таки в город, захватил замок Фридланд, но овладеть левофланговыми переправами не сумел, так как русские, отступая, успели подожечь их.
Так трагически закончилась битва на левом фланге русских…