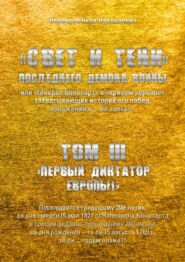скачать книгу бесплатно
Вместе с тем, среди последствий Йено-Ауэрштедского разгрома пруссаков весьма важен один стратегический момент!
Наполеон совершил три ошибки:
– он не наказал Бернадотта за не поддержку Даву;
– он всего лишь пожурил Нея за безрассудство, расколовшее Великую армию в ходе сражения надвое;
– и он возомнил, что он непобедим!
Трудно сказать, что из этого страшнее всего!Но последствия этих ошибок начнут сказываться очень скоро…
Глава 5. Прямая дорога на Берлин!
Ожидая известий от Даву и Бернадотта, Наполеон долго задерживал приказ Мюрату о преследовании врага. Первые 12 часов после своего разгрома пруссаки не испытывали прямого воздействия со стороны вражеской кавалерии. И, тем не менее, смешение двух отступающих прусских армий на одной дороге довершило катастрофу дня.
А потом их нагнали-таки «гончие псы» Последнего Демона Войны» – кавалеристы Мюрата! Разгоряченные преследованием, они беспощадно рубили всех подряд, не внемля крикам о пощаде, не беря в плен сдающихся. Сотни обезумевших людей погибли тогда порубленными либо под копытами французской конницы. (Повторимся: спустя годы пруссаки припомнят французам их жестокость и точно так же будут люто рубить направо и налево разгромленных французов в битве при Ватерлоо! «Что посеешь – то и пожнешь!» или, «на войне – как на войне»…)
Во главе погони – «на острие копья» – галопом летел безоружный Мюрат, помахивая золотым маршальским жезлом. Он вел себя как расшалившийся семнадцатилетний юнец. Но даже враги оказывались зачарованы его фактурной рисовкой и бесстыдной театральностью. Когда надо было без отдыха гнать отступающего врага, Мюрату не было равных. Усталость не брала его. Почти всю Пруссию он пересечет вскачь. Прослышавший о его проделках Наполеон, усмехнулся: «Во главе двадцати человек на поле битвы он стоит целого полка!» И действительно неистовый Мюрат, нахлестывая своего горячего арабского скакуна, первым влетел в Веймар.
…Между прочим, всячески стремясь хоть как-то сгладить негативное впечатление от своего «неджентльменского» поведения под Ауэрштедтом, впавший в немилость Бернадотт, тоже лез из кожи вон, участвуя наряду с кавалерией Мюрата в преследовании остатков разбитых прусских армий. Именно в этот момент Жан-Батист-Жюль проявил столь присущие ему в нужный для него момент энергию и решительность!!!
14 октября 1806 года стал черным днем Пруссии!
Прусская армия, на которую возлагалось столько надежд и которая должна была «шапками закидать французов» перестала существовать в один день. Уже через неделю после начала войны, три прусские армии Гогенлоэ, герцога Брауншвейгского и Рюхеля потеряли не менее 38 тыс. убитыми, ранеными и пленными, 235 орудий, три с лишним сотни знамен, ее командный состав лишился 20 генералов. Погибли принц Людвиг, герцог Брауншвейгский и многие другие военачальники. Армия была неспособна продолжать борьбу. Куда девались недавняя заносчивость и кичливость! «Шапко-закидательство», «ура-патриотизм» и бахвальство в мгновение ока сменились панической покорностью! Полки, крепости сдавались без боя при виде первого французского разъезда.
То был разгром, какого еще не знала военная история!
Уже 15 октября прусский король прислал своего представителя к Наполеону с просьбой о перемирии, но получил ехидно-саркастический ответ, что «надобно сперва пожать плоды победы», а мир будет подписан только в Берлине.
С тех пор, когда заходила речь о пруссаках, Наполеон презрительно цедил сквозь зубы: «У них много чего в штанах и мало чего под шляпами». Столь же откровенно он выразил свое презрение и к воинственной прусской королеве Луизе. При встрече он мимоходом бросил ей: «Женщина, возвращайся к своей прялке и хозяйству». Когда много позже, его однажды спросили, почему он не привез в изгнание на о-в Святая Елена доставшуюся ему среди военных трофеев знаменитую шпагу выдающего прусского короля-полководца XVIII века Фридриха II Великого, Наполеон усмехнулся: «У меня была своя!»
Прямая дорога на Берлин была открыта…
Близь прусской столицы Наполеон остановился в знаменитом дворце-замке Сан-Суси, где когда-то обитал и был похоронен Фридрих II Великий. Французский император посетил комнаты короля, подержал в руках его подзорную трубу, перелистал несколько книг с пометками короля.
…«Я не мог отделаться от какого-то трудно передаваемого чувства – писал он позднее. – Семь лет он (Фридрих Великий) сопротивлялся половине всей Европы, а за 15 дней его монархия пала перед моими орлами: таков ход дел в зависимости от того, какие обстоятельства и какие люди управляют судьбами народов. Я нашел в его кабинете пюпитр для нот и другой пюпитр, на котором лежало „Военное искусство“ Пюисегюра. Книга была открыта на главе, озаглавленной „О ношении шпаги“. …Я чрезвычайно удивился, найдя там также нагрудный знак, шпагу, портупею и большую ленту его орденов, которые он носил в Семилетнюю войну. Подобные трофеи стоили 100 знамен, а то, что о них забыли, свидетельствовало о хаосе и отступлении, охвативших всю Пруссию при слухах о катастрофе, которая постигла их армию. Я их тотчас же послал в Париж для передачи в „Дом инвалидов“. Многие из этих старых солдат были современниками позорного поражения при Россбахе. Я гордился тем, что посылал им доказательства своего блистательного возмездия»…
Затем Бонапарт посетил могилу Фридриха Великого. Отделившись от своей свиты, он несколько минут провел в молчании у могилы великого полководца прошлого. Наполеон не скрывал своего волнения, он преклонялся перед гением Фридриха Великого. «Шляпы долой, господа! Будь жив Старина Фриц, нас бы здесь не было!!!»…
27 октября в побежденный Берлин торжественно вошла французская армия во главе с императором в простой поношенной серой шинели гвардейских конных егерей и видавшей виды треуголке (на самом деле двууголке) посреди разряженных как павлины и фазаны маршалата и генералитета. Первыми шли в строгом порядке, с развернутыми знаменами полки императорской гвардии – конные и пешие. За ними следовал особо отличившийся в эту кампанию III-й корпус Даву, потом – все остальные. У Бранденбургских ворот императору поднесли ключи от города. Когда к его ногам маршалы бросили 340 знамен Пруссии, то желчный Даву ехидно изрек: «Разве это знамена? Теперь это тряпки…»
Вступив в столицу Пруссии, Наполеон очутился на площади, украшенной бюстом Фридриха II. Увидев его, Наполеон галопом описал полукруг, отсалютовал своей шпагой и снял шляпу перед бюстом. То же, вслед, повторила и вся его свита, а затем, мимо бюста короля, с развернутыми знаменами, салютуя, прошли полки французской гвардии. Так победитель отдал почести королю, внучатый племянник которого был им только что повержен и лишен армии, слывшей лучшей в Европе… XVIII века.
А в ту пору на дворе уже стоял XIX век!
…Между прочим, рассказывали, что Наполеон не отказал себе в удовольствии унизить хвастливых прусских гвардейских офицеров, нагло точивших свои сабли перед войной с Францией о каменные ступени ее посольства. Проведенные по центральным улицам Берлина остатки плененных офицеров-гвардейцев, специально остановили перед ступенями французского посольства и вежливо предложили некогда кичливым и заносчивым молодчикам встать на колени перед имперским флагом, развивавшимся над посольством победоносной Франции. Прусских гвардейцев в Берлине не любили за их праздность и высокомерие и никто из берлинцев особо им не сочувствовал в минуты их унижения. Впрочем, современные историки весьма сомневаются в нюансах этой истории, более смахивающей на исторический анекдот… Cтоль присущий, не только «наполеониане» и другим эпохальным событиям и ключевым личностям в истории…
В прусской армии бахвальство сменилось паникой и растерянностью. Жаждавшие реабилитироваться (норовистый Бернадотт – за неявку под Ауэрштадтом, удалой гусар Ней – за промах в начале Йенского сражения), вспомнивший свою лихую юность Ланн, и неутомимый Мюрат с драгунами Клейна и гусарами Лассаля безостановочно (проделывая по 60 км в день!) преследовали ускользавшие от них остатки пруссаков во главе с упрямым Блюхером! Наполеон приказал взять его в плен любой ценой!
Преследование пруссаков напоминало охоту… на дичь! Только… на двух ногах!
7 ноября упрямый старый гусар-рубака Блюхер по прозвищу «Старина-Вперед», его начальник штаба генерал Шарнхорст и герцог Карл-Август Веймарский (1758—1828) с 22 тыс. солдат – остатками некогда огромной прусской армии – хоть и после упорного боя, но, все же, капитулировали под датским Любеком перед 12 тысячным I-ым корпусом Бернадотта, частично искупившего свои грехи перед коллегами безжалостным преследованием пруссаков, собиравшихся в порту нейтрального Любека погрузиться на корабли и плыть в Англию.
…Кстати, Наполеон высоко оценил действия Блюхера в ходе войны с Пруссией в 1806 г., заметив: «Этот беглец удерживал почти половину моей армии». В 1812 г. Блюхер своими реваншистскими заявлениями и «телодвижениями» так надоел Наполеону, что по настоянию французского императора король отстранил его от службы в армии. Позднее, во время последних кампаний Наполеона в 1813—1814 гг., он еще раз похвалит люто ненавидевшего его старика Блюхера: «Этот старый черт причинял мне много хлопот. Я разбивал его вечером – а утром он уже был тут как тут. Если я громил его утром, он собирал армию и давал новый бой еще до вечера». Парадоксально, но спустя годы именно не отличавшемуся особыми военными дарованиями Блюхеру – прозванному в Пруссии за несгибаемый характер бойца «Отцом Отечества» – доведется поставить точку в фантастической эпопее Наполеона под Ватерлоо и в 72 года заслужить лавры национального героя…
ГЛАВА 6. «НАПОЛЕОН ДУНУЛ НА ПРУССИЮ, И ПРУССИИ НЕ СТАЛО».
Еще до Любека, 17 октября у города Галле, расположенного примерно в 30 км к северо-западу от Лейпцига на реке Зале, головная дивизия Пьера Дюпона де л’Этан из I-го армейского корпуса «рвавшего и метавшего» Бернадотта (20.594 чел. при 34 орудиях) после 17-часового марша сразилась с численно уступавшим (16 тыс. чел. при 38 орудиях) прусским резервным корпусом Евгения Фридриха (Фридриха-Евгения?) герцога Вюртембергского, двигавшегося из далека для прикрытия отступления уже не существующей армии.
Французы разбили своих противников в пух и прах, вынудив их отступить на северо-восток в сторону Дессау. Пруссаки потеряли в этом бою почти половину своих войск (5 тыс. убитыми, раненными и пленными, 4 знамени и 11 орудий). Дюпону победа обошлась в 800 убитых и раненых. Так была обращена в бегство последняя еще боеспособная часть совсем недавно огромной (175-180-тысячной) прусской армии.
26 октября у прусской деревеньки Альтенцаун неподалеку от реки Эльбы арьергард (2.700 пехоты) прусского корпуса генерала Рюхеля под командой полковника Йорка вступил в бой с частями маршала Сульта, прикрывая переход через Эльбу войск герцога Карла Августа Саксен-Веймарского. Ок. 4 часов от Тангермюнде подошёл Сульт с бригадами лёгкой кавалерии генералов Маргарона и Гюйо. Видя, что путь вперёд заблокирован, он послал два полка в обход пруссаков и один полк на Альтенцаун. Несмотря на несколько яростных атак, французской кавалерии не удалось прорвать прусскую оборону пока не подошла 1-я пехотная дивизия генерала Сент-Иллера, после чего Альтенцаун был взят, а пруссаки отступили.
9 ноября, первоклассная крепость Магдебург с 600—800 пушками (данные разнятся) и 24-тысячным гарнизоном сдалась Нею. Эта сдача, а еще раньше и капитуляция Эрфурта с его 14-тысячным гарнизоном решили судьбу Пруссии. Следом началась повальная сдача прусских крепостей и гарнизонов: Кюстрин, Шпандау, Штеттин и др. Под Пренцлау прусский генерал принял за чистую монету похвальбу Мюрата, у которого под рукой была лишь его расфуфыренная конная свита, что за ними следуют десятки тысяч пехоты с осадными орудиями и – поспешно сдал твердыню, брать которую пришлось бы ни одну неделю!
…Между прочим, неповторимый понтёр (понтовила) Мюрат в том памятном для французского оружия «блиц-криге» в очередной раз проявил свой неистребимый эгоизм, чем вызвал лютую ненависть со стороны «братьев по оружию»! Несмотря на то, что капитуляцию пруссаков Гогенлоэ принимал вместе с Мюратом маршал Ланн, первый ни единым словом не обмолвился в своем рапорте о коллеге по маршалату и его солдатах, как будто их вообще не существовало. В этом рапорте Мюрат присвоил все лавры победы себе, и даже дал понять Наполеону, что пехотинцы Ланна настолько медленно двигались за ним, что ему приходилось рассчитывать только на свои силы. Такое поведение Мюрата очень обидело и задело Ланна, который с горечью писал Наполеону, что его солдаты были обескуражены таким эгоцентризмом Мюрата. Впрочем, отношения между этими двумя храбрецами всегда были натянутыми: оба предпочитали тянуть «одеяло» славы исключительно «на себя любимого». Ситуация повторилась, когда у (вышеупомянутого) Любека корпуса Сульта, Бернадотта и кавалерия Мюрата настигли последние боеспособные силы самого неустрашимого и энергичного прусского генерала Блюхера. Сражение за Любек переросло в «жуткую резню», но 7 ноября 1806 г. (повторимся!) Блюхер вынужден был капитулировать. Так вот, несмотря на то, что главная роль в разгроме пруссаков, несомненно, принадлежала Бернадотту, Мюрат и здесь не упустил случая, показать себя в самом лучшем свете. В полном ликования рапорте, направленном Наполеону, он пишет слова, ставшие знаменитыми: «Боевые действия закончились ввиду отсутствия неприятеля!»…
В Пазельваке 700 кирасирам генерала Мильо позорно сдались в плен 4 тыс. прусских кавалеристов! Когда генерал граф Фридрих-Генрих-Фердинанд-Эмиль фон Клейст (1762—1823), комендант Магдебурга, сдавал Нею свою армию, тот озабоченно сказал своему адъютанту: «Скорее отбирайте у пленных ружья: их в два раза больше, чем нас». Штеттин, имевший 5 тыс. солдат и 281 орудие, капитулировал, когда перед ним появился гусарский полк генерала графа Антуана-Шарля-Луи Лассаля (1775 – 1809) без единой пушки. Начальник Лассаля Мюрат имел все основания снова докладывать Наполеону: «Государь, сражение закончено ввиду отсутствия сражающихся».
Это было верно: Пруссия более не сражалась, она подняла руки вверх, ее армия рассеялась как «осенний туман»!
Ее потери поддаются подсчету с огромным трудом (в литературе приводятся сильно расходящиеся данные): около 25 тыс. были убиты и ранены, 100—140 тыс. сдалось в плен, до 45 тыс. дезертировали и рассеялись; было потеряно более 2000 пушек; все вооружение прусской армии, огромное количество боеприпасов, провианта, которым можно было прокормить французскую армию в течение одной кампании, двадцать тысяч превосходных лошадей, не разрушенные первоклассные крепости. Осталось в строю – на северо-востоке Пруссии, в Зольдау – лишь 14—15 тыс. солдат под началом генерала А. В. Лестока (1738 – 1815), какой-то частикоторых еще предстоит «громко хлопнуть дверью» под… Прейсиш-Эйлау!
…Кстати, «не остался в накладе» и проштрафившийся было в самом начале прусской кампании уже не единожды упомянутый маршал Бернадотт. Мало того, что в ходе преследования бегущих пруссаков ему удалось «набрать вистов» перед своим императором (захват Галле, Бранденбурга, Любека и др. «оплотов прусского милитаризма»), так он еще получил козырную карту на будущее. Именно к нему в руки попала, прибывшая от шведского короля Густава IV пехотная дивизия графа Густава Мёрнера, на помощь его союзникам пруссакам. Бернадотт очень снисходительно (можно даже сказать весьма ласково!) отнесся к полутора тысячам шведских пленных. О благородном и любезном французском маршале вскоре говорила вся… Швеция! Очень скоро совершенно особое отношение Бернадотта к шведам обернется для когда-то ярого революционера-якобинца невероятной удачей – Подарком Судьбы! Но об этом чуть позже…
Наполеоновский «блиц-криг» продолжался всего 7 недель, а на уничтожение прусских армий и легенды о прусской непобедимости ушло и вовсе только 33 дня! Наполеон вступил в Пруссию 8 октября, а 8 ноября сдалась ее последняя крупная крепость Магдебург. «Наполеон дунул на Пруссию, и Пруссии не стало», – сказал впоследствии знаменитый немецкий писатель Генрих Гейне. Сам Бонапарт был не столь литературно лаконичен, но тоже оставил в истории свою оценку своей скоротечной прусской кампании: «Победа при Йене смыла бесчестие Россбаха и за семь дней решила судьбу всей кампании».
Глава 7. Как вояка Фридрих «обесчестил» галантного Субиза под Россбахом
Битва при Россбахе 5 ноября 1757 г. вошла в анналы истории, как сражение «героя будуарных битв» Шарля де Роана французского принца де Субиза (1715—1787) и прусского аскета-вояки Фридриха II!
39—45 тысячам союзников – французов (их насчитывалось более 30 тыс.) и наемников из различных германских княжеств (Баварии, Вюртемберга, Швабии, Франконии и др.) под объединенным командованием де Субиза и союзного ему австрийского принца Иосифа Саксен-Хильбургхаузена противостояло всего 22 тыс. пруссаков. (Правда, по разным источникам численность противников колеблется от 64 тыс. союзников до 20—25 тыс. пруссаков!?)
Превосходство союзников было чуть ли не двойным, но прусского короля это не смутило. Местность, на которой он расположил свои малочисленные войска не отличалась выгодностью позиций, но зато с нее можно было легко наблюдать за всеми перемещениями врага, включая его тыловые и резервные отряды. «Противник стягивает напротив меня все свои войска. Из моего окна видно перемещение его кавалерии в тылу!» – писал он своему другу и военачальнику Джеймсу Кейту.
На следующее утро Фридрих назначил общее наступление, но за ночь случилось непредвиденное!
Поздно вечером его черные гусары налетели на вражеский стан, порубили караулы, увели сотню лошадей и заставили не на шутку встревоженного Субиза ночью переменить позиции. Когда утром прусский король приготовился к атаке, то, увидев перемену, отложил свое намерение.
Союзники заняли очень выгодную позицию на господствующих высотах Мюльхена. Видя это, Фридрих решил прибегнуть к военной хитрости и ложно отступив под прикрытием кавалерии Зейдлица, выманить превосходившего его численно врага на более удобную для пруссаков позицию у деревни Россбах. Принцы – два типичных паркетно-будуарных «шаркуна» эпохи легендарного Казановы – поддались на его провокацию. Гром литавр и веселые песни зазвучали в их лагере, где «скорострельной» «легкой артиллерии» «разных калибров» было в сотни раз больше, чем тяжелых пушек. Уже строились «лихие планы» по захвату в плен «всей прусской шайки с ее королем-трусишкой» и отправкой на потеху в Париж – столицу галантности и интима!
…Между прочим, роскошные офицерские фургоны армии Субиза были набиты… надушенными парчовыми халатами, зонтиками, духами, благовонными мылами, попугаями, обезьянками и множеством… молоденьких искусных прелестниц на любой вкус, «служивших в легкой артиллерии». Без этих, всегда готовых к жаркому, затяжному, нередко изнурительному, ближнему «бою-перестрелке» в любых позициях и «сочетаниях», скорострельных «многоствольных» «легких кулеврин» французские офицеры той поры не отправлялись на войну. Весь этот богатейший «арсенал» наглядно характеризовал французскую армию и особенно ее утонченно-галантного предводителя, чье место скорее было в ароматно-изысканном дамском будуаре с его «громкими ахами, томными вздохами и пронзительно-протяжными или приглушенно-гортанными стонами» – предвестниками прихода Главной Женской Радости, Ее Величества Оргазма, чем на поле боя среди грохота, крови, пороховой гари, героизма и смертей…
С веселыми песнями, громкой музыкой и барабанным боем, воодушевленные «тяжелыми боями» с «легкой артиллерией», они кинулись вдогонку, пытаясь обойти «поспешно» отступавших пруссаков с левого фланга и отрезать их от переправ через реку Заале. Но проделали они это так поспешно, что не провели должной разведки, не выставили боевого охранения, а шедшая в авангарде вся кавалерия союзников (7 тыс. сабель) и вовсе далеко оторвалась от своей пехоты, которая увязая в грязи и песке, двигалась очень медленно.
Это была их роковая ошибка, а для Фридриха – единственный шанс разбить численно превосходящего врага, которым искусный прусский король мгновенно воспользовался. Он разгадал нехитрый маневр противника и еще по утру поставил своего офицера на крыше самого высокого здания в Россбахе, который наблюдал за передвижением врага на открытой равнине.
В 2 часа пополудни, внезапно прервав свой обед со свитскими генералами, Фридрих мгновенно развернул свою армию на 180 градусов. Пехотные батальоны сошли с дороги, спрятались за обратными склонами холмов и, построившись уступами, приготовились охватить марширующие походные колонны врага с фланга. В союзной армии заметили маневры и внезапное исчезновение пруссаков из поля зрения. Ее командиры решили, что Фридрих начал отступление, и отдали приказ прибавить ходу, чтобы догнать его. Союзная кавалерия еще больше оторвалась от пехоты.
Не дожидаясь полного перестроения своей армии, прусский король при поддержке всего лишь 18 тяжелых пушек бросил в атаку вниз со склона всю свою 4-тысячную тяжелую конницу под началом Зейдлица. Набравшие таранную скорость прусские кирасиры смяли поднимавшуюся в гору и не успевшую развернуться к бою союзную кавалерию. Высланный Субизом резерв в лице французских жандармов постигла та же печальная участь. Их смяли свои же и вскоре и те, и другие поспешно уносили ноги от нагулявшихся всласть палашей и сабель кавалеристов Зейдлица.
…Кстати, спустя полвека Мюрат и его востросаблые удальцы с лихвой отплатят пруссакам за россбахскую «скотобойню», превращая их в свежий «фарш», а затем в финале Ватерлоо уже французам прилетит «обратка» и их бегущих с поля боя будут кромсать и «разваливать" черные гусары Блюхера! «На войне, как на войне»!? Не так ли…
Покончив с вражеской конницей, прусские всадники тут же обрушились с тыла на пехоту врага, которая, несмотря на все старания Саксен-Хильдбургхаузена под плотным залповым (пруссаки-«роботы» стреляли как заведенные) ружейным огнем вражеской пехоты с фланга так и не смогла перестроиться из походного порядка в боевой. Прусские батареи своей пальбой разрывали на части полуразвернутые шеренги неприятельской пехоты. После того как прусские гренадеры хладнокровно, как на учении расстреляв весь боезапас, дружно ударили в штыки, началась резня, а затем беспорядочное бегство неприятеля. Разгром союзников довершили самые лихие рубаки в прусской кавалерии – черные гусары под началом легко раненого в руку Зейдлица. Лишь швейцарские наемники графа Сен-Жермена пытались хоть как-то прикрыть ретираду высокородных принцев. Только наступившая ночь спасла их от совершенной погибели, дав возможность попрятаться по окрестным лесам и болотам.
Весь бой длился чуть меньше двух часов: 15.15 – 17.00!
Это было одно из самых коротких великих сражений!
«Мы разбили их вдребезги!» – радостно писал в Берлин прусский король. Это была его расплата за обидное поражение от австрийцев при Коллине. Потери союзников составили 3 тыс. человек убитыми и ранеными, 5 тыс. пленными (в том числе 11 генералов и 326 офицеров!), 67 орудий, 22 знамени и весь огромный обоз (французскую армию той поры всегда сопровождало невероятное количество лакеев, поваров, парикмахеров, артистов, маркитанток, пресловутых обозных шлюх и скорострельной «легкой артиллерии»). На радостях прусский король пригласил на ужин всех пленных офицеров и генералов. Он ласково угощал понурых галантных противников и просил их не гневаться, что кушаний мало: он никак не ожидал видеть у себя в этот вечер столь много «дорогих» гостей.
Пруссакам этот стремительно проведенный их королем бой «обошелся» лишь в 548 человек!
Главный герой Россбаха – Вильгельм фон Зейдлиц прямо на поле боя был произведен своим королем в генерал-лейтенанты и получил самый престижный военный орден Пруссии – Черного Орла.
…Между прочим, если россбахская победа сделала из Фридриха национального героя всей Германии и вынудила английский парламент увеличить свои субсидии в него в 10 раз, то во Франции поражение при Россбахе сочли неудачной… шуткой галантного кавалера принца де Субиза. Над ней смеялись пару недель. Затем всеобщее внимание занял… прыщик, выскочивший на подбородке мадам де Помпадур, а через несколько дней… новый парижский балет на интимную тему заставил забыть о россбахском конфузе незадачливого кавалера Шарля де Роана – любимца Помпадур. Бравые французы той поры предпочитали поражать воображение окружающих «изысканными подвигами» в дамских будуарах, чем отвагой на полях сражений: на дворе стоял галантный XVIII век и в моде была «бель мор» («красивая смерть» от истощения в постельном поединке/любовном «ристалище» сразу с двумя-тремя искусными прелестницами) – вот что ценилось во Франции XVIII века больше всего!!! В следующем году Госпожа Удача повернулась к галантному де Субизу уже не аппетитным «нижним бюстом», а… своим капризным личиком! Он стал маршалом Франции и даже сумел-таки отличиться на поле боя, но на ход Семилетней войны это повлияло мало…
Заметно уступая численно, Фридрих, тем не менее, сумел при Россбахе на все 100 процентов использовать свой маленький шанс. Он искусно спровоцировал врага совершать рискованный фланговый маневр у него на глазах. Сказалось безусловное превосходство прусской кавалерии и артиллерии вкупе с «детскими» ошибками командующих союзников. Затеяв сложнейший обходной маневр, они не смогли провести его на нужном уровне. Большая часть их войск в момент внезапной атаки неприятеля оказалась в походных колоннах и не смогла участвовать в сражении. Прусский король получил возможность громить врага по частям.
Cокрушительная победа прусского короля Фридриха II Великого над Францией при Россбахе обезопасила Пруссию от вторжения на ее территорию французской армии. Французов прусский король после Россбаха серьезно уже не опасался. «Лягушатники» (так за любовь к деликатесу – мясу лягушек – презрительно прозвали пруссаки французов) воевать не хотели, да и не умели.
Франция надолго оказалась выведенной из войны и смогла отомстить обидчикам лишь спустя… полвека, а точнее – 49 лет и 2 дня!
Но зато как, она отомстила: «… дунула на Пруссию и, Пруссии не стало!»
Правда, спустя 65 лет Франция получит… «обратку», но это случиться уже при другом императоре французов – Наполеоне III!
* * *
Если победа при Россбахе одна из вершин (еще одной принято считать Лейтен) полководческого искусства другого великого полководца XVIII века – прусского короля Фридриха Великого, то двойная победа Наполеона под Йеной и Ауэрштедтом стала пиком военной карьеры Наполеона. Дальше Капризная и Изменчивая Девка по имени Фортуна станет все чаще отворачиваться от своего любимца.
ГЛАВА 8. ВСЕСИЛЬНЫЙ И СЕМИЖИЛЬНЫЙ «МАЛЕНЬКИЙ КАПРАЛ» ИЛИ, КАКОВО БЫТЬ РЯДОМ С ГЕНИЕМ?
Наполеон, конечно, еще не знает об этом и продолжает строить грандиозные планы, работая как проклятый по 18 часов в сутки. Мало кто умел за эти часы переделать такое невероятное количество дел, как Наполеон. Обычно он ложился спать около 10 часов вечера. Верный (до поры – до времени: ничто не вечно в этом лучшем из миров!) мамлюк-армянин из Тифлиса Рустам укладывался на пол поперек двери. Для него давно стало нормой вставать вскоре после полуночи и читать свежие доклады, присланные из армии накануне вечером. Потом он диктовал вызванному секретарю Меневалю (сменившему на этом хлопотном посту в 1802 г. в конец проворовавшегося Бурьенна) необходимые распоряжения, вносил изменения в приказы и незадолго до рассвета ложился поспать еще на час-другой. Перед этим Наполеон приказывал подать мороженое, которым он угощал обессилевшего от ночных трудов секретаря. Засыпал Бонапарт тут же и никто не имел права его будить.
Но в 6 часов утра он уже снова был на ногах, легко завтракал (в еде Наполеон был крайне неприхотлив) и вызывал к себе своего самого незаменимого из всех многочисленных адъютантов Бакле д`Альба, известного ему еще со времен осады Тулона, блестящего картографа и мастера по сниманию планов. Этот невысокий смуглый человек, потрясающе красивый и крайне опрятный, очень образованный и талантливый штабной офицер оказывал Наполеону самую большую помощь в планировании военных операций с 1796 по 1813 гг. Он заведовал личным топографическим кабинетом Бонапарта. Обычно для них день начинался с того, что они вдвоем ползали по гигантской карте, втыкая разноцветные булавки (обозначавшие нахождение воинских частей) в новые места, и ворчали, и переругивались, сталкиваясь головами или задами. Этот самый незаменимый адъютант Бонапарта обязан был следить за тем, чтобы все необходимое всегда было под рукой: ящики с курьерскими донесениями, складной стол, циркули для корректировки ежедневных маршей армейских частей на картах разных масштабов и наконец, «святая святых» императора – его записные книжки с подробнейшей информацией о каждой воинской части – как французской, так и вражеской и прочие справочные материалы. На д`Альба возлагалась ответственность за расчеты времени и расстояний передвижений армейских частей.
Именно Бакле непрерывно следил за движениями войск посредством накалывания на карте булавок различных цветов, изображая таким же образом, по непосредственному указанию Наполеона, готовящиеся военные действия. Одаренный необыкновенной способностью, он мог единственно на основании карты безошибочно представить панорамы той местности, где император предполагал дать битву. По штриховке, по какой-нибудь кривой линии, по белым и черным точкам, он воссоздавал не только в своем воображении, но и в воображении другого не только отвлеченное представление, а, так сказать, живую картину местности предстоящего похода.
У красавца Бакле, на котором хорошенькие женщины висли гроздьями, почти не было личной жизни ибо эгоистичный император не только начинал свой рабочий день с фразы «пришлите ко мне д`Альба», но и завершал свой рабочий день именно этой же фразой.
Собачей жизни Бакле не завидовал никто, но зато он очень быстро дослужился до генерала и имел право на фамильярность с императором, дозволенную очень узкому кругу лиц.
Затем наступало время кратких аудиенций для самых важных лиц, плавно переходившая в работу над важнейшими государственными бумагами, уже разложенными стопками на столе и ожидавшими его решения. Наполеон по диагонали проглядывал их: либо утверждая документ, размашисто царапал на полях свой инициал «N», либо диктовал краткий ответ своим секретарям, либо вовсе бросал бумагу на пол, если считал ее недостойной своего внимания. Изредка случалось, что Бонапарт на минуту задумывался и если дело было крайне сложным, откладывал бумагу в сторону, говоря: «До завтра. Утро вечера мудренее».
Потом он садился на коня и деловито скакал в какую-нибудь часть для инспекции. Наездником Бонапарт был весьма посредственным, но езду верхом переносил уверенно. Куда бы он не выезжал, его всегда сопровождали несколько запасных арабских скакунов, помимо этого во всех воинских частях, куда он направлялся для него всегда были наготове не менее 5 запасных лошадей.
…Кстати, с лошадьми на все случаи жизни у Наполеона было все в порядке, тем более, что более 20 лет своей военной эпопеи в Европе, Африке и России, он провёл преимущественно верхом в седле. Будучи артиллеристом по военной специальности, Бонапарт еще в 1784—85 гг. получил несколько уроков верховой езды в Парижской военной школе (Еcole militaire de Paris). Первая офицерская лошадь появилась у него во время осады мятежного Тулона в 1793 г. Правда ее имя осталось нам неизвестно. Она погибла в 1797 г. во время знаменитого боя на Аркольском мосту, став первой из 18 лошадей, раненых или убитых под ним до того как он был отправлен на о-в Святой Елены. Несмотря на репутацию плохого наездника, Наполеон славился своей выносливостью и был способен длительное время двигаться галопом, оставляя позади офицеров своего штаба и даже всадников эскорта. Императорские конюшни, которыми с 1804 г. вплоть до падения Наполеона руководил обер-шталмейстер генерал Коленкур, располагались в Париже, Сен-Клу, Медоне, Вирофлэ и пополнялись лошадьми с императорских конных заводов Сен-Клу, Нормандии, Лимузена и Великого герцогства Берг. Считается, что Наполеон отдавал предпочтение арабским, немецким, лимузенским, испанским, персидским породам лошадей и не жаловал баварских и бретонских коней, которых считал излишне тяжеловесными. Помимо этого, он не любил лошадей белой масти, поскольку они служат отличной мишенью на поле битвы. В то время, как лошади серой масти не такие яркие и обладают более покладистым характером. Для такого посредственного кавалериста, как Бонапарт, лошади проходили специальную подготовку. Как вспоминал потом его первый камердинер Луи-Констан Вери, более известный как «Констан»: «Император садился на лошадь очень неизящно <<…>> Их тренировали выдерживать, не шелохнувшись, самые различные мучения: удары хлыстом по голове и ушам, барабанный бой и стрельбу из пистолетов, размахивание флагами перед глазами; к их ногам бросали тяжелые предметы, иногда даже овцу или свинью. От лошади требовалось, чтобы в момент самого быстрого галопа Наполеон смог бы на полном скаку неожиданно ее остановить. В распоряжении Его Величества были только выезженные до невероятного совершенства животные». С 1808 по 1810 гг. французского императора обслуживали 500 лошадей, с 1810 по 1814 гг. – 450 коней. Средний срок их службы – 4 года, но ок. 30 лошадей служили более 10 лет. За все военные годы он потерял – 20 коней, а во время рокового Русского похода 1812 г. – аж 69 лошадей. Всего, за время наполеоновской империи в конюшнях императора состояло ок. 6 тыс. лошадей, служивших лично ему и его окружению (100—130 лошадей одновременно), транспортирующих кареты и повозки (продуктовые и для кухонных принадлежностей, для бухгалтерии, канцелярии и трёх кузниц – для каждого экипажа использовались четыре или шесть лошадей, ещё 12 держались наготове на смену). По состоянию на 1 января 1805 г. служба имперских конюшен насчитывала 533 человека. В тоже время на войне Наполеон мог воспользоваться любой попавшейся под руку армейской лошадью. В его личной конюшне было 30 лошадей, имеющих ранг «Лошадей Его Величества». Их состав поменялся более трёх раз, т.е. через конюшню Бонапарта прошло более 100 лошадей, но только несколько из них стали широко известны, благодаря личной привязанности к ним Наполеона или участию в знаменитых сражениях. Так первое знакомство генерала Бонапарта с арабской породой произошло в 1798 г. в Египте, когда шейх Аль-Бакри преподнёс в подарок главнокомандующему жеребца чёрной масти и сопровождающего его конюха по имени Рустам Раза. Серый в яблоках конь арабской породы «Кир» имел честь «сражался» с императором при Аустерлице. А вот «Интендант» из-за своего уравновешенного нрава использовался на триумфальных парадах и торжественных церемониях, в связи с чем солдаты Старой гвардии прозвали его «Кoкo». Особым расположением Наполеона пользовался арабский скакун масти чёрный агат по имени «Ваграм», подаренный австрийским императором. По началу его звали «Мой Кузен», но потом переименовали в «Ваграма», поскольку его маршалы, к которым Император традиционно обращается «Мой кузен», протестовали против этого. Он оказался в императорской конюшне 8 июня 1810 г. в возрасте пяти лет. Рассказывали, что когда «Ваграм» слышал барабанный бой «В поход!», говорящий о прибытии хозяина или видел его, входящего в конюшню, он принимался топать и бить ногой в землю. Наполеон подходил к нему с кусочком сахара, обнимал за шею и приговаривая: «Вот тебе, мой кузен!». «Ваграм» принимал участие в Русской кампании 1812 года и Саксонской кампании 1813 года, сопровождал хозяина на о-в Эльба, участвовал в «Ста днях» и сражении при Ватерлоо. Еще одним любимцем Наполеона был серый в гречку (почти белый) арабской породы скакун «Визирь», 1793 года рождёния и подаренный в 1805 г. турецким султаном. «Визирь» участвовал в сражении при Эйлау и сопровождал своего хозяина в Русском походе 1812 г., после повторного отречения императора конь содержался как реликвия бывшим служащим имперских конюшен Шолером и умер во Франции 30 июля 1826 г. Светло-серый (по свидетельству современников «по цвету похожий на сюртук Наполеона») арабский жеребец, прозванный в честь самой судьбоносной победы Наполеона, «Маренго», участвовал в знаковых для императора сражениях при Аустерлице, Йене и Ваграме. При Ватерлоо он носил его с 19 до 22 часов вечера, был ранен в ногу и захвачен английским офицером из свиты герцога Веллингтона, который в качестве ценного трофея увёз коня в Англию, где он пал в 1832 г. в возрасте 37 лет. Серый арабский жеребец «Никель», подаренный императору в 1805 г. турецким султаном, после победного сражения при Йене нёс своего хозяина во время парада в Берлине. Когда Наполеон снял шляпу, приветствуя статую Фридриха Великого у Бранденбургских ворот – этот жест был оценен прусскими военными и офицер «Чёрных гусар» Маршнер протянул ему кусок традиционного хлеба с тмином. Бонапарт попробовал его и воскликнул: «Ах! Это хорошо для Никеля!!» Арабский скакун «Али», один из любимцев, был захвачен солдатом 18-го драгунского полка в сражении 20 июля 1798 г. при Пирамидах и преподнесён генералу Мену, который в 1801 г. привёз жеребца в Европу и подарил его Наполеону. Он носил его в сражениях при Эсслинге и Ваграме. В 1810 г. на параде в Париже «Али» послужил причиной опалы любовника Полины Бонапарт капитана 2-го гусарского полка графа Канувиля де Раффто – кони императора и капитана столкнулись крупами. Наполеон пришел в ярость и рявкнул: «Ваша лошадь слишком молода – её кровь слишком горяча. Я отправлю вас охладить её!» и уже через несколько дней граф Канувиль оказался на фронте в Испании. Еще один арабский скакун «Яфа (1792 г. рождения), был захвачен англичанами вечером 18 июня 1815 года на ферме Кайю (ставке императора во время битвы при Ватерлоо). Из других лошадей хорошо известна «Красавица», на которой генерал Бонапарт пересёк перевал Сен-Бернар и сражался при Маренго, он питал к лошади особую привязанность и после окончания этой победной кампании приказал обеспечить ей «отдых по высшему разряду». Она умерла 21 ноября 1811 г. в возрасте 20 лет. Кобыла «Штирия», много раз принимала участие в парадах в Тюильри. Каштановый испанский жеребец «Гонзальве» участвовал в Испанской кампании 1808 г., Русской кампании 1812 г. и Французской кампании 1814 г. Он сопровождал Наполеона на о-в Эльба, вместе с ним возвратился во Францию и 8 апреля 1815 г. был отправлен на заслуженный отдых. Серый в яблоках «Таурис» на спине которого Император вошёл 14 сентября 1812 г. в Москву, в ноябре 1812 г. пересёк Березину, покинул пределы России. В марте 1815 г. «Таурис» доставил Бонапарта от бухты Жуан до Парижа, участвовал в сражении при Ватерлоо, а после Второго Отречения императора был передан на попечение некоего господина Монтаро, который до конца жизни коня каждое утро прогуливал его вокруг Вандомской колонны, известной как «Колонна Великой Армии». На белом коне «Бижу» генерал Бонапарт в 1796 г. триумфально въехал в Милан после громкой победы при Лоди. Оверньский жеребец «Канталь» славился выносливостью. Гнедой жеребец «Курд» сопровождал ссыльного императора на о-в Эльба. Светло-серая кобыла «Дезире» была названа в честь бывшей возлюбленной Бонапарта Дезире Клари – супруги его антагониста, маршала Бернадотта, ставшей королевой Швеции и Норвегии. Подаренный Наполеону его пасынком Эженом де Богарне скакун «Королёк», рождённый от лимузенской кобыли и английского жеребца, славился горячим нравом. Так на одном из парадов в 1809 г. он понёс своего хозяина, врезался в ряды пехоты и опрокинул нескольких гренадёр. После этого император предпочитал его не задействовать вплоть до 1812 г., когда «Королёк» все же был включён в состав «боевой бригады» из 30 лошадей, предназначенных для Русской кампании. При отступлении из Москвы Наполеон опять приказал привести «Королька» и проделал на нём большую часть пути, поскольку другие лошади не столь уверенно держались на засыпанном снегом льду, даже будучи подкованными. В сражении при Люцене пушечное ядро пролетело прямо над головой «Королька», опалив его гриву, но жеребец не проявил эмоций. В сражении при Арси-сюр-Об конь спас жизнь своего хозяина, приняв на себя взрыв снаряда вражеской гаубицы: благодаря почве размытой снегом и дождём, взрыв не причинил ему вреда, но только 8 апреля 1815 г. он был отправлен на заслуженный отдых. Английский чистокровный жеребец «Геродот» был конфискован у графа фон Плесса после оккупации Мекленбурга в 1806 г., на службе императору был переименован в «Нерона», участвовал в сражении при Эйлау и в Русском походе 1812 г., во время Московского пожара частично потерял зрение вследствие попавшей в правый глаз искры, после Второй Реставрации был найден маршалом Блюхером в Марселе и возвращён своему прежнему хозяину. Наполеон достаточно часто дарил лошадей из своей конюшни в качестве подарка: в 1806 г. жеребец «Удобный» был подарен королю Баварии, а кобылы «Звезда» и «Эфиопка» – принцессе Баденской, после заключения Тильзитского мирного договора в 1807 г. император Александр I-й получил жеребца «Селима». Самые прославленные живописцы Франции той поры оставили нам «портреты» самых известных коней Наполеона Бонапарта: Теодор Жерико – «Тамерлана», а Гро – «Maренго». Перечень всех лошадей Императорской конюшни хранит реестр Императорского дома Национального архива Франции: в нем 89 (?) «боевых единиц» и все желающие могут самостоятельно ознакомиться с ними поименно (от «Абукира» до «Вюртцбурга») вплоть до их «биографий»…
Если предстояла поездка на дальнее расстояние, то Наполеон садился в коляску либо легкую карету, рядом с окнами которой ехал с одной стороны шталмейстер, а с другой – дежурный маршал. Его обязательно сопровождал «малый» штаб из числа особо доверенных лиц. В их число входили: начальник Генерального штаба, шталмейстер, кто-то из дежурных маршалов, пара адъютантов, два дежурных офицера, личный конюх, паж, солдат из эскорта, офицер-переводчик, владевшей несколькими европейскими языками и верный мамлюк Рустам. Впереди всех ехали 12 кавалеристов передового эскорта со своим командиром. На расстоянии глазной видимости от них шел главный эскорт в составе 4 эскадронов гвардейской кавалерии (по одному от конных егерей и конных гренадер, драгун и улан) под началом дежурного генерал-адъютанта.
Наполеон считал, что его непрерывные проверки боевого духа солдат – важнейшая часть его родства с армией. Смотры и парады назначались без предварительного оповещения и вся часть буквально стояла на ушах в преддверии встречи со своим «маленьким капралом». Сначала он проезжал крупным галопом по всем рядам, затем спешивался и начинал досмотр в каждом полку каждого солдата, заставляя порой открывать перед ним ранцы, или заглядывал в каждый орудийный ящик, расспрашивая решительно обо всем, вплоть до пары запасных сапог, которая должна была находиться в ранце, а сражение могло быть выиграно или проиграно в зависимости от присутствия в зарядном ящике достаточного количества снарядов.
Здесь, среди солдат он полностью преображался: никто и никогда не видел его таким искренним и терпеливым. С ними он постоянно грубовато по-солдатски шутил, позволял старым ветеранам фамильярности, обязательно «грозно» вызывал перед строем самого… храброго и неожиданно вручал ему большую награду. Потом «пугал» их, что скоро снова нагрянет с проверкой и под оглушительные «Да здравствует император!!!» исчезал столь же внезапно, как и появился. Наполеон любил эти «поездки в служилый народ», а солдаты обожали похвастаться тем, что кого-то из них сам «стриженный малыш» ласково потрепал за ухо.
И все же, со временем смотры станут делаться все реже и реже, особенно, после рокового похода в Россию в 1812 г., а потом почти совсем прекратятся, по крайней мере, утратят свое серьезное воспитательное значение – в тяжелейшую Саксонскую кампанию 1813 г., и тем более, зимой-весной 1814 г. Когда «генерал Бонапарт» уже во всю играл ва-банк и ему было не до дотошных смотров среди «мари-луизочек», так в ту пору будут величать в честь его австрийской супруги 16-17-летних новобранцев. Своих испытанных бойцов времен революционных войн он уже давно положит костьми по полям и дорогам всей Европы.
В который уже раз повторимся: французская армия, начиная с 1807—1808 гг., уже будет не та, что была в 1805—1806 гг. – она превратиться в наполеоновскую, интернациональную и всеми вытекающими из этой трансформации последствиями.
Еще хуже станет то, что с годами «генерал Бонапарт» утратит обычную связь с солдатом, ту близость к нему, которая позволяла ему с первого взгляда узнавать в каждом полку четыре или пять знакомых лиц, называть их по именам, еще прибавляя какое-нибудь словечко, показывавшее, что ему известно все прошлое их. Прекратятся добродушные разговоры с каким-нибудь ветераном, который, прикрепив к шомполу прошение, выходил из строя и отдавал ружьем честь. Прекратятся рассказы, анекдоты, обходившие солдатские кружк`и из казармы в казарму, подогревая усердие и возбуждая преданность: о пенсии, назначенной старухе-матери, о стипендиях в лицее или в императорском сиротском доме, о восстановлении справедливости, о великодушно заглаженной забывчивости. Прекратится тот постоянный обмен наград и самоотвержения, вызываемого одним каким-нибудь словом и приносящего обильную жатву жертв.
Но все это случится потом, когда «генерал Бонапарт» в лице Императора Наполеона перейдет черту разумного в своих имперских амбициях.
…Кстати, в ходе боя Наполеон обычно мало общался со своими солдатами, предоставляя их командирам командовать, а сам он вмешивался весьма редко, лишь в случаях, когда решалась судьба битвы. Только тогда он лично выезжал к той части, которой предстояло склонить чашу весов на свою сторону. Именно тогда он бросал солдатам фразу-похвалу: «Солдаты такого-то полка! Я знаю, что вы сделаете все от вас зависящее!! В-п-е-р-е-д!!! В о-о-г-о-о-о-н-ь!!!» Мало кто так умел воодушевлять своих солдат на подвиг! В тоже время своим непосредственным подчиненным он скупо дарил улыбки и четко следуя правилу «разделяй и властвуй», порой, любил сталкивать их лбами. Бонапарт никогда не позволял им расслабиться, давая неожиданные приказы без малейшего предупреждения. При этом их надлежало исполнять немедленно и никакие изменения никогда не принимались. Ко всем переездам и перемещениям им следовало быть готовыми максимум через полчаса после объявления приказа! Временами они доходили до умопомрачения от бесконечных требований, придирок и переменчивости нрава своего хозяина, тем более, что его гнев был нешуточный. Даже любимчикам, а их были единицы, он не давал особых поблажек…
Вернувшись в ставку, Бонапарт снова обращался к неотложным делам: назначал встречи с нужными людьми и диктовал одновременно сразу нескольким секретарям ответы. Примечательно, что последнее он делал без малейших признаков напряжения, тогда как секретари в поту от напряжения еле-еле успевали за его стремительным слогом. Затем он читал секретные доклады шпионов сначала Фуше (потом Савари) и резюме по армии подготовленное ему Бертье.
Если время его завтрака обычно было одно и то же, то время обеда и ужина – крайне неопределенно. Наполеон никогда не был гурманом и знатоком тонкой французской кухни, но мог затребовать еду когда ему будет угодно: то ли в седле, то ли в той части, куда он заехал с инспекцией. Именно поэтому его личные повара без конца готовили и постоянно держали «под парами» кушанья для императора, а Дюрок постоянно находился в напряжении, ожидая внезапного приказа быстро подать на стол, причем, «столом» мог оказаться адъютантский плащ, расстеленный на траве или в снегу. Чаще всего это был цыпленок (фрикасе из курицы или баранья котлета), белый хлеб, бутылка красного бургундского, бордо либо особо любимого им шамбертена (бокалом последнего он мог поднять настроение и в неурочное время) и обязательная чашечка кофе. (Почти всегда вина он пил разбавленными.) Сам император ел очень мало и очень быстро – не более 15—20 минут и чаще всего в полном молчании. (На официальных мероприятиях все было по-другому.) К «столу» обычно приглашались Бертье, Дюрок и Коленкур (если в данный момент они были рядом). Все что оставалось не съеденным, тут же сметалось алчущими ртами свиты. Но до этого момента рачительный Дюрок бдительно следил за тем чтобы ничто со стола не пропало раньше времени в желудках наполеоновского окружения: каждый цыпленок был на строгом учете. В целом он был крайне непритязателен в еде: никогда не жаловался на ее дурное качество, скорее, даже не замечал этого. Правда, где бы он ни был, после первых блюд он спрашивал мороженого. Оно было его страстью, хотя он не требовал его постоянно к обеду, но часто лакомился им среди ночи, считая его хорошим средством для восстановления утомленных сил. Он и питье-то предпочитал очень холодное, в том числе, воду.
Изредка, если у него выпадала свободная минута либо было хорошее настроение, Бонапарт играл с кем-то из свитских в вист, при этом безбожно мошенничал и, естественно, всегда выигрывал.
Ужинать императору приходилось прямо перед сном, т.е. около 8—9 часов вечера. Затем следовали 4—5 часов сна и все начиналось сначала.
…Кстати вся мебель Бонапарта для похода и бивуака была исключительно практична, легка при сборке и разборке, удобна для переноса и не слишком громоздка. Этим критериям соответствовал каждый предмет его армейского гардероба: палатки, кресла, стулья, столы и походная кровать. Последняя являлась одним из ключевых элементов «военного» ансамбля и изготавливалась с особой тщательностью его личным слесарем Десуше, запатентовавшим изобретение портативных металлических кроватей, в его мастерской на улице Верней. С 1809 по 1813 гг. было изготовлено 12 кроватей двух моделей (с навесом и без) длиной 1,82 метра, шириной 0,86 метра, высотой 1,08 метра и стоимостью 1.100 франков. Кровать могла легко складываться с помощью шарниров, расположенных по длине и ширине рамы. Матрас делался из полосатой ткани и крепился к раме металлическими и бронзовыми крючками. В сложенном состоянии кровать помещалась в компактный твёрдый кожаный футляр весом 10 фунтов. Именно на походной кровати он скончался 5 мая 1821 г. на о-ве Святой Елены…
Но даже во время этого краткого сна его крайне утомленная свита почти не могла рассчитывать на отдых. В любой момент мог последовать зов императора и горе было тому несчастному, кто отлучился хотя бы на минуту (по малой или большой нужде). Тогда верный мамелюк Рустам кидался искать «провинившегося».
…Служить гению было престижно и почетно, но очень тяжело и многие быстро «сходили с дистанции», а единицы выдержавших – получали тяжелые нервные расстройства и нередко раньше времени выходили в отставку…
Так было не только осенью победного для Наполеона 1806 года, так было почти всегда, причем год от года все тяжелее и тяжелее, поскольку забот у французского императора, покорившего уже более половины Европы становилось все больше и больше.
ГЛАВА 9.РАЗБУЖЕННЫЙ РУССКИЙ МЕДВЕДЬ ВЫЛЕЗ ИЗ СВОЕЙ ЗАСНЕЖЕННОЙ БЕРЛОГИ И НАЧАЛОСЬ…
Казалось бы, триумфальный «блиц-криг» над его родоначальниками пруссаками должен был дать Бонапарту возможность заключить всеобщий мир с европейскими монархами, но на деле все оказалось не так просто. И это при том, что той памятной осенью 1806 г. Бонапарт больше уже не хотел воевать. Если весть о победе под Аустерлицем заставила выйти на улицы весь празднующий Париж, то новости о двойной победе под Йеной-Ауэрштедтом вызвали более холодный прием во Франции – французы хотели мира! После войны с Пруссией требовалось пополнение Великой армии и ее главнокомандующему было ясно, что очередной досрочный призыв не вызовет прилива энтузиазма у его соотечественников! И действительно, еще чуть-чуть и военная служба станет рассматриваться французами как «верный пропуск к ранней смерти»!
…Кстати сказать, напомним, что, как и австрийский император после Ульма, еще 21 октября 1806 г. (т.е. уже через неделю после Йено-Ауэрштедской катастрофы и еще за неделю до вступления французов в Берлин!) прусский король Фридрих Вильгельм III вступил в переговоры с Наполеоном и предложил тому заключить перемирие. Но тогда французский полководец не хотел давать передышку противнику, не остановил преследования, а лишь выдвинул настолько жесткие требования, что прусский король, под нажимом своей воинственно-волевой супруги-красавицы, все же, продолжил борьбу. Конечно, он мог это сделать, лишь опираясь на русские силы, тем более что Александр I, как только узнал о печальных обстоятельствах разгрома пруссаков, сразу подтвердил своему союзнику все ранее взятые на себя обязательства. Уже 16 (28) октября 1806 г. в Гродно была подписана военная русско—прусская конвенция, по которой определялся порядок вступления русских войск на территорию королевства. Правда, в распоряжении у прусского короля оставалась лишь небольшая часть восточной территории его королевства, а сам он к началу 1807 г. перебрался в пограничный с Россией город Мемель, но даже королевская казна по его просьбе была перевезена от греха подальше в Россию…
Оккупировав почти всю Пруссию, Наполеон стал рассчитывать на мир с ней и союз с Россией, под защиту которой бежал прусский король Фридрих-Вильгельм III. Бонапарт надеялся проделать это до нового года и успеть вернуться в Париж до рождества. Финансовые проблемы и нелады в экономике сказывались во Франции уже во время военной кампании ее императора еще в 1805 г., а к концу 1806 г. они и вовсе оказались в хаосе.
Бонапарту нужно было срочно возвращаться в Париж: «рулить» страной издалека в ту пору (только лишь с помощью писем) было очень сложно.
Но беспощадность к Пруссии, несговорчивость единственного «мужчины» в прусском королевстве – «железной» прусской королевы Луизы – сделанной из настоящего теста и решавшей все за своего откровенно трусливого мужа короля Фридриха-Вильгельма III (супруги благополучно скрылись за стенами крепости Кенигсберга) и золото «коварного Альбиона» сделали неизбежной новую кампанию. В заснеженную Польшу, где уже стояли последние остатки некогда военной мощи Пруссии 14-15-тысячный корпус генерала А. В. Лестока, медленно вступали, прикрываясь сенью густых лесов, русские войска. По всему получалось, что новая война «со страной снегов, героического русского „ура-а-а!“ и не пуганных медведей» будет долгой и тяжелой.
И действительно, российский император – «этот грек времен поздней Римской империи – тонкий, фальшивый и ловкий» – не забыл унижения Аустерлица. К тому же, он в отличие от австрийского императора так не заключил мир с Францией. Появление передовых частей наполеоновской армии – драгун Даву – в предместьях Варшавы – вблизи российских рубежей – явно затрагивало интересы российской империи. Тем более, что поляки с помощью Наполеона явно желали восстановить Польшу, что вело к перекройке границ России на западе. К тому же, Александр отдавал себе отчет в том, что объявив континентальную блокаду Англии Наполеон не остановится, пока не заставит и русских примкнуть к ней. А это грозило экономическим интересам российского дворянства, крепко связанных торговыми узами с Великобританией, куда поставлялось большинство русской сельскохозяйственной продукции. Перед русской армией была поставлена задача не допустить вторжения французской армии в пределы России.
И в тоже время Наполеон явно стремился достичь мирного соглашения с императором Всея Руси. Ему казалось, что это вот-вот произойдет! Лишь «премудрый карась» («дерьмо в шелковых чулках», «колченогий черт в сутане» – и это еще не все прозвища самогоБольшого Поддонка в Большой Политикетой поры!) проницательный Талейран предупреждал своего хозяина, что в ближайшее время это вряд ли случится, но Наполеон, когда он чего-то не хотел услышать, то он этого и не слышал…
…Кстати, все попытки российского императора вовлечь австрийского императора Франца в новую военную авантюру против «корсиканского чудовища» – его удар с юга был бы весьма опасен для французов – закончились провалом. А ведь, Наполеон весьма опасался удара в спину со стороны не единожды униженных им австрийцев. Ради нейтралитета австрийцев французский император сам предложил Австрии вернуть часть Силезии, правда, за счет Пруссии. В тоже время он счел нужным на всякий случай пополнить ряды своей Итальянской армии под началом Массена, нависавшей над альпийскими границами Австрии. Эрцгерцог Карл занялся реформированием австрийских вооруженных сил и справедливо заметил своему венценосному брату, что им всем никак не надо торопить события и ввязываться в новую военную авантюру с победоносным корсиканцем! Благоприятный момент еще наступит – надо только подождать и хорошо подготовиться! К тому же, у Франца слишком свежи еще были воспоминания об испытанном им унижении при Аустерлице – минул лишь год – и он наотрез отказался от очередной «игры европейских монархов в „войнушку“». Наполеон не зря опасался австрийцев, поскольку они действительно могли создать ему очень большие проблемы. Но как оказалось, австрийский император предпочел играть ту же самую роль, что и Пруссия в конце 1805 г., когда Австрия с Россией уже ввязались в войну с Францией, а прусский король все выгадывал. Недаром же Франц весьма откровенно заявил своим венценосным собратьям: «Откровенно говоря, я начну сражаться как можно позже». Он действительно не скоро снова пойдет войной на «маленького капрала», причем в одиночку и последствия, как всегда будут для Австрии катастрофичны…