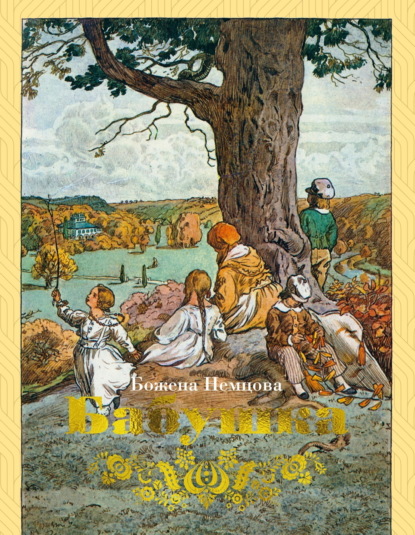
Полная версия:
Бабушка
Каламбур построен на слове «звол», означающее деревню.
11
Корец – старая мера зерна и меда, равная примерно 93 литрам.
12
Крамолна – деревушка всего из нескольких домов, не имеющая права на старосту.
13
Щипец – верхняя часть стены, ограниченная двумя скатами крыши.
14
Чечётка – небольшая птица семейства вьюрковых.
15
Ворша – уменьшительное имя от имени Урсула (Воршила).
16
Стоять на тяге – способ охоты на пернатую дичь, в основном на вальдшнепов.
17
Снежка – самая высокая гора Крконош. Высота вершины 1603 м.
18
Горный дух владеет прекрасным садом, полным самых редких и необычных растений. Но для простых смертных сад не существует, они видят на его месте камни и песок. Если человек и попадает в этот волшебный сад, то только по желанию хозяина, который может зло подшутить над своим гостем или, напротив, щедро его наградить.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов

