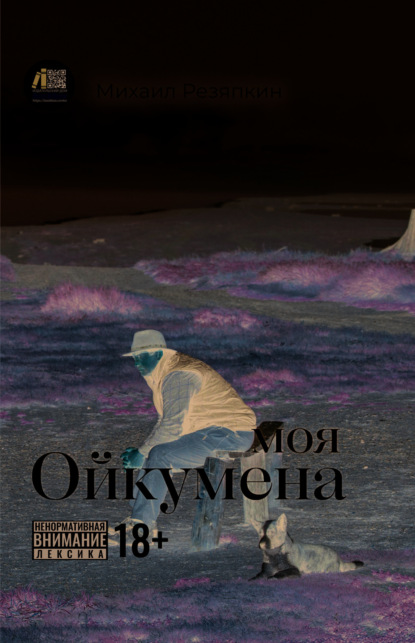
Полная версия:
Моя Ойкумена
– Да не поп, – засмеялся дед, – командир у меня был во время войны, грек Кирилл. Вечно обвешается с ног до головы оружием, как новогодняя елка, и ходит бренчит!
Дед развернулся и ушел, а мне стало стыдно. Я осмотрел себя сверху донизу, снял полевую сумку, фляжку, саперную лопатку, пилотку и потихоньку отнес их домой. Оставив на себе только ремень и кобуру, я побежал на улицу, чтобы присоединиться к компании.
Ружья, море, магнитофон
Олежик с Леночкой считались зажиточными, и все шутили, что скоро их будут раскулачивать. Кроме машины, у них был магнитофон, и они каждый год ездили отдыхать куда-то на юг, в Сочи, откуда и привозили пепси-колу. Их родители – дядя Слава с тетей Зиной – всегда любили покрасоваться перед моими и при всех говорили: «Что толку, что ваши дети сидят книжки читают? Грамотность не принесет богатства. Нужно уметь правильно устроиться! Не надоело вам всю жизнь по тайге мотаться? Еще неизвестно, куда пошлют. Кому это нужно?»
Моя мама им завидовала, а вот отца это никак не трогало. Я спросил у мамы, почему мы никогда не ездим на юг – офицерам платят меньше денег, чем директору завода? Видимо, я наступил на больную мозоль, и она ответила: «Офицерам платят хорошо. Просто твой отец очень водку любит. И дружков своих». Мне стало обидно, но я не понял, почему это плохо – любить друзей – и как это связано с морем. Больше ничего у мамы я спрашивать не стал, так как почувствовал себя виноватым.
Как-то раз дядя Слава хвастался перед отцом своими многочисленными ружьями (они оба были заядлыми охотниками). Когда мы остались одни, я спросил отца:
– Почему у дяди Славы столько красивых, дорогих ружей, а у тебя – всего одно?
– А сколько ружей берет охотник на охоту?
– ??? Как сколько? Одно…
– Ну в том-то и дело! Зачем человеку пять ружей, если на охоту он ходит с одним? Главное – уметь стрелять! Стреляет ружье, а попадает в цель стрелок! Ружье должно быть одно, но любимое. Так же, как одна мать, одна жена и одна Родина. Все понял?
Отец прав, конечно: ружья, машина и магнитофон – все это действительно не имеет значения. Только вот на море очень хочется…
Зараза всего мира
Мне хотелось побольше узнать о тех странах, из которых приезжают разноцветные курсанты нашего военного училища, поэтому после моих бесчисленных вопросов отец принес и повесил на стену политическую карту мира. Наша Родина была обозначена на ней красным цветом. Отец сказал, что я должен выучить названия всех стран и их столиц, а в качестве иллюстраций стал приносить мне монеты, которые он получал как сувениры от своих курсантов-иностранцев. Постепенно у меня собралась внушительная коллекция. Монеты были все такие интересные: на гербах – разные животные, которых я и в зоопарке не видел, а на некоторых – даже наш автомат Калашникова – АК-47. Проще всего мне давались столицы Латинской Америки – я их выучил быстро, но вот с Африкой было сложнее: Виндхук, Нджамена – было даже трудно выговорить, не то что запомнить…
Иногда отец устраивал мне экзамен: ставил спиной к стене и «гонял» по карте. Особенно это ему нравилось, если он бывал нетрезвым. В такие минуты я размышлял о словах матери «про водку и про дружков».
Наконец я решился спросить деда, почему мы не можем ездить на юг к морю, как некоторые. Он нахмурился и спросил, с чего это я взял. Я пытался выкрутиться, чтоб выгородить маму, и перевел вопрос в более общую плоскость:
– Деда, если мы живем при социализме и у всех всего должно быть одинаково, то почему же тогда у некоторых есть много, а у других – почти ничего.
– Что ты имеешь в виду?
– У некоторых есть машины, магнитофоны, они ездят на Черное море купаться. А у нас нет даже квартиры.
– Квартира у вас будет – ты знаешь, что военные переезжают с места на место. А что касается всего остального… хоть мы живем при социализме, но люди все равно разные. Есть люди жадные, которые живут ради вещей и ради денег, они стараются накопить как можно больше. А есть люди, которые живут ради знания. Вот ты ради чего живешь?
Я вспомнил про свою коллекцию монет и задумался: для чего я их собираю? Вначале я хотел выучить названия стран и их столицы – значит, ради знания. Но теперь я выучил все страны, а страсть к монетам осталась – у меня их становилось все больше и больше. Для чего я их коплю – для знаний или для денег? Я рассказал деду про монеты. Он грозно ответил:
– Деньги – зараза! А ты коллекционируешь заразу со всего мира!
– А что же мне делать?
– Как что? Выкинуть! В этом твоем собирательстве нет ничего хорошего!
Я промолчал: это был первый раз, когда я в глубине души не захотел слушаться деда, а пошел и припрятал свои монеты на всякий случай подальше.
Баня, газировка и мороженое
Поход с дедом в баню – настоящий праздник для нас. Всю неделю мы собираем «трюльники» – трехкопеечные монеты, ведь в бане стоит автомат газированной воды. Там за три копейки можно налить стакан газировки с сиропом, и мы с братом ходим в баню только из-за этого.
В общем, деду нужна баня, а нам нужна газировка. Это компромисс стариков и детей: мы соглашаемся с ним идти париться за газировку, он соглашается угощать нас газировкой, если мы идем с ним в баню. А баня для деда очень важна – туда он ходит не просто помыться, а как в клуб – встретиться со своими друзьями и однополчанами. Для нас же все его друзья – на одно лицо, мне они напоминают состарившихся сказочных богатырей, покалеченных войной: кто безрукий, кто безногий. Только вместо щита с мечом у каждого – цинковый тазик в руке и дубовый веник под мышкой. А мы, внуки, только и ждем не дождемся, когда нас подпустят к газировке.
Но в парилке интересно. Действия бывалых завораживают: те снуют в дыму и совершают какие-то магические действия – ну прямо настоящие колдуны! То нальют на камни шипящую воду, то начнут как очумелые хлестаться вениками, то простынями в воздухе размахивают, обдавая всех таким жаром, что даже здоровые мужики кряхтят, хватаются за уши и нагибаются вниз.
– Вы, мелюзга, жарко будет – вниз спускайтесь! – поучают старики детей. – Внизу жара нет.
Конечно же, мы с Олежиком соревнуемся, кто дольше высидит. Но дед не разрешает нам сильно увлекаться:
– Ну хватит! Накалились – теперь марш водой обливаться!
И мы вместе с клубами пара выкатываемся из парной.
– Как заново родился! – с улыбкой хлопает себя дед по обвислым ляжкам, неторопливо одеваясь. А нам эта фраза непонятна…
– Дед, a можно уже…
– Оделись? Ну тогда ступайте! – и выдает нам горсть желтых монет.
…Олежик барствовал: бросал трюльник, наливал сироп и сразу же отдергивал стакан, чтобы пустая газировка текла мимо. Потом он повторял операцию – таким образом в его стакане скапливался чистый неразбавленный сироп. А я демонстративно пил чистую газировку, которую можно было налить за копеечку. Мы же с ним хоть и родственники, но живем по-разному: он – сын директора, хочет показать, что может все купить; а я – сын офицера, хочу показать, что могу обходиться без излишеств. Две философии, два образа жизни. Тогда я не знал терминов «сибарит» и «аскет», не знал истории богословских диспутов между «стяжателями» и «нестяжателями», но суть нашего с Олежиком противостояния была той же самой.
А дед выступал в роли вселенского примиряющего начала – он наполнял газировкой с сиропом целую трехлитровую банку и брал ее с собой для нас домой. Там мы все дружно пили из одного источника, забывая о своих разногласиях.
Кроме газировки, в мире существовало еще одно огромное удовольствие – оно называлось «мороженое» и появлялось в нашей жизни в виде 40-литровой алюминиевой фляги для молока, которую прикатывали на перекресток улиц Комсомольская и Ленина. Тогда дед выдавал каждому из нас по 20 копеек, мы срывались из дома и бежали занимать очередь.
В этот раз дед вытащил трехрублевую бумажку и, положив на стол, объявил, что это – на всех. Леночка шустро подскочила к столу и забрала бумажку. Мы стояли в недоумении, пока Олежик не выскочил вслед за Леночкой в сени. Там что-то громко звякнуло, прошла минута, и зашел сияющий Олежик, размахивая купюрой со словами:
– Леночка не хочет мороженого и никуда, наверное, не пойдет!
При этих словах мы радостно побежали к заветному перекрестку, оставив Леночку наедине со своим горем.
Очередь уже была немаленькая, народ волновался – а всем ли хватит. Каждый по очереди протягивал 20 копеек, и толстая румяная продавщица не спеша накладывала ему большой ложкой в вафельный стаканчик заветную белую массу. Затем ставила на весы, убирала излишки и угрюмо совала стаканчик в руки покупателю. Некоторые могли позволить себе больше – давали 30 копеек со словами: «Мне – 150!» И продавщица накладывала «с горкой» 150 граммов вместо ста. На таких людей очередь смотрела с уважением и завистью. Задние в очереди волновались и постоянно спрашивали у передних: «Посмотрите, на сколько там еще хватит?» И тут подошла наша очередь. Мы с Олежиком подготовились заранее – поставили на прилавок молочный бидон, шлепнули трехрублевой купюрой и внятно произнесли: «Нам – на все!» Продавщица бровью не повела и начала скрести остатки со дна. Мы поняли, что назревает катастрофа. Следующие за нами беспокойно начали переваливаться с ноги на ногу, как пингвины в зоопарке. Послышались реплики:
– Че, я не понял, там все заканчивается, что ли?
– А эти два прыща все мороженое забрали?
– Мы тут час на жаре зря, что ли, паримся?
Все еще с виду сохраняя спокойствие, мы с достоинством закрыли крышку бидона, развернулись, направились в сторону дома и, только услышав в ответ на крики толпы ругань продавщицы: «Чего непонятно??? Совсем нет! Совсем! Можете языком флягу облизать!» – мы на всякий случай припустили вперед. Я сказал Олежику:
– Бежим через дворы!
Я еще не успел рассказать вам, что у нас были разработаны несколько маршрутов прохода через дворы к дому. Мы делали это с друзьями на случай ядерной войны. Если вдруг на нас нападут американцы, то мы должны быстро уйти из дома в безопасное место. В моей тетради был нарисован план района и обозначены маршруты отступления. Все соседние дворы мы знали досконально – где нужно доску от забора отодвинуть, где на крышу сарая по лестнице забраться, где пролезть через помойку.
Наше беспокойство было не напрасным – за нами быстрым шагом отправились два больших мальчика, но мы быстро затерялись во дворах. Прав дед, приговаривая: «Изучайте местность, на которой живете! Нас невозможно победить потому, что мы любим и знаем свою землю!»
Баба Маленькая
В церковь ходить было не принято – у родителей могли возникнуть проблемы на работе, ведь мой отец был коммунистом. Но прабабушке можно было все. Это был единственный человек, который мог себе позволить общаться с Богом в открытую. С моей легкой руки все родственники звали ее Баба Маленькая – так впервые я назвал ее, когда был еще младенцем. Меня, видимо уже тогда, поразил ее тщедушный сгорбленный вид. Она была очень-очень старенькая, помню ее рассказы про «Первую Империалистическую», в которую ей пришлось побыть сестрой милосердия.
Это маленькое иссохшее тело было волшебной лампой Аладдина, которая заключала в себе большого доброго джинна. Доброты ее хватало на всех, она окутывала ею, как утренним туманом, всю землю. Жила она в сказочной избушке, покосившейся до такой степени, что если вы уронили случайно на пол 20 копеек, или, как она по-старомодному называла, «двугривенный», то он мог укатиться в противоположный провалившийся угол. Спала Баба Маленькая на старинном сундуке, кроме икон и часов-ходиков, в избушке ничего не было, никакой особой утвари. Всем детям она приносила гостинцы: гривенник или двугривенный на мороженое, кусочек сахара или конфету, а если и этого не было, то горсть очищенных семечек. Семечки она сидела и чистила для нас сама. Все вокруг говорили, что она святая. Пенсию получала пять рублей в месяц. И еще она смешно, по-сказочному, выговаривала некоторые слова: «церьква», «четверьх» …
– Бабушка, а почему голуби ходят, а воробушки прыгают?
– Милок, это издавна так повелось. Когда римляне прибивали нашего Боженьку к кресту, воробушки приносили им гвоздики. А голуби жалели его, приносили водичку в клювике и поили. Чтобы люди помнили об этом, наш Боженька Иисусе наказал воробушков и связал им ножки…
Лично я всегда об этом думаю, когда смотрю на воробьев. А глядя на воробьев, вспоминаю Бабу Маленькую, а вспоминая о том, как она жила и как умирала, думаю обо всей Вселенной и о том, что мы о ней знаем и чего не знаем. Ведь мы сами – это лишь то, что мы знаем о себе и о мире. Где она, та граница, которая отделяет нас от не-нас? Где заканчивается наша Ойкумена? Процесс познания бесконечен, только вот времени нам выделено маловато.
Из-за этого маленького воробушка я каждый раз сам улетаю, как птичка, в своих мыслях так далеко, что не сразу могу вернуться.
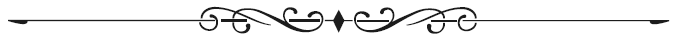
Часть третья. Индейцы и казахи
Новый дом – новые друзья
Вот мы и получили квартиру в новом офицерском доме! По количеству детей в семье нам вообще-то было положено по закону трехкомнатную (если дети разнополые). Отец ходил к командиру, но тот ему сказал, что если хотите получить квартиру сейчас, то нужно согласиться на двухкомнатную, а если не согласны – будете ждать трехкомнатную неизвестно сколько. Мама сказала, что синица в руке лучше, и мы поехали смотреть.
Вот этот дом – девятиэтажный, наша будущая квартира – на восьмом. Дом очень красивый, снаружи облицован мелкой квадратной плиткой и так выделяется на фоне окружающих его серых хрущевок-пятиэтажек! Тут даже лифты есть! Я никогда в жизни не забирался выше пятого этажа и не катался на лифте. Здесь все пахнет по-новому и создается хорошее настроение. Когда мы зашли первый раз в квартиру и посмотрели с балкона вниз, у меня закружилась голова. Как же я буду прыгать с десантного самолета? Вот как раз и буду привыкать – наверное, если долго смотреть вниз, то не будешь чувствовать высоты. А какой вид с балкона открывается прекрасный: наши окна выходят на лес, на запад. И район города называется красиво – «Западная поляна», как будто мы опять вернулись в любимую тайгу. В этом лесу, наверное, будет очень здорово гулять. Конечно, как в тайге, здесь не постреляешь за домом и зверей не увидишь, но все-таки это – настоящий большой лес, а не какой-нибудь городской парк.
Мы быстро переехали и начали знакомиться с соседями. Все они – офицерские семьи, которые приехали из разных частей нашей страны и даже из-за границы: из ГДР, из Чехословакии – отовсюду, где служат наши. У всех у нас есть что-то общее – одна судьба. Если служит отец, то по закону считается, что служит вся семья – и мать, и дети. Жена офицера может, например, сказать так: «Мы с мужем и детьми служили на Дальнем Востоке».
Первая к нам пришла знакомиться тетя Фая с Украины. Она встала у нас в дверях, заслонила весь проем и объявила:
– Борщ варю, а соли нет! Не одолжите?
– Так вы проходите!
– Та не, я быстренько! Здесь, в дверях постою!
Первые полчаса она и правда стояла, подперев косяки, не замолкая ни на секунду. Потом все-таки поддалась на уговоры мамы и прошла на кухню. Там они еще с полчасика посидели, а потом тетя Фая спохватилась, вспомнив про борщ, и убежала, забыв про соль. Через полчаса мы все у тети Фаи в гостях ели борщ, вареники и сало и слушали бесконечные веселые истории. У них была большая дружная семья – тетя Фая, ее муж Виталий Николаевич – замполит дивизии, который до этого служил военным советником в Эфиопии, и три сына, самый старший и хулиганистый – тот самый Димка Рыжий. Наши родители договорились идти в лес на шашлыки в следующие выходные – заодно и знакомство с новосельем отметить.
…Рыжий вышагивает впереди и несет на плече магнитофон, который орет голосами Высоцкого или группы Boney M. За ним идут взрослые и прут на себе замаринованное в уксусе мясо и необходимое для шашлыков оборудование: шампуры, топоры, бутылки и, конечно, незаменимые граненые стаканы…
– Где место выберем?
– Давайте вот на этой полянке у кривой березы! Смотрите, как красиво!
– И дров вокруг навалом! Решено!
– Тогда дети – за дровами, мужики – к костру и мясу, женщины – стол готовить и овощи резать!
Столом у нас служит расстеленная на траве плащ-палатка. Очаг сооружается из кирпичей, вместо скамеек – два бревна по краям плащ-палатки. И былинники речистые начинают свой бесконечный рассказ:
– А вот мы как-то в Африке с нашими эфиопскими товарищами поехали на охоту…
– Да в Забайкалье, между прочим, охота никак не хуже! И изюбр не уступает носорогу!
– Не сомневаюсь! Тогда – за охоту!
Вообще, над замполитами всегда подтрунивают – вроде как болтуны и пустобрехи, даже поговорка есть в армии: «Брешет, как замполит». Но замполит замполиту – рознь. Про Виталия Николаевича отец говорит: «Кремень-мужик», а отец толк в людях знает.
Вот я и, набравшись смелости, спросил его:
– Если вы так и впрямь любите армию, то почему говорите «чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона»?
– А одно другому не мешает – любить и говорить правду. Я тебе больше скажу: «Как надену портупею – все тупею и тупею!»
И они все заржали как кони, чокнулись и выпили за нашу Советскую армию.
В общем, что я хотел сказать: в нашем подъезде собрались хорошие веселые люди, и мы все быстро подружились. Детей разных возрастов много, и все пацаны собираются во дворе у турника. Турник – это наш спортивный клуб. Около него обсуждаются новости и меряются силой и ловкостью: по очереди крутят фигуры или играют в «лесенку» на подтягивания. Те пацаны, которые еще не доросли до турника, бегают вокруг с самострелами, сделанными из дощечки, бельевой прищепки и резинки от трусов. Стреляют такие самострелы вишневыми косточками или сушеным горохом. Но не дай бог им выстрелить в сторону турника, где разговаривают старшие, – так и самострела можно лишиться! Каждый стрелок мечтает поскорее сменить свой самострел на право подходить к турнику. Этот момент приходит тогда, когда авторитетное жюри принимает новичка в свою группу, – так мальчишеский коллектив воспроизводит себя, так происходит инициация.
Ленинград
Отпуск отцу дали зимой, и родители решили съездить в Ленинград – там один из сослуживцев разрешал нам пожить в своей пустой квартире. Сестра была еще маленькая, ее оставили у деда с бабушкой, а я поехал с родителями. Я давно мечтал попасть в Ленинград – в Москве-то я уже бывал, а вот в Ленинграде еще не доводилось. Хотелось посмотреть, как это – город на островах?
Чудеса начались с самого поезда. Четвертым в наше купе зашел представительный мужчина в гражданке, но по выправке я сразу мог определить, что он из наших – военный. Мы поздоровались, отец какое-то время приглядывался к нашему соседу, пока вдруг не объявил:
– А я вас узнал! Вы – космонавт Макаров! – Неудивительно, ведь мой отец знал всех хоккеистов и космонавтов в лицо.
– Вы не ошиблись! – улыбнулся наш сосед.
До этого я думал, что космонавты – это почти боги, и с простыми смертными они не разговаривают и уж тем более в одном купе не ездят. Ан нет! С нами вот едет сам космонавт Макаров! Сидят с отцом, рассказывают всю дорогу анекдоты друг другу. Вот встали и пошли в вагон-ресторан, вернулись с бутылкой армянского коньяка и скомандовали мне «отбой». Я не хотел подводить отца: перед космонавтом нужно было показать, что у нас с дисциплиной все в порядке. Зато мне отдали верхнюю полку, о чем я всегда мечтал, и поезд меня быстро убаюкал.
Когда я проснулся, поезд стоял на перроне, а космонавта уже не было. Как будто он мне приснился. Зато с этого момента начинался для меня Ленинград.
Так вот он какой, Ленинград! Метель на Невском сбивала с ног, но нам не привыкать – мы же не неженки какие-нибудь, а сибиряки! У нас бураны и похлеще бывают! Зато в этом городе мне нравится все: и чебуреки, и пельмени в пельменной на Невском, и дворцы, и музеи. Экскурсовод в автобусе рассказывал о блокаде и о том, как жители, погибая от голода и бомбежки, спасали памятники, обкладывая их мешками с песком. Следы войны виднеются тут и там: вот колонна Исаакия, побитая осколками, вот знаменитая надпись на улице: «Внимание! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна!» Жители города-героя 900 дней сражались и не сдавались, а я пытался представить, сколько это – много или мало. Получается, почти половина времени, которое я провел в школе. Очень много… И еще экскурсовод говорил, что жители получали в день только 125 граммов хлеба. Мне показали этот кусочек. Я понял, почему мой дед сердится, если я не доедаю хлеб, хотя сейчас уже и нет войны. И не дай бог выкинуть кусочек в мусорное ведро – сразу получишь «на орехи»!..
Спасенные жителями города скульптуры – такие живые и такие разные: рвущиеся на свободу кони на Аничковом мосту, гибнущие матросы с корабля «Стерегущий» и мой старый знакомый еще по Забайкалью – путешественник Пржевальский. Хоть он и бронзовый, но я к нему подошел поздоровался и погладил его верблюда. Я понимаю теперь жителей блокадного Ленинграда: нельзя было допустить, чтоб эти памятники разбомбили фашисты – иначе бы от нашей истории ничего не осталось. А кто мы без нашей великой истории? Никто, первобытные люди!
В Эрмитаж мы не пошли: мама сказала, что это слишком надолго; зато ходили в Военно-Морской музей, где видели первую подводную лодку, похожую на бочку, в которой дед солит огурцы. В этом музее мы наконец-то отогрелись горячим чаем и блинами с вареньем. Мама даже не пошла на подводную лодку смотреть – осталась в буфете, – ну и зря. Представляете, в первой подводной лодке человек должен был сидеть и крутить педали, как на велосипеде. Не то что сейчас – у нас в Советском Союзе есть атомные подводные лодки, которые могут запросто стереть с лица Земли Австралию или даже Америку – стоит только кнопку нажать.
Потом мы попали в музей артиллерии в Кронверке: отец не мог пройти мимо – там такая коллекция старинного оружия!
В Петропавловской крепости мы посетили место казни декабристов. Тех, кого не казнили, отправили к нам в Сибирь. Все это было интересно, но самое главное событие было впереди.
На следующий день рано-рано утром мы подошли к светло-зеленому зданию с ротондой на стрелке Васильевского острова. Это был Музей этнографии имени Миклухо-Маклая. Нужно было занять очередь до открытия. Мы очень долго стояли на морозе и совсем замерзли. Я пошел погреться в соседнее здание. У входа на вахте сидела добрая бабушка, она спросила меня, что мне нужно.
– Здрасьте, я только чуть-чуть погреться, можно?
– Можно! А ты знаешь, что это за здание?
– Нет, откуда ж мне знать?
– Это Академия наук!
– О! Извините, я тогда пойду!
– Нет-нет! Можешь побыть! Иди посмотри на мозаику! – И она указала мне рукой наверх, где во всю стену было изображение всадника с саблей в руке.
– А кто это?
– А ты не узнаешь?
– Наверное, Петр Первый, – безошибочно определил я по характерным усам и треуголке.
– Да, а мозаику создал Михайло Ломоносов! Основатель первого университета! Может быть, ты в нем будешь учиться, кто знает!
Потом бабушка провела меня наверх и показала конференц-залы с роскошной мебелью – это был настоящий дворец, каких я раньше в своей жизни не видел. Поблагодарив ее, я вспомнил, что нужно возвращаться к родителям, которые меня уже потеряли.
Музей этнографии, как и весь город, был основан самим Петром Первым. Вначале он назывался Кунсткамера – комната редкостных диковин. С него начались все музеи в России. Петр Первый был странным человеком, и коллекции у него были странные: коллекция заспиртованных младенцев-уродов, коллекция собственноручно вырванных зубов своих придворных и другие занятные вещицы, вызывавшие удивление. Но это было только начало. Я не предполагал, что за дверью этого зала открывался целый мир – безбрежный и интересный – мир разных народов, населяющих Землю.
Видимо, заспиртованные уроды взбудоражили детское сознание, сделав его более восприимчивым к новому, и после этого меня захватило и понесло по волнам вслед за великими путешественниками к папуасам в Новую Гвинею, к аборигенам в Австралию, к грозным самураям в Японию, к свободолюбивым индейцам в Америку.
Поразительно, как много следов оставили в дальних странах наши мореходы. На экскурсии нам рассказали, что гавайский король Камеамеа был другом нашего моряка Василия Головнина, а русский ученый Миклухо-Маклай жил среди папуасов. Благодаря таким смелым путешественникам люди в таких дальних краях узнавали о нашей Родине! Жалко, что все страны и острова уже открыты. А может быть, осталось где-нибудь что-то неоткрытое? Но, увы, белых пятен на карте уже нет… Только Антарктида, но там никто, кроме пингвинов и полярников, не живет. Какая это прекрасная работа – изучать жизнь других народов и всем им рассказывать о нашей великой стране!!! Это гораздо более интересно даже, чем сидеть далеко в тайге и защищать границу… Хотя и то и другое, конечно, нужно. По крайней мере, с отцом лучше этот вопрос, наверное, не стоит обсуждать…

