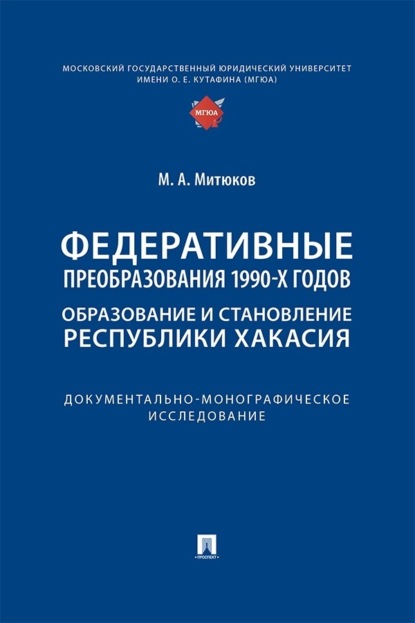
Полная версия:
Федеративные преобразования 1990-х годов. Образование и становление Республики Хакасия. Документально-монографическое исследование
Информация о вышеназванной конференции уже в конце сентября – начале октября 1989 г. была известна и в автономных областях. Двадцать второго октября «Советская Хакасия» опубликовала диалог заместителя редактора Н. Д. Огородникова с членом Верховного Совета СССР Л. И. Батынской. Собеседники затронули и тему автономий. Людмила Ивановна сообщила, что народные депутаты СССР в своем обращении, переданном М. С. Горбачеву, высказались о спорности «тезиса о незыблемости существующей структуры национально-государственного устройства СССР», противоречащего равноправию советских народов. «Мы убеждены, – заявили они, – что дальнейшее политическое неравенство в виде существующей четырехступенчатой иерархии нашей федерации (союзные и автономные республики, автономные области и округа) будет служить постоянным источником конфликтов на национальной почве»[71]. Надо заметить, что предложения об уравнивании в правах союзных и автономных республик, а также автономных областей и автономных округов высказывались и в ходе всенародного обсуждения проекта Закона СССР «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона СССР)» (1988–1989 гг.)[72].
Под влиянием этой концепции намечается широкий подход к понятию «субъект Федерации». Это, прежде всего, проявляется в проекте Закона СССР «Об обновлении Союзного договора и разграничении полномочий между Союзом ССР и субъектами Федерации», обсуждение которого в газетах происходило в первой половине апреля 1990 г.[73] А на последовавшем I Съезде народных депутатов РСФСР данный аспект вылился в требования отдельных депутатов от автономных республик (М. Г. Сабиров, А. Х. Галазов, М. Е. Николаев и др.) о повышении их статуса до союзной республики. А депутат от Хакасской автономной области Н. Д. Огородников 13 июня 1990 г. на первом заседании Совета Национальностей Верховного Совета РСФСР повторил известное сахаровское: «Нынешнее четырехступенчатое деление Федерации – республика, автономная республика, автономная область или округ – порождает неравенство между народами»[74].
Вообще, и в автономных областях, и автономных округах многие доброжелательно поддерживали сахаровскую концепцию устранения многовидости автономии и установления лишь одной формы – автономная республика (либо просто республика). Хотя следует отметить, что у значительной части интеллектуальной элиты России в начале 90-х гг. существовала и иная точка зрения на национально-государственное устройство России, право наций на самоопределение в различных формах государственности рассматривалось как «препятствие» для трансформации российского общества[75].
5. Идея непосредственного вхождения автономных областей в Российскую Федерацию в избирательной кампании 1990 г.
В избирательной кампании 1988 г. по выборам народных депутатов СССР проблема повышения статуса автономных областей РСФСР не являлась актуальной. В программах кандидатов в народные депутаты СССР она не звучала, в том числе и в Хакасии. В какой-то мере она упоминалась лишь на некоторых партийных форумах.
В последующей избирательной кампании в союзных республиках отношение к этой проблеме изменилось. Это очевидно на примере ХАО. Кандидаты в народные депутаты РСФСР от избирательных округов на территории Хакасии в этой предвыборной кампании выступают, как правило, с обещаниями позаботиться о ее становлении как автономии «в подлинном смысле слова» (Н. Д. Огородников)[76], «о повышении статуса автономной области» (В. М. Торосов) и т. п.[77] «Хакасская автономная область выросла из своих одежд, – комментировал я свою предвыборную программу, – и дальнейшему эффективному экономическому и социально-культурному развитию ее в большей мере соответствовал бы статус автономной республики. Первым шагом к которой мог бы стать выход из края (хотя с точки зрения действующей конституции и практики можно было бы и избежать этого промежуточного варианта)»[78].
Как свидетельствуют результаты выборов народных депутатов РСФСР в автономных областях, победили те кандидаты, которые поддержали идею преобразования их статуса.
6. На I Съезде народных депутатов России относительно статуса автономных областей
Проблема автономных областей на этом съезде «всплывала» неоднократно. Уже на третий день его работы в докладе Председателя Совета Министров РСФСР А. В. Власова о социальном и экономическом положении России отмечалось, что на основе союзного законодательства «предстоит также резко расширить права автономных областей и округов, придать им статус субъектов РСФСР»[79]. Отвечая на вопросы депутатов, он специально подчеркнул необходимость «выравнивания положений автономных образований», выделяя в числе их Хакасию, а также пообещал поддержать и рассмотреть «предложения от ряда автономных областей о преобразовании их в автономные республики, а национальных округов – в автономные области»[80].
На другой день в прениях по названному докладу народные депутаты РСФСР, руководители Горно-Алтайской и Еврейской автономных областей В. И. Чаптынов и М. М. Кауфман обнародовали свое предложение, юридическая суть которого сводилась к тому, чтобы ст. 82 Конституции РСФСР изложить в новой редакции: «Автономная область входит в состав РСФСР на основе свободного самоопределения народа». Это обосновывалось тем, что вывод автономных областей из соответствующих краев обеспечит им «политическое, юридическое, экономическое, да и нравственное равноправие со всеми народами России»[81].
Выступая 25 мая в качестве кандидата на пост Председателя Верховного Совета РСФСР, Б. Н. Ельцин уделил первостепенное внимание конституционным реформам. Они, по его мнению, должны охватить принятие не только Декларации, но и Закона о суверенитете России в составе обновленного Союза, Закона о национально-государственном устройстве и подготовку Федеративного договора, регулирующего отношения внутри Федерации. Среди первоочередных законов он назвал, в частности, законы о суверенитете автономий[82]. Это, естественно, взбодрило представителей автономных областей, поскольку претендент на высший пост в России говорил обо всех автономных образованиях в целом, не выделяя их виды.
Другие кандидаты на пост Председателя Верховного Совета РСФСР относительно статуса автономных областей были весьма осторожны. Так, А. В. Власов на вопрос: «Не наступила ли пора преобразовать автономные области в автономные республики?» ответил уклончиво, мол, надо при Президиуме создать Совет Федерации автономных образований, чтобы решить эти вопросы. Считает, что отношения с автономными образованиями надо строить на основе договоров[83].
Зондирование насчет отношения к совершенствованию статуса автономных областей было продолжено и в ходе избрания заместителей Председателя Верховного Совета РСФСР. На мой письменный вопрос: «Как Вы видите пути совершенствования статуса автономных областей и республик?» один из кандидатов – С. М. Шахрай[84] – ответил, что ему кажется, «автономные области должны выйти на прямое подчинение республиканским структурам, не теряя сложившихся экономических контактов с краями, в которые они входят…»[85]
На съезде проявилось противоречие между автономиями и не автономиями. Особенно жаркие баталии разгорелись вокруг ст. 9 Декларации о суверенитете РСФСР, в проекте которой по требованию представителей автономных образований закладывалось демократическое решение вопроса о повышении статуса автономий. Однако это не было воспринято основной массой народных депутатов, которые весьма демократично мыслили о повышении суверенитета РСФСР, но не смогли таким же образом думать о расширении статуса автономий[86]. Комиссия по подготовке Декларации, как заявил ее председатель О. И. Тиунов, «конкретикой не занимается»[87].
По предложению Б. Н. Ельцина ст. 9 была проголосована в формулировке: «Съезд народных депутатов РСФСР подтверждает необходимость существенного расширения прав автономных республик, автономных областей, автономных краев, равно как и краев и областей РСФСР, что конкретно должно определяться законами РСФСР». Это предложение принято конституционным большинством (за – семьсот восемьдесят из девятисот присутствующих)[88]. Оно, как признают современные отдельные исследователи, несмотря на свою абстрактность, придало движению автономий за изменение статуса необратимый характер[89].
Шестнадцатого июня депутация Хакасской АО передала в секретариат Съезда подготовленные мною предложения по проекту Закона РСФСР «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) РСФСР». Эти предложения подписали все народные депутаты от Хакасии (В. Н. Вознесенский, М. А. Митюков, Н. Д. Огородников, А. А. Симонов, В. Н. Штыгашев). В них предлагались поправки, вытекающие из Декларации о государственном суверенитете РСФСР, Закона СССР от 26 апреля 1990 г. и другие, направленные на совершенствование статуса автономных образований[90].
Выступая на I Съезде народных депутатов РСФСР, я заявил о необходимости исключения из действовавшей тогда Конституции 1978 г. указания о вхождении автономных областей в состав краев[91]. К этой теме по мере продолжения Съезда постепенно изменялся подход и в политическом руководстве страны в целом, и в РСФСР. Так, на вопрос Председателю Совета Министров РСФСР о выходе автономных областей из краев в непосредственное подчинение РСФСР А. В. Власов на этот раз (а это было уже повторное обращение) ответил, что к этой идее он относится положительно[92].
Но на местах, особенно в краевых центрах, партийные и советские органы идею выхода автономных областей из краев встретили прохладно, а в некоторых случаях «в штыки»[93]. В частности, председатель Карачаево-Черкесского облисполкома В. И. Хубиев 12 июля 1990 г., на заседании рабочей группы Конституционной комиссии, «взволнованно рассказывал о препятствиях, которое чинит руководство Ставропольского края идее о прямом подчинении Карачаево-Черкесской АО центру, минуя край»[94].
По-иному понимали повышение статуса автономных областей и некоторые ученые-юристы университетов, базирующихся в краевых (областных) центрах. Ученые Красноярского госуниверситета В. Ардашкин и Т. Сахнова, например, считая необходимым повысить статус автономий, полагали предоставить автономным областям и округам лишь право законодательной инициативы и представительства не только в Верховных Советах СССР и РСФСР, но и в краевых (областных) советах[95].
Среди относительно позитивных мер взаимоотношения Красноярского края и Хакасской автономной области в тот период можно назвать лишь проект регионального хозрасчета «Основные принципы расширения экономической самостоятельности Красноярского края», в котором предусматривалось, что краевой Совет обязан обеспечивать автономные права Хакасской автономной области на свободное развитие национальной культуры и языка, традиционных видов трудовой деятельности. Инструментом осуществления национальной политики предполагались целевые фонды национального развития за счет средств союзного, республиканского, местного бюджетов, общественных организаций, пожертвований предприятий и отдельных граждан[96].
Реакцией центра на нарастающие устремления Хакасии выйти из Красноярского края было и постановление Совета Министров РСФСР «О первоочередных мерах по переводу Хакасской автономной области на новые условия хозяйствования на основе самоуправления и самофинансирования», объявленное в начале января 1990 г. в Абакане. Естественно и то, что «аллилуйю» пропели сему решению секретари обкома и заместители председателя облисполкома В. Ю. Абраменко, Н. И. Кобыляцкий, В. М. Торосов, Е. Ф. Филатова.
По исследуемому сюжету вспоминаю пример из личной политической практики: принимая правила «ограничительного» понимания повышения статуса автономной области, я в качестве народного депутата Красноярского краевого Совета на первой его организационной сессии в апреле 1990 г. от имени хакасской депутации предложил избрать одного из заместителей председателя этого Совета от автономной области и на паритетных началах сформировать постоянные комиссии, исполнительный комитет. Такое предложение было отвергнуто по инициативе тогдашнего председателя Красноярского Совета, первого секретаря крайкома КПСС О. С. Шенина, избранного через некоторое время членом Политбюро и секретарем ЦК КПСС[97].
А постановлением Президиума Красноярского краевого Совета уже от 31 сентября 1990 г. предусматривалось, что районы и города, которые не пожелают быть в Хакасской автономной области, решившей выйти из края, могут остаться в нем. Это было не что иное, как призыв к переделу территории автономной области[98]. Надо заметить, что и новый первый секретарь Красноярского крайкома КПСС Г. П. Казьмин (бывший руководитель хакасских коммунистов) стал придерживался мнения, что «…ни Хакасская автономная область, ни один из национальных округов не смогут, пользуясь лишь своими возможностями, не получая дотации из центра, динамично развиваться»[99].
7. Автономная область – субъект Российской Федерации?
До 1990 г. в советском государствоведении господствующим было положение, что субъектами Российской Федерации являются только автономные республики. В отношении же автономных областей и автономных округов такое утверждение признавалось дискуссионным[100]. Но следует напомнить, что еще нарком юстиции Д. И. Курский в дебатах, связанных с подготовкой проекта Конституции РСФСР 1925 г., разъяснял: «Если исходить из понятия Федерации как государства, объединяющего отдельные части и являющегося государственным образованием, то следует принять, что не только автономные республики, но и автономные области являются членами Федерации»[101]. В позднесоветское время предложение о воплощении в законодательстве государственно-правовой идеи о том, что автономные области, как и автономные республики, являются субъектами Российской Федерации, можно встретить в письме исполкома облсовета Хакасской АО от 19 апреля 1977 г. в отдел по вопросам работы Советов Президиума Верховного Совета РСФСР[102].
На I Съезде народных депутатов РСФСР уже многими воспринималось, что все автономии – субъекты Российской Федерации[103], и акцент дискуссии переносился на то, являются ли ими составляющие большую часть территории России административно-территориальные единицы – края и области[104]. Это смещение акцента также объективно способствовало последующему конституционному оформлению вывода автономных областей из краев с непосредственным включением в состав Российской Федерации.
Затем идея вывода автономных областей из краев звучит на разного рода ведомственных мероприятиях. Так, 11 июля на рабочем совещании по выработке концепции национально-государственного устройства РСФСР с участием членов Конституционной комиссии и комиссий Совета Национальностей Верховного Совета РСФСР, ученых в области национальных отношений д-р филос. наук И. В. Кормушин высказывается о необходимости «сломать подчинение автономий краям». В этот же день на втором заседании рабочей группы и группы экспертов Конституционной комиссии проф. Б. А. Страшун отметил, что самый трудный вопрос для Конституции – о национально-государственном устройстве. В качестве выхода из этой «трудности» могут быть использованы: Федеративный договор, образование территориальных республик, отказ от подчинений автономий краям (областям) и перевод их непосредственно под Федерацию[105].
8. «Увязка» статуса автономных областей с идеями Федеративного договора и Союзного договора
С середины 1990 г. статус автономных областей затрагивается и в контексте начавшейся работы над проектом Федеративного договора, который, по мнению части народных депутатов, должен был учесть новую реальность в национально-государственном устройстве России. А она заключалась к тому времени в том, что ряд автономных республик объявили себя суверенными (а это требовало глубокого переосмысления их статуса не только в составе РСФСР, но и Союза ССР), значительное число автономных областей и округов декларировали о повышении статуса[106], а затем и преобразовании в автономные республики. Тогда я разделял мнение, что автономные области и округа, по существу, были обыкновенными административно-территориальными единицами, занимающими промежуточное положение между краем (областью) и районом[107], что в публицистике и политологии уничижительно называлось «провинцией провинции»[108]. Поэтому проблема совершенствования их статуса многие годы сводилась к совершенствованию взаимоотношений с краем и областью[109].
В связи с этим в «Тезисах по поводу Федеративного договора» (16 августа 1990 г.) я писал: «Опыт предыдущего национально-государственного строительства, как бы мы критически ни относились к нему, не может быть отброшен. Поэтому четко, недвусмысленно должно быть заявлено, что участниками Федеративного договора могут быть все нынешние автономные республики, автономные области и округа (причем в новом статусном положении с учетом происшедших преобразований). В Федеративном договоре сможет быть, в принципе, и решен вопрос, что национально-территориальные субъекты РСФСР могут иметь одну форму (республика, входящая в РСФСР) либо две (договорная республика и автономная республика). В обоих названных случаях предусмотреть преобразование автономных областей и округов в автономные республики (либо в договорную республику). Естественно, это должно произойти с их согласия. При нежелании такого преобразования можно предусмотреть сохранение их в прежнем правовом положении либо в том, которое планируется в рабочей основе проекта Конституции РСФСР (речь идет о земле, федеральной территории)»[110].
Поэтому уже в одном из первых проектов Федеративного договора, подготовленных мною, указывалось: «Автономная область – национально-государственное образование, входящее в состав РСФСР и являющееся субъектом РСФСР» (ст. 4)[111].
При обсуждении одного из вариантов проекта Федеративного договора было обращено внимание на то, что он мало похож на юридический документ и из него неясны участники договора. Тогда было замечено: «А вы знаете, что существуют декларации о государственном суверенитете республик? Советы автономных областей и автономных округов уже определились в этом вопросе. Поэтому Федеративный договор должен исходить из признания реальности в национально-государственном устройстве, из признания деклараций о государственном суверенитете республик, постановлений Советов народных депутатов автономных областей и округов. И те, кто подписывает Федеративный договор, должны быть четко обозначены, кем они являются»[112]. Дискуссия по поводу участников Федеративного договора, но уже с участием Председателя Совета Национальностей Р. Г. Абдулатипова, завершилась лишь на одном из следующих заседаний Совета Республики[113].
Начало работы над Федеративным договором исторически совпало с «Ново-Огаревским процессом» 1990–1991 гг.: подготовкой и разработкой Союзного договора, в которых участвовали представители союзных и автономных республик[114]. Республики, образованные из прежних автономных областей, непосредственно не участвовали в общесоюзных мероприятиях по подготовке и обсуждению многочисленных версий проекта Союзного договора. Народные депутаты РСФСР, избранные ранее на территориях этих областей, имели возможность высказаться по поводу Союзного договора лишь на сессии Верховного Совета РСФСР либо в печати[115]. А на встрече Президента СССР М. С. Горбачева с лидерами российских автономий 12 мая 1991 г. в рамках подготовки Союзного договора участвовали лишь представители шестнадцати существовавших тогда автономных республик РСФСР и Абхазии[116]. Представители же автономных областей и автономных округов, заявивших к тому времени о своих республиканских амбициях, не приглашались. Очевидно, что Союзный центр не учитывал их в качестве участников нового федеративного строительства.
Председатель же Совета народных депутатов Хакасии В. Н. Штыгашев, выступая 5 апреля 1991 г. на III (внеочередном) Съезде народных депутатов, заявил: «Что касается Союзного договора, то все бывшие автономные области, провозгласившие свой республиканский статус, готовы участвовать в его подписании в единой делегации РСФСР во главе с Председателем Верховного Совета»[117].
Возвращаясь к Федеративному договору, следует отметить, что после его подписания, в том числе и представителями Хакасии, ее упоминание в связи с этим актом стало любимым клише у отдельных политиков, журналистов и юристов, критикующих последний за установление якобы неравноправия между республиками и краями (областями)[118]. В сравнительном ключе они необоснованно и спекулятивно полагали, что Хакасия якобы имеет больше полномочий, чем Красноярский край. Так, на одном из круглых столов в 1993 г. С. Н. Бабурин не преминул заметить: «…я никому не смогу объяснить, почему Республика Хакасия, в которой собственно хакасов 11 %, должна сегодня иметь преимущества перед Красноярским краем… Считаю, что этот вопрос нужно решать не так, как это делается в ныне действующем Федеративном договоре»[119].
9. Самоопределение автономных областей: как это происходило в Хакасии
Важным событием 1990 г. был I Съезд хакасского народа (10–11 августа). Уже на стадии его подготовки началась организационная борьба национально-демократического крыла «Туна» и Хакасского обкома КПСС в лице национальной партийной номенклатуры за влияние на этот зарождающийся институт общественного самоуправления[120]. Председателем оргкомитета названного съезда стал А. Ф. Трошкин – бывший завотделом обкома КПСС, который предварительно опубликовал в областной печати свой доклад, насыщенный интересным статистическим и другим иллюстративным материалом. Но настораживало предложение об устройстве представительного органа в автономных областях на двухпалатной основе. Причем Совет Национальностей должен избираться по национальному признаку. В этой палате представителей народа, давших имя области, должно быть не менее 50 %. Такой механизм представительства, по мнению А. Ф. Трошкина, законодательно компенсировал бы интересы коренных жителей, связанные с демографическими процессами[121].
Но подобная постановка вопроса была весьма сомнительна, не увязывалась с общедемократическими принципами, могла породить и другие проблемы[122].
На съезде в выступлении В. М. Торосова «О социально-экономических проблемах Хакасии» от имени коренного народа было предложено записать в Резолюции требование о выводе Хакасии из состава Красноярского края и переводе ее в статус автономной республики. «Это инициатива нашего этноса, – подчеркивал оратор, – но она продиктована и преследует интересы всего населения Хакасии»[123]. Был заслушан и мой доклад о государственно-правовом положении Хакасии[124]. «Повышение государственно-правового статуса, – говорилось в нем, – реально возможно, если эта идея станет составной частью демократических преобразований и будет отражать чаяния всего населения области, всех наций и народностей; это возможно в случае, если требования Резолюции будут соответствовать демократическим принципам равенства всех граждан независимо от национальности, расы, международной Декларации прав человека»[125].
Съезд хакасского народа принял ряд решений, в том числе резолюции «О современных проблемах хакасского народа и путях их решения» и «О государственно-правовом статусе Хакасской автономной области (о выходе ее из Красноярского края и преобразовании в Хакасскую автономную Советскую Социалистическую Республику»)[126].
Областной Совет народных депутатов согласился с итогами работы этого съезда[127] и принял постановление о преобразовании Хакасской автономной области в существующих границах в автономную Советскую Социалистическую Республику и просил народных депутатов СССР и РСФСР от Хакасской автономной области поддержать в Верховном Совете РСФСР и Конституционной комиссии решение сессии Совета народных депутатов Хакасской автономной области[128]. Это дало впоследствии основание некоторым ученым для мифологической интерпретации решения Первого съезда хакасского народа как решения всего населения автономии[129], хотя для такого вывода недостаточно как юридических, так и социологических оснований.
Решения съезда и III сессии областного Совета народных депутатов Хакасской автономной области[130] вызвали диаметрально противоположные отклики. Заведующая кафедрой АГПИ М. Т. Кабелькова, делясь впечатлениями о недавно прошедшем съезде хакасского народа, заявила, что съезд принял «решения очень уникальные, конструктивные о самостоятельности, выходе из края и повышении государственно-правового статуса Хакасии». Эти проблемы Мария Терентьевна назвала «не национальными, а общенародными». По ее мнению, «если решения по ним осуществятся, то улучшатся условия жизни и для моего народа, и для всех других народов, проживающих здесь»[131]. Первый заместитель председателя исполкома Хакасии М. И. Швалев, наоборот, призывал в экономических преобразованиях «действовать не спеша, обдуманно». Он называет некоторые отрицательные моменты, связанные с отделением Хакасии от края: разрыв материальных ресурсов, оставшихся в крае, и др.[132] Несколько по-иному к этому вопросу подошел депутат облсовета А. Косовский, заявивший «оставить областное подчинение в составе РСФСР, что излишняя государственность разрушает единую Россию»[133], т. е. выступил против преобразования Хакасии в республику.



