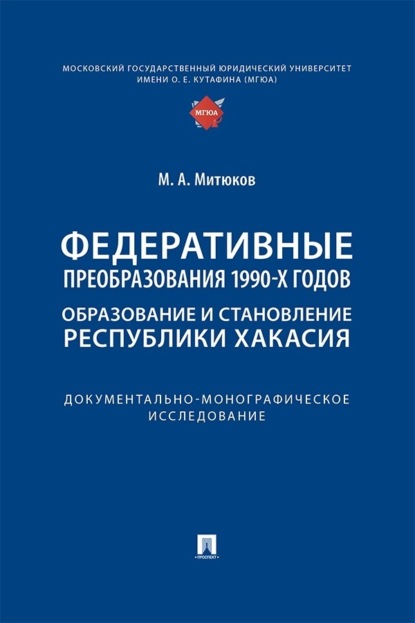
Полная версия:
Федеративные преобразования 1990-х годов. Образование и становление Республики Хакасия. Документально-монографическое исследование
Но и после того, как названные конституции сохранили status-quo автономных областей[23], отдельные исследователи считали, что предложение о выводе автономных областей из краев «не следует выбрасывать из “банка правовых идей” как абсолютно бесперспективное. Его желательно сохранить “в резерве” для использования как одну из рабочих гипотез для дальнейшего совершенствования статуса автономных областей РСФСР»[24].
Принятие в 1981 г. в РСФСР законов об автономных областях[25] на какое-то время предопределило, что этот вопрос стал рассматриваться под углом совершенствования названных законов, а точнее, объема полномочий Советов народных депутатов АО, характера их взаимоотношений с органами власти РСФСР и соответствующих краев, пока не затрагивая, по существу, главного – состояния автономных областей в составе этих административно-территориальных единиц[26].
Характерно, что новый импульс оживлению проблемы повышения статуса автономных областей придала критика их взаимоотношений с краями именно с точки зрения несоблюдения и нарушения краями законов об автономных областях. В частности, в 1988 г. на январском пленуме Красноярского крайкома партии первый секретарь Хакасского партийного комитета Г. П. Казьмин высказался о неэффективности сложившейся системы управления в крае, дублировании и мелочной опеке в отношении автономной области и обмолвился о необходимости децентрализации управленческих функций и полной реализации Закона о Хакасской автономной области[27].
Все изложенное, несмотря на отдельные нюансы в соответствующих научных и практических предложениях, подтверждает мнение ряда ученых о том, что проблема повышения статуса автономных областей, в том числе и Хакасии, возникла задолго до 90-х гг. прошлого столетия, когда она была реализована[28]. И в этом плане инициаторами переосмысления правового положения автономных областей являлись ученые (юристы, философы и др.) и деятели литературы, а не региональные комитеты КПСС, как это обосновывает Е. В. Реутов[29]. И поэтому требуют корректировки выдвинутые им положения о стадиях движения за преобразование статуса Хакасии и этапах этого преобразования[30] как с точки зрения хронологических рамок, так и содержательного аспекта. В них, к сожалению, гиперболизирована роль областного комитета КПСС и его первого секретаря Г. П. Казьмина в названных преобразованиях, преувеличено значение в этом союзного центра, проигнорированы все нормативные усилия Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР на пути изменения статуса автономных областей. Наконец, не учтены результаты юридической науки на этом поприще, начиная хотя бы с 50-х гг., а также «подвижничество» ученых ряда автономных областей в своих попытках обосновать состоятельность этой идеи.
По этим же причинам нельзя согласиться и с новейшей «более детальной разбивкой» А. В. Сабениной и Д. Н. Гергилевым периодизации преобразования статуса ХАО на четыре хронологических этапа: конец 1987 г. – январь 1988 г., июнь-июль 1988 г., февраль-декабрь 1989 г., 1990 – январь 1992 г., связывая ее в основном с именами первых секретарей обкома КПСС Г. П. Казьмина и даже В. Ю. Абраменко, резолюцией XIX Всесоюзной партийной конференции, учреждением арбитража в Хакасии[31].
2. Превращение идеи выхода автономных областей из краев из предмета научных изысканий в объект политики
В годы перестройки эта идея в конституционно-правовом аспекте стала одной из ключевых не только в региональном, но и общегосударственном масштабе, однако не бесспорной. Вплоть до середины 90-х гг. (да и сейчас) в определенных кругах многими вывод автономных областей, в том числе и Хакасии, из состава краев и преобразование их в республики оценивается отрицательно[32]. Но в конце 80-х гг., еще до известных соседних «тувинских» событий[33], с требованием положительно решить эту проблему выступали не только национальные[34], но и демократические организации. Абаканский городской клуб избирателей «Гражданин» в Хакасии в обращении к гражданам «Какой нам нужен депутат» сформулировал, что в программе народного депутата должно быть закреплено, что он «за выход автономной области из состава края и преобразование в республику»[35]. Позднее и в моей предвыборной программе можно было прочитать: «Я за вывод Хакасской автономной области из Красноярского края в непосредственное подчинение высших органов государственной власти и управления РСФСР (в перспективе за преобразование ее в автономную республику, а вообще против градации национально-государственных образований на различные формы автономий и считаю, что все они должны быть республиками). Это создаст новые организационно-правовые условия для развития экономики и культуры Хакасии, самостоятельного решения проблем экологии, языка, народного образования и охраны исторического наследия»[36].
В 1988–1990 гг. эта тема набирает оборот и в политической жизни Хакасской автономной области[37], и в «маневрах» вокруг нее партийного (обкома КПСС) и советского руководства[38]. Работают над ней и местные юристы[39]. Здесь, как и в других автономных областях, «затяжка» с решением вопроса привела к смыканию с начавшимся в стране процессом суверенизации в союзных республиках и автономиях[40], и требование выхода из Красноярского края дополнилось лозунгом преобразования в республику.
В июле 1989 г. редактор газеты «Ленин чолы» Г. Г. Котожеков, выступая на круглом столе в Москве, в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, на секции «Совершенствование национально-государственного устройства: история и современность», среди ряда предложений высказал и такие, как: 1) вывести автономные области из краев в непосредственное подчинение РСФСР; 2) разработать критерии перехода из одной формы государственности в другую. Эти предложения были поддержаны и представителями Горно-Алтайской АО[41].
Семнадцатого августа 1989 г. в «Правде» публикуется проект платформы КПСС «Национальная политика партии в современных условиях». В нем было много интересных слов и положений о «расширении» и «повышении» статуса автономий. Но он страдал абстрактностью и неопределенностью. Естественно, это повлекло за собой оживленные дискуссии, в том числе и в автономиях. Уже 22 сентября 1989 г. решением XI сессии Горно-Алтайского областного Совета народных депутатов двенадцатого созыва «О повышении правового статуса области» постановлено просить Верховный Совет РСФСР вывести Горно-Алтайскую автономную область из состава Алтайского края и перевести ее в непосредственное подчинение органам государственной власти и управления Российской Федерации[42].
Не осталась в стороне и Хакасия. Двадцать пятого августа в редакции национальной газеты «Ленин чолы» состоялся круглый стол с участием вузовской и научной интеллигенции, партийных и советских работников, где ряд ораторов на основе экономического и социально-культурного анализа существующей ситуации подвели слушателей к необходимости осмысления идеи самостоятельности автономной области и ее вывода из Красноярского края. Отмечалось, что «проект платформы указывает, что переход автономной области в непосредственное подчинение РСФСР должен решаться в соответствии с волей населения области при условии, что решение о переходе должно быть обоснованным. Такая оговорка таит многие минусы. Во-первых, она сводит к нулю право нации на самоопределение. Население выскажется за выход из края, но кому-то покажется, что это высказывание необоснованно. Во-вторых, кому дано определять эту обоснованность? Не исключено, что ее будет определять край. И в этом случае воля населения будет торпедирована. Исходя из этого, как писала местная газета, было предложено слова “должно быть обоснованно” из проекта платформы исключить. Дополнить этот абзац предложением: вопрос о выходе автономной области из края выносится Советом народных депутатов области на референдум населения области. По результатам референдума определяется вопрос о непосредственном подчинении автономной области органам государственной власти и управления Российской Федерации»[43]. Бывший председатель облисполкома В. А. Угужаков утверждал, что экономическое развитие позволяет Хакасии быть республикой. «Автономия нам не подходит, – сказал он, – открыто надо об этом заявить». Но М. И. Швалев (Абаканский ГК КПСС) поставил под сомнение эту идею, одновременно подчеркнув, что «автономная область должна иметь прав не меньше, чем административная область».
Заседание дискуссионного клуба в Доме политпроса (Абакан, 23 сентября 1989 г.) уже вполне естественно для того времени завершилось заявлениями о выходе автономной области из края, который не уделяет внимания языку и национальной культуре (В. П. Балахчин), и о том, что в самой области «у власти находятся неинтересные люди», которых один из лидеров демократов О. Е. Жуганов призвал переизбрать[44].
Для меня же было ясно одно, что изменение статуса Хакасии потребует целого комплекса конституционных мер (как на уровне СССР, так и РСФСР). Да и позиция края здесь не последняя. Необходима тактика постепенности. Программа-минимум: непосредственное вхождение автономной области в состав РСФСР… Замечу, объективно по этому сценарию и начал развиваться процесс преобразования автономных областей в республики. В 1989 г. мною был разработан «механизм изменения государственно-правового статуса Хакасии» в рамках осуществления названной программы. Первым шагом в его реализации предполагался вывод автономной области из края под непосредственную юрисдикцию РСФСР, предварительно выявив мнение населения по этому поводу. Естественно, что для этого планировался местный референдум. Задачей второго шага в этом механизме называлась разработка проекта нового Закона о Хакасской автономной области, закрепляющего ее статус самостоятельного субъекта Российской Федерации[45].
Партийные и советские органы придерживались выжидательной позиции. Г. П. Казьмин, первый секретарь Хакасского обкома КПСС, 6 октября выступил со статьей «Жить и работать в дружбе», написанной по следам завершившегося Пленума ЦК КПСС[46]. Сообщил, что ему «по понятным причинам» не удалось выступить при обсуждении платформы КПСС по национальным отношениям. Но из многословных суждений можно сделать вывод, что Казьмин считал, что еще не исчерпаны резервы для развития автономной области в рамках края. Он полагал, что сейчас главная задача – «наполнить реальным содержанием права национальных автономий», а «выход автономной области из состава края произойдет <…> на более высоком этапе нашего развития. Для этого нужна более мощная социально-экономическая база, и надо ее усиленно готовить».
Ответом на публикацию партийного лидера явилась статья и. о. завкафедрой философии АГПИ канд. философ. наук В. И. Ивандаева. Автор подметил «диалектические» зигзаги Г. П. Казьмина и М. И. Швалева, «которые вначале декларировали идеи подлинной автономии Хакасии, независимости ее как национально-государственного явления от Красноярского края – административно-территориальной единицы РСФСР, а теперь же в результате централистского краевого давления сверху и адаптированной к этому давлению экономической “экспертизы” посредством отбора, акцентирования, гиперболизации, символики и типизации разного рода статистических факторов смоделировали логическую конструкцию о нецелесообразности выхода Хакасии из-под диктата края!»[47].
Ценность этой статьи, несмотря на ее «мудреную» стилистику, на мой взгляд, в том, что философ тогда еще пытался раскрыть поставленную в заголовке тему с позиции общедемократического подхода, радикальных преобразований в стране и Хакасии, претворения реальной демократии – власти народа, равенства всех национальностей и сплоченности демократических сил. Завершая статью, В. И. Ивандаев писал: «…существуют принципиально разные системы отсчета в отношении путей и методов решения проблем Хакасии. Если обком партии за решение всей совокупности проблем Хакасии как национально-государственного образования в рамках прав административно-территориальной единицы РСФСР – Красноярского края, то ОДХ (Общественное движение Хакасии. – М. М.) за реализацию проблем Хакасии в масштабе ее национально-государственных конституционных прав. А это несопоставимо разные уровни решения социальных проблем на нашей земле». К сожалению, позднее идеи В. И. Ивандаева начинают приобретать несколько националистический характер. Он начинает упрекать «руководство, особенно русскоязычное», в том, что оно не прониклось идеей преобразования Хакасии в автономную республику, «недостаточно активно борется за нее»[48].
Очевидно, что уже в 1989 г. идея выхода автономной области из состава края из предмета научных изысканий превратилась в объект политики, ее стала осваивать и местная номенклатура. В. Н. Штыгашев на сессии Верховного Совета РСФСР говорил об этом как о более предпочтительном варианте даже по сравнению с преобразованием автономной области в автономную республику[49]. Другой представитель этой же когорты – И. И. Сукин – пишет о том, что возможность выхода Хакасии из состава края является «самым главным вопросом», и не согласен с обкомовским работником М. И. Швалевым, «что сама мысль о выходе области из края является реакционной»[50]. В это же время в печати стала высказываться идея о том, что в целях «действительного обеспечения прав коренного населения» необходимо в составе областного Совета создать палату, депутаты которой избирались бы только хакасским населением[51].
В конце октября 1989 г. появляется интервью заместителя председателя Верховного Совета РСФСР В. Н. Штыгашева с Н. Д. Огородниковым. Недавний зампред Красноярского крайисполкома, а до этого председатель Хакоблисполкома Владимир Николаевич Штыгашев уже позиционирует себя старшим научным сотрудником ХАКНИИЯЛИ. Он в перспективе не исключает возможности «подняться области на более высокую ступень <…> вплоть до образования автономной республики». Считает, что при этом увеличение аппарата не произойдет. Не возражал Огородникову о необходимости использовать референдум в качестве механизма выявления воли населения в решении этих проблем. Предложил заключить договор между Красноярским краем и Хакасией о сотрудничестве на пять-шесть лет[52].
В ходе обсуждения в 1989 г. проекта закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной Закон) РСФСР» в автономных областях предлагалось увеличить их представительство в создаваемом Совете Национальностей Верховного Совета РСФСР по сравнению с представительством в этой палате автономных округов[53].
Девятнадцатого декабря Г. П. Казьмин, первый секретарь Хакасского обкома, констатировал на пленуме, что, по итогам общественного мнения, жители Хакасии однозначно высказались за повышение статуса автономной области по всем направлениям. Разногласия наметились в определении путей и сроков проведения в жизнь этих предложений. Часть жителей настаивает на выходе из края и преобразовании автономной области в автономную республику. Другие высказываются за выход из края и предоставление прав на уровне самостоятельной области, а с накоплением опыта самоуправления поставить вопрос о преобразовании в автономную республику[54]. Третьи – за расширение статуса области в составе края.
Что касается предлагаемых сроков и темпов проведения изменений в статусе области, то их, по мнению Казьмина, можно условно свести к двум вариантам. Первый: предлагается провести референдум и немедленно поставить вопрос о выводе Хакасии из состава края и преобразовании ее в автономную республику. Второй вариант предусматривает ряд последовательных мер. А именно: на основе новых Конституций СССР и РСФСР, которые сейчас готовятся, разработать проект Закона о Хакасской автономной области и изменить ее политико-правовой статус. Собкор «Красноярского рабочего» Ю. Угольков в заметках с этого пленума Хакасского обкома КПСС сообщил, что «бюро обкома партии разделяет второй вариант [изменений в статусе области] <…>, а именно на основе новых Конституций СССР и РСФСР, которые сейчас готовятся, разработать проект Закона о Хакасской автономной области и изменить ее политико-правовой статус»[55]. Этот план, на мой взгляд, «страдал» неопределенной пролонгацией существующего положения автономной области, а также неясностью перспективы.
Ректор АГПИ С. П. Ултургашев предложил не откладывать дело в долгий ящик, дать поручение депутатам областного Совета в порядке законодательной инициативы разработать проект Закона РСФСР о Хакасской автономной области, положение о референдуме населения о выходе Хакасии из состава Красноярского края. Он не согласился с предложением связать разработку этих документов с принятием новых Конституций СССР и РСФСР. Но председатель Боградского райсовета А. Х. Итекбаев, как бы подчеркивая иной подход к данному вопросу, считал, что решать национальные проблемы надо не только с ориентировкой на коренное население, а и с учетом интересов всех национальностей, народностей, этнических групп, проживающих в автономной области[56]. По мнению Е. В. Реутова, к середине 1989 г. существовало и движение против выхода автономных областей из краев. Правда, об этом он судил пока по отдельным письмам и публикациям в местной печати о том, что выход повлечет «рост министерств и ведомств» и «бюрократического аппарата»[57].
Партийное же и советское руководство автономной области в течение 1988–1989 гг. неоднократно «модернизировало» либо меняло свою позицию по вопросу повышения ее статуса. Разительным примером в этом плане являлся вариант развития области, одобренный 1 декабря 1989 г. на заседании исполкома Совета народных депутатов ХАО. Он высказался за предоставление области полной экономической самостоятельности, сохранив ее временно в составе Красноярского края[58].
3. Реакция Союзного центра на проблемы автономных областей
Как известно, в период существования СССР статус автономных областей, прежде всего, определялся союзной Конституцией (ст. 86), а затем уже детализировался в конституциях союзных республик, имевших в своем составе такие области (РСФСР, Азербайджан, Грузия, Таджикистан). И главное конституционно-правовое отличие российских автономных областей было в том, что они включались в состав краев, что предопределялось административно-территориальным устройством РСФСР, в том числе историческими и экономическими особенностями ее развития.
Естественно, что в конце 80-х гг., когда вопрос о правовом положении автономных областей РСФСР стал переходить в практическую плоскость, у руководства этих областей и некоторых общественных движений теплилась надежда на поддержку партийного и государственного руководства СССР и его новых органов государственной власти, избранных в соответствии с изменениями 1988 г. в союзной Конституции. Однако этого не произошло.
В это время в связи с началом функционирования Съезда народных депутатов СССР выдвигаются и предложения к проекту новой союзной Конституции, в том числе и в отношении статуса автономных областей. В прежней еще конституционной парадигме, понимая, что статус автономной области не в последнюю очередь зависит от того, как его основы определены в общесоюзной Конституции, предлагалось ее, как выражались в терминологии того времени, подчинить непосредственно органам РСФСР[59]. В таком ракурсе ставился вопрос в записках руководства Горно-Алтайской автономной области о выводе ее из состава Алтайского края, направленных в Совет Национальностей Верховного Совета СССР и его постоянную комиссию по национальной политике и межнациональным отношениям[60].
Народный депутат СССР И. Н. Ботандаев (Хакасия) тогда сообщал своим избирателям, что в Верховном Совете СССР «о развитии автономных образований споры идут жаркие, но пока, что называется, в кулуарах… Мне видится, – говорил он, – выход автономной области из состава края на первом этапе. Только потом, наверное, можно и надо думать о создании Хакасской автономной республики»[61]. Другой союзный депутат, Л. И. Батынская (гл. ред. «Красноярского комсомольца»), также информировала участников круглого стола в Абакане о болезненной реакции Президиума Верховного Совета СССР, Азербайджана и Грузии на позицию автономий. По ее мнению, по этому вопросу нужен референдум[62].
Не получило тогда реализации и предложение хакасского областного руководства о внесении поправки в ст. 86 Конституции СССР об исключении из Положения о том, что автономная область входит в состав союзной республики или края, последних двух слов. Это предложение было передано М. С. Горбачеву во время встречи с ним в Хакасском обкоме партии[63]. Аналогичная судьба постигла обращение от имени населения Хакасии ко II Съезду народных депутатов СССР по поводу негативного влияния существовавшего статуса автономной области на ее национальное развитие[64].
На самом же съезде народным депутатам СССР от автономных областей выступить не удалось. Но в его стенографических отчетах опубликованы тексты несостоявшихся речей первых секретарей Адыгейского и Хакасского обкомов партии А. А. Джиримова и Г. П. Казьмина по вопросу, связанному с обсуждением доклада председателя Совета Министров СССР Н. И. Рыжкова «О мерах по оздоровлению советской экономики». Хотя и тексты областных партийных лидеров были подготовлены на тему этого доклада, в них содержались и отдельные «пассажи», касающиеся правового статуса автономных областей. Джаримов реагировал на ту часть доклада, где говорилось о выделении автономных образований, в том числе и автономных областей, как объектов самостоятельного планирования: их план социально-экономического развития и бюджет выделялись отдельной строкой. «Это мы рассматриваем, – писал он, – как первый шаг в повышении роли и правового статуса автономных областей»[65]. Казьмин в качестве последнего тезиса в своем тексте изложил: «Отдельно надо продумать и решить вопрос о выработке механизма повышения правового, политического и экономического статуса автономных областей. В частности, представляя интересы избирателей Хакасской автономной области, просил бы ускорить законотворческую работу по подготовке новых проектов законов об автономных областях и о пересмотре критериев и сроков повышения статуса автономных национально-государственных образований с тем, чтобы в новых правовых актах закрепить политическую линию, намеченную сентябрьским (1989 г.) Пленумом ЦК КПСС по национальному вопросу… Новый закон о национально-государственных образованиях, в том числе и об автономных областях, должен содержать в себе правовые нормы, дающие возможность повышать статус автоматически, по мере формирования достаточного уровня экономического развития»[66].
Таким образом, к концу 1989 г. руководители областных комитетов партии весьма осторожно и дипломатично излагают Союзному центру идею повышения статуса автономных областей, не упоминая о желании выйти из состава краев, отталкиваясь от необходимости совершенствования законов об автономиях. Но, видимо, под влиянием местной политической конъюнктуры, нарождающаяся идея преобразования автономных областей в республики все-таки подается, но в закамуфлированной форме пересмотра критериев повышения статуса автономных образований. Партийное же руководство краев в это время, не отрицая открыто правомерность постановки вопроса о выходе автономных областей, призывало к необходимости «осторожного подхода» к нему с точки зрения экономической[67].
Тематика автономных областей (их нередко обозначали термином «другие автономии» в противовес автономным республикам) если и обсуждалась на съездах народных депутатов СССР, то эпизодически и чаще всего попутно, мимоходом, с рассмотрением отдельных вопросов повестки дня. Например, при определении состава Комитета конституционного надзора СССР. Причем обычно с отрицательным результатом для этих автономий, с отсылками на то, что включение их представителей в соответствующий орган «сделает его неуправляемым», либо на то, что вопрос может быть решен на уровне союзной республики[68].
4. Влияние взглядов академика А. Д. Сахарова на идеи выхода автономных областей из краев и преобразования их в республики
На конференции демократических движений и организаций страны, проведенной 16–18 сентября 1989 г. в Ленинграде, народный депутат СССР Г. В. Старовойтова сообщила о проекте платформы по национальному вопросу, разработанном ею и академиком А. Д. Сахаровым с привлечением этнографа Н. В. Юхневой[69]. Этим проектом отдавался приоритет праву наций на самоопределение, и оно ставилось «даже выше идеи государственного суверенитета». Предлагалось отказаться от четырехступенчатой национальной иерархической структуры нашего государства и «оставить единственный тип национально-государственного образования в нашей стране – союзную республику, независимо от ее территории, независимо от численности ее населения, независимо от наличия внешней границы». Должен быть заключен новый Союзный договор и обеспечено равное представительство от всех республик в федеральных органах власти и т. д. Эту идею народный депутат СССР Г. В. Старовойтова повторила в следующем году на I Съезде народных депутатов России, дополнив ее положением «о необходимости разного типа субъектов в Российской Федерации… это должны быть все автономии разных рангов, а также крупные регионы, крупные области России»[70].



