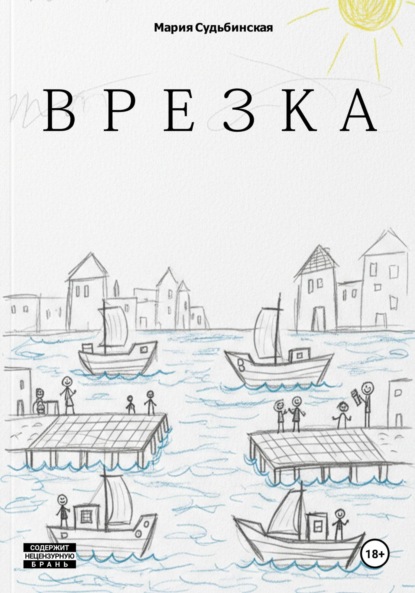
Полная версия:
Врезка
– По-моему, мне тут не место. – сказал Марьян, зажимаясь в углу.
– Все нормально. Они сегодня спокойные.
Последующие несколько часов стали для Марьяна сплошным водоворотом. Он старался не высовываться, а Ксемена таскали из комнаты в комнату – то вызывали помочь передвинуть шкаф, то что-то искать, то мать заставляла его мыть тарелки. Марьян половину времени находился в комнате один, а спустя час его застал врасплох отец Ксемена, открывший дверь без стука с криком «Кто сожрал мою колбасу?!». Отец, не обнаружив в комнате сына, быстро захлопнул дверь и продолжил носится уже в других местах.
Ксемен вскоре вернулся и сунул Марьяну свою заношенную футболку и штаны.
– Держи, мойся, пока горячая есть. Черт, я ничего не успеваю! Только быстро, а то сестры затопят.
Марьян стоял под душем и слушал, как за дверью гремела настоящая жизнь – крики, смех, звуки телевизора, топот ног. Мыться ему пришлось недолго – минут через две в дверь уже долбился отец Ксемена.
К вечеру они сидели на полу в комнате Ксемена и ели с одного таза дымящуюся жареную картошку с салом. Было тесно, шумно и как-то по-звериному уютно.
– Ну что, – хмуро ухмыльнулся Ксемен, запивая картошку тёплым лимонадом. – Веселее, чем у Софийки в белоснежной квартирке?
– Да, – честно ответил Марьян. – Вы и правду табор.
– Потише такое говори. Отец услышит – убьет. – Ксемен переключился на шепот. – А вообще, да – мы табор. Не знаю, почему они пытаются это отрицать.
Поужинав и отмыв чан от масла и остатков картошки, они стали готовиться ко сну. Марьян лег на полу.
– Хорошо у вас. – сказал он, накрывшись одеялом.
– Райское местечко… Черт, завтра в порт! Второе января!
– Да ладно, – вздохнул Марьян, поворачиваясь на бок. – Живём же ещё. Не в тундре голой.
– Точно. Не в тундре, – Ксемен усмехнулся в темноте. – А представляешь, сейчас какие-нибудь пацаны в городе по клубам шляются? Или кино смотрят, на катках катаются? Нормально живут. А девчонки… Незнаю, пьют матча-латте…
Марьян помолчал, рисуя в воображении картины жизни подростков в больших городах.
– Ну, им, наверное, скучно. Школа-дом-развлекуха. А у нас… – он запнулся, не зная, как закончить мысль.
– А у нас экшн, – мрачно закончил за него Ксемен. – Каждый день как в боевике. Только стрельбы нет. Пока что.
– Зато не скучно, – тихо сказал Марьян, и в его голосе прозвучала не то гордость, не то ужас.
– Зато не скучно, – повторил Ксемен, уже почти во сне. – Спи давай, гаджо! Завтра опять мазутом дышать.
На следующее утро Андрей, мрачный и невыспавшийся, подкинул их до порта. В буханке они встретились с Дашей и Софьей. Последняя смотрела в заиндевевшее стекло, не поворачивая головы.
Всю дорогу они не разговаривали. Марьян то и дело поглядывал на затылок Софьи, пытаясь разглядеть её глаза в отражении стекла. Ксемен нервно барабанил пальцами по колену, чувствуя себя виноватым без причины.
Порт в эту серую январскую мглу порт был похож на растревоженный улей. Здесь не работали – здесь заметали следы. Не слышно было привычного рёва погрузочной техники – вместо него стояли нервный скрежет болгарки, стук молотков и отборный мат.
Павел с Сергеем, вместо того чтобы стыковать шланги, яростно зачищали и красили проржавевшие перила у причала. Андрей на буханке носился между портом и свалкой, вывозя какое-то старое, промасленное тряпье и пустые канистры. Воздух был густ от запаха краски, металлической пыли и всеобщей, невысказанной паранойи.
– Сёмка, блять, шевелись! – орал Павел. – Тащи щётку, тут ржавчина на полпальца! Чтоб до блеска, сука, до зеркального блеска!
Ксемена гоняли по всему порту, как заведённого. Он драил десятки метров поручней до хруста в суставах, таскал тяжеленные мешки с ветошью в кузов вечно дымящей буханки Андрея, а когда краска на перилах не успевала сохнуть, его посылали за промышленным феном – сушить, сушить, сушить, пока Иустина Романовна не въехала на терминал.
Ксемен уже не чувствовал ни усталости, ни унижения – только животный азарт этой всеобщей гонки. Он, как и все, хотел только пережить аудит, а думать, что будет после, не получалось —слишком уж сильно скрежетала болгарка.
Марьян не знал, как будет смотреть Яну в глаза после случившегося в новогоднюю ночь. Пока Андрей вез их в порт, он заломал все пальцы, повыдергивал волосы и расцарапал кожу у ногтей. Когда Марьян зашел в кабинет, Ян даже не взглянул на него, но коротко поздоровался.
Они не разговаривали вообще ни о чем, кроме цифр. Ян вёл себя так, будто той ночи не было и в помине, и Марьяну медленно начинало казаться, что это и впрямь была его больная фантазия. Эта ледяное безразличие сводило его с ума всякой ругани. Каждая минуту ему казалось, что Ян вот-вот замахнется на него парой неласковых слов.
В середине дня, когда Марьян потянулся к принтеру, Ян, не отрываясь от экрана, ровным, монотонным голосом бросил:
– Если еще раз придёшь ко мне домой без приглашения, обратно ногами не уйдёшь.
Марьян застыл с листками бумаги в руках, чувствуя, как пол уходит из-под ног.
– Да. – четко ответил он.
– Иди работай.
В кабинете снова воцарилась мертвенная тишина.
Софья мучилась от вечного контроля: Андрей, обычно молчаливый и невидимый, теперь возникал за её спиной по пять раз на дню и гонял по всему порту. Он не грубил, не угрожал – он просто был там.
Все задания – на виду, все маршруты – под контролем. Она ловила на себе его тяжёлый, ничего не выражающий взгляд и понимала, что ее специально ограничивают, чтобы она не сделала лишнего движения. От этого ярость внутри закипала нешуточная.
Даша была тенью, скользящей по коридорам административного здания. Пока все суетились, она мыла полы, и её никто не замечал, будто она была частью интерьера.
В этот раз, протирая пол у приоткрытой двери кабинета Николая Петровича, она замерла, услышав обрывок фразы:
– Двенадцатое число, Ян. Чтобы все здесь сияло.
– Успокойтесь, Николай Петрович. Все идет хорошо…
Даша отпрянула от двери, сердце заколотилось. Она не всё поняла, но цифры врезались в память.
Вечером, возвращая ведро в кладовку, она столкнулась с Софьей. Никто не видел, как она прошептала, глядя в пол:
– Они боятся двенадцатого числа.
И растворилась в полумраке коридора, оставив Софью с новым, твёрдым знанием в груди.
Вечером их ждала еще одна поездка в буханке – такая же тихая, как и утром. Софья то и дело поглядывала на Марьяна, но он, прильнув щекой к холодному окну, разглядывал что-то на улице и, кажется, не собирался с ней говорить.
Когда Андрей высадил их, она все же обернулась к Марьяну:
– Ты где ночевал?
Марьян растерянно пробормотал:
– У Ксемена…
Софья смерила его тяжёлым взглядом, в котором смешались обида, досада и капля облегчения.
– Ладно. – она коротко кивнула и отвернулась, намериваясь пойти своей дорогой. – Только не мешай мне.
Ксемен толкнул Марьяна в плечо.
– Может, я провожу тебя? – выпалил Марьян, как ужаленный.
– Ну проводи. – бросила Софья, не обернувшись.
Марьян со страхом взглянул на Ксемена, явно не ожидав от Софьи такого ответа, но вместо поддержки получил легкий пинок. Ксемен помахал рукой, окликнул Дашу, и они вдвоем растворились в снежной мгле. Марьян побежал догонять Софью. Они молча шли к её дому, утопая в сугробах. Уже у самого подъезда Софья остановилась, не поворачиваясь к нему, и стала искать в кармане:
– Ну, всё. Пришли.
Марьян замер, чувствуя, как что-то сжимается в горле. Он понимал, что если не скажет сейчас – не скажет уже никогда.
– Сонь… – заговорил он полушепотом и сделал шаг вперёд. – Я знаю, что я всё испортил. Знаю, что я слабый и ты сейчас на меня злишься. И я не знаю, как это починить. – Он замолк, собираясь с духом, разглядывая ее спину. – Я просто… Я люблю тебя. Понимаешь? Вот и всё.
Софья не обернулась. Она стояла неподвижно, а потом едва заметно дернулась и беззвучно заплакала.
– Я тебя тоже. – выдавила она сквозь слёзы, но в её голосе не было злости. – Но иди к чёрту со своим «люблю». Этого мало. Это твое «люблю» ничего не исправит.
Она резко дернула дверь и скрылась в подъезде, не дав ему сказать ничего в ответ.
Марьян так и остался стоять на снегу, с ощущением, что с него сняли тяжёлый груз, но на душе от этого не стало легче. Он, переполненный эмоциями, обошел дом и быстро набрал Ксемена.
– Ксемен! – закричал он, как только тот взял. – Ты где?
– Домой иду, как все нормальные люди. Что у тебя опять, пожар?
– Иди сюда!
– Куда «сюда»? Конкретнее, блин!
– Ну по дороге к Софье, во двор! Только быстрее, пока я не передумал!
Спустя пару минут Ксемен, ругаясь на гололед, подошёл к подъезду. Марьян кинулся на него, чуть не сбив с ног.
– Я сказал ей!
– Кому? Что? – Ксемен отряхивался. – Ты про Софью? Сказал, что мы её сменку в порту спалили?
– Нет! Что я люблю её!
Ксемен на секунду замер, оценивая блестящие глаза и идиотскую улыбку Марьяна.
– Ну и? Она тебя послала? Я бы на её месте послал.
– Нет! Она сказала, что тоже меня любит! – Марьян весь засветился.
– Офигеть. Поздравляю, – Ксемен хлопнул его по плечу. – А почему ты тогда тут со мной торчишь, а не там, у неё? Она после такого признания не выдержала и свалила из страны?
– Не знаю, она убежала.
– Как это «убежала»? Куда? – Ксемен нахмурился. – За хлебом?
– В подъезд! Я не понял!
– Стой, стой. Она сказала «люблю» и тут же смылась? Без поцелуев, объятий? Ничего такого? – Ксемен смотрел на него с нарастающим подозрением.
– Ну да… Но она сказала!
– А может, она сказала «люблю» таким тоном, как говорят, например, «люблю» крекеры? Ты вслушаться не пробовал?
– Она плакала! – защищался Марьян, но его пыл уже начал угасать.
– Плакала? – Ксемен задумался. – Это плохой знак. Обычно, когда девчонки плачут от счастья, они не убегают, а наоборот – вешаются на шею. Что-то она ещё сказала?
– Да, но это ерунда! – Марьян отмахнулся.
– Какая «ерунда»? Дословно.
– Ну… что этого «люблю» недостаточно.
Ксемен медленно выдохнул, смотря на Марьяна с внезапной жалостью.
– Брось… Неужели непонятно? Ей мало, что ты её любишь. Ей надо, чтобы ты не был тряпкой. Чтобы не ползал перед этим Яном. Чтобы у тебя был хоть какой-то стержень, блин!
Марьян резко переменился в лице. Идиотское счастье испарилось, сменившись привычной растерянностью.
– …А я думал, она просто стесняется, – тихо и глупо сказал он.
– Пойдём, – вздохнул Ксемен, обречённо взяв его под руку. – Пойдём, я тебе куплю шоколадку. Ты сегодня большой дурак, но свой. Надо поддержать…
Неделя пролетела в лихорадочной работе – порт походил на осаждённую крепость, где все только и делали, что скребли, красили и подметали.
Восьмого января всё закончилось в один момент. После обеда Николай Петрович собрал всех четверых в своём кабинете.
– С завтрашнего дня и до шестнадцатого числа, – буркнул он, не глядя ни на кого, – на территорию порта вам являться запрещено. Если что-то изменится – Ян вам сообщит. Вопросы есть?
Вопросов не было.
Их выставили за ворота, как отработанный материал, и в тот вечер даже не подкинули до дома. Впереди была целая свободная неделя – без порта, без всей этой суеты, к которой они за последнее время привыкли настолько, что уже и не представляли, как жить в привычном, повседневном темпе.
Ненависть
Иустина прибыла одиннадцатого января на внедорожнике с затемнёнными стёклами и федеральными номерами.
Из машины вышли двое – она и сурового вида мужчина в строгом пальто, её помощник-охранник.
Иустина была одета в длинную, пышную шубу и тонкие полусапожки. Она носила яркий, вызывающий макияж, делая акцент на губах. Из-под ее капюшона то и дело выбивались ровные, черные пряди до шеи.
Она окинула поселок презрительным, надменным взглядом и заселилась в «гостиницу» – так называли единственную в ПГТ общагу, где могли остановится нечастые приезжие. Ее столичный говор, походка и аромат так выделялись в привычной обстановке, что ни один прохожий не мог оставить ее без внимания.
Всей душой она ненавидела этот поселок. Ненавидела долгие, бессмысленные поездки, холод, мрак и местных жителей. Шесть часов езды по тундре негативно отражались на ее настроении, и поэтому, каждый аудит она ходила по повороту с особенно злобными, кричащими глазами.
Даже лучший номер гостиницы как будто пах мазутом. Иустина, бросив на кровать свою кожаную сумку, окинула взглядом обшарпанные обои и потёртый линолеум. На её лице не было ни злости, ни раздражения – лишь лёгкая брезгливость, словно она зашла в плохо убранный туалет.
В ночь на одиннадцатое число Ян долго не мог заснуть – в голове крутились самые ужасные мысли, самые страшные образы и развилки. Как бы часто он не повторял Николаю Петровичу, что "все под контролем", он знал, что Иустина может раздавить его, как букашку, и оттого ненавидел ее страшной, нечеловеческой ненавистью. Датчики, акты, архивы! Он знал, что не может придумать ответ на каждое ее слово. Завтра он снова увидит ее алые, пухлые губы, ее колкие, темные глаза – и она снова будет давить его, мучить, сводить с ума.
Ян встал пораньше и привел себя в порядок – надел самую лучшую рубашку, уложил волосы, заранее почистил куртку и отполировал ботинки.
Утро было особенно холодным. Лёд хрустел на ресницах, а внутри у Яна всё пылало адским огнём. Он ехал в порт, сжимая руль так, что пальцы белели. Каждый километр растягивался в пытку. Он ждал её, как приговор, и ненавидел себя за это ожидание. Он представил, как их взгляды встретятся – её холодный, оценивающий, и его, в котором тайком бушует буря.
И тут началось, бесконечное:
– Ян Валентинович, здесь по датчикам остаток 1500 кубов. По моим замерам – 1480. Куда делись 20 кубов? Технологические потери? Покажите акты на эти потери за последний квартал!
Он ловил каждое движение её губ, этот отточенный московский акцент, который резал слух. Он ненавидел её за эти двадцать кубов, за каждый её вздох, за то, как её тонкие пальцы в дорогих перчатках скользили по экрану планшета – пальцы, которые он с ужасом представлял то сжимающимися на его горле, то касающимися его лица.
– На участке 145-147 км по данным дистанционного мониторинга в декабре были скачки давления. Предоставьте видео с камер обхода и объяснительные записки дежурных смен.
Она была до омерзения красива. И он ненавидел её за эту красоту, которая была таким же оружием, как и её ум. Он ловил себя на том, что замечает, как шуба обрисовывает её стройную фигуру, и тут же яростно гнал эти мысли прочь. Эта красота была частью пытки, усугубляя его унижение.
– Ян Валентинович, объясните, почему данные калибровки датчиков за последние два месяца не внесены в единый реестр?
Он отвечал чётко, но внутри всё кричало. Он ненавидел её за то, что она заставляла его бояться. За то, что одним своим видом – этой столичной выхоленностью – она напоминала ему, кто он: грязь, пыль под её каблуками, провинциальный воришка, пытающийся тягаться с системой. И чем больше она смотрела на него свысока, тем сильнее в нём клокотала эта адская смесь – животный ужас, жгучая ненависть и какое-то тёмное, извращённое влечение к тому, кто имеет над ним такую власть. Он хотел одновременно исчезнуть и приковать её к себе, чтобы она смотрела только на него, даже если это будет взгляд полного презрения. К обеду они сидели за отдельным столом. Она отодвинула от себя тарелку с мутным супом, достала влажную салфетку и тщательно протерла ложку. Ян сидел напротив, чувствуя, как сдают его нервы.
– Ну что, Ян Валентинович, – начала она, разглядывая потолок с отслоившейся краской. – Познавательно. Настоящая этнографическая экспедиция. Каждый раз, когда я сюда приезжаю, я будто попадаю в другой мир, где время остановилось. И, кажется, даже воздух другой. Тяжёлый.
Ян почувствовал, как по спине бежит холодок ярости. Он заставил себя улыбнуться.
– Не Москва, конечно. Но люди тут крепкие. Не изнеженные. Может, поэтому всё и держится.
– Держится? – она фыркнула, наконец посмотрев на него. Её взгляд скользнул по его волосам, по новой рубашке. – Милый мой, это не «держится». Это прозябает. Вас не смущает, что кроме как безнадёгой и мазутом здесь ничем не пахнет? Что даже суп, – она ткнула ложкой в свою тарелку, – имеет какой-то технический привкус. Как будто жизнь здесь – это сплошная аварийная ситуация, которую никто не спешит устранять.
– Жизнь везде жизнь, Иустина Романовна. Просто у кого-то – ковровая дорожка, а у кого-то – грунтовка. По второй, знаете ли, и танк проедет. Не всякий выдержит.
– О, не сомневаюсь! – её губы растянулись в холодной улыбке. – Танки, грунтовки… Какая живописная метафора для оправдания серости. Вы знаете, что меня больше всего поражает? Не эта… помойка вокруг. А то, как люди здесь к ней привыкают. Как перестают замечать. Как начинают думать, что так и должно быть. Это сродни болезни. – Она отпила глоток воды из своего стакана. – Вы, например. Что вы здесь делаете? Играете в царя горы на этой… свалке?
Ян побледнел. Её слова били не в бровь, а в глаз, попадая в самое больное – в его тайное ощущение, что он закопал себя в этом болоте.
– Быть царем на свалке – лучше, чем придворным шутом в вашем позолоченном мире.
– Но вы не царь. – она рассмеялась коротким, сухим смешком. – Вы – дворник в своём королевстве, Ян Валентинович. Который метёт сор под ковёр и надеется, что никто не заметит… Скучно. И пахнет от вас… отчаянием. Сильным, мужским, таким… Местным…
Она встала, отряхивая несуществующие пылинки с рукава:
– На этом наш разговор окончен. У меня ещё куча вашей… творческой бухгалтерии. Сидите тут дальше на своей грунтовке. – Она повернулась к выходу, но на прощание бросила через плечо: – И смените одеколон. Этот аромат дешёвой стойкости уже въелся в стены.
Когда она ушла, Ян ещё несколько минут сидел в столовой, царапая стол. Потом резко встал, так что табурет с грохотом упал назад, и быстрыми шагами направился к своему кабинету.
Он зашёл, захлопнул дверь и запер её на ключ. Первые секунды он просто стоял посреди комнаты, тяжело дыша. Потом, с тихим, сдавленным рыком, он швырнул папку с бумагами в стену. Листы разлетелись по всему кабинету.
Дальше он сгрёб со стола всё, что было не приколочено: ручки, калькулятор, кружку. Всё это с грохотом полетело на пол. Ян обессиленно упал на кресло и вцепился руками в волосы. В голове, как заезженная пластинка, все крутилось: «Дворник… Свалка… Пахнешь отчаянием…». Он ненавидел её за каждое слово. Он ненавидел её за то, что она права.
К вечеру ярость выгорела, сменившись леденящей, холодной пустотой и решимостью. Он сидел в разрушенном кабинете, среди разбросанных бумаг, и смотрел в одну точку.
На следующее утро он встретил её у входа в административное здание. Он был снова безупречно собран, но на этот раз в его взгляде читалась не просто готовность, а какая-то опасная игра.
– Иустина Романовна, доброе утро. К сегодняшней программе проверки я, если позволите, подготовил кое-что особенное. Данные по калибровке датчиков за последние пять лет. Визуализировал в динамике. Думаю, это сэкономит вам время.
Он говорил это с лёгкой, почти дерзкой улыбкой. Он не лебезил. Он бросал ей вызов на её же поле – поле профессионализма.
Она оценила его взглядом, в котором мелькнуло лёгкое удивление.
– Надеюсь, графики понятнее, чем ваши объяснения, Ян Валентинович.
В течение дня он продолжал эту тактику он все пытался быть незаменимым. Предвосхищал её вопросы, подавал документы до того, как она их запрашивала, одним движением руки открывал нужные двери.
А под конец дня, когда они остались одни в коридоре, он сказал, глядя куда-то мимо неё, с невозмутимым видом:
– Знаете, Иустина Романовна, после вашего вчерашнего визита в нашу столовую я подумал… Вам наверняка интересно, где тут у нас едят те, кто не пахнет «мазутом и отчаянием». Есть одно место. Не ресторан, конечно, но вид на залив в сумерках… того стоит. Если, конечно, вы не боитесь испачкать туфли.
Её ответ был предсказуем и убийственен. Она остановилась, повернулась к нему и сказала с лёгкой, снисходительной улыбкой, будто объясняла что-то ребёнку:
– Ян Валентинович, не тратьте силы. Ваш залив мне не интересен. А мои туфли… – она бросила взгляд на его ботинки, – …грязнее ваших все равно не станут…
Ян проводил ее пристальным взглядом. Сердце снова налилось новой волной животной ненависти.
Вечером она покинула порт.
Дверь кабинета Николая Петровича с тихим скрипом отворилась. Ян вошел, не стуча, и опустился в кресло напротив старшего. Он был бледен, под глазами залегли тёмные тени, но руки лежали на коленях совершенно спокойно.
Николай Петрович, не поднимая глаз от бумаг, тяжело вздохнул.
–Ну, фух, блять… Уехала дама на сегодня… Два дня – как на иголках. Можно, считай, выдохнуть.
Ян не ответил. Он неподвижно сидел, вглядываясь во мрак за окном.
– Чего молчишь? – Николай Петрович наконец посмотрел на него. – Дрожишь, как шлюха перед участковым? Или, может, наоборот, глазки строил, пока я не видел? – он хрипло хмыкнул.
– Говорил же – не связывайся. Она не нашего поля ягода. Сожрёт и не поперхнётся.
– Я не дрожал, – тихо, но отчётливо произнёс он. – И глазки не строил.
– Ага, да ты за ней по пятам ходил, – Николай Петрович мотнул головой. – Брось ты это, не твоя она.
– Она ничья, – вдруг резко, с какой-то странной злостью бросил Ян. – Она сама по себе. Как скала. И вы правы – она действительно сожрет.
Он встал, подошёл к окну и спиной к Николаю Петровичу закончил:
– И глазки я не строил. Я её изучал. Как болезнь. Чтобы знать, от чего умирать буду.
Николай Петрович проводил его недоуменным взглядом, но ничего не сказал.
Пока в порту кипела тихая война, для остальных наступила вынужденная пауза. Неделя «каникул» растянулась как год.
Первые пару дней Марьян отсиживался у Ксемена, в эпицентре цыганского хаоса. Но вскоре и его выгнали – то ли отец Ксемена окончательно взбесился, то ли еды на всех перестало хватать, и Марьяну снова пришлось Марьяну снова идти на поклон.
Софья впустила его. Нехотя, скрипя сердцем, снова бросив на проходе: «Только не мешай».
Квартира снова наполнилась его робкими шагами и тягостным молчанием.
Для Марьяна и Ксемена эти дни стали передышкой. Пока не началась школа, они спали до обеда и болтали о ерунде, пытаясь забыться.
Софья не могла отпустить – она одна продолжала носить в себе этот камень. Аудит шел, и Софья знала, что где-то там, в порту, решается их судьба. Вечером одиннадцатого числа Софья задержалась у магазина – она караулила черный внедорожник, утром громко появившийся в поселке. Она провела его взглядом, и, когда он снова исчез из ее поле зрения, отправилась домой.
Дома ей позвонила мама. Голос из динамика был весёлым, далёким, как будто мама была на другой планете.
– Доченька, привет! Как ты? Мы тут в Сингапуре стоим, жара невыносимая! Ты там не скучай, деньги я на карту перевела. Учись хорошо, не болей!
Софья сжала телефон так, что костяшки побелели. Она не могла вымолвить ни слова. Как можно было говорить про Сингапур и учёбу, когда у неё здесь, в этой ледяной дыре, рушилась жизнь? Она чувствовала себя абсолютно одинокой, запертой в аквариуме своего страха, а весь остальной мир жил своей нормальной, глупой и такой недосягаемой жизнью. После того звонка её терпение лопнуло. Вид Марьяна, мирно жующего бутерброд на её кухне, вызывал у неё приступ чистой, беспримесной ярости. Ей хотелось кричать, бить посуду, вышвырнуть его вон. Но она лишь стиснула зубы, вышла из квартиры, хлопнув дверью – и почти двадцать минут просидела одна на лестнице.
Два дня аудита мучили Софью, как самый страшный мор. Она не могла найти себе места – в ее голове, как назойливые жуки, крутились целые вихри мыслей. Она не могла ждать, не могла терпеть – Марьян и Ксемен добивали ее своим безразличием, своими кроткими «успокойся». Софья не могла успокоиться – не потому, что она «девочка», а потому что покорность и лицемерие съедали ее изнутри, но все вокруг кричали, что она не права.
Ее одиночество становилось только острее. Софья чувствовала себя игрушкой в чужих руках, которую, от которой без лишних раздумий избавятся сразу, как она надоест.
Она металась по квартире, как зверь в клетке. Включала телевизор – не могла смотреть, брала книгу – буквы расплывались. В первую ночь, не в силах заснуть, Софья села за стол и принялась писать. Даже сейчас, когда она была дома, руки ее дрожали, когда выводили отдельные, проклятые имена.



