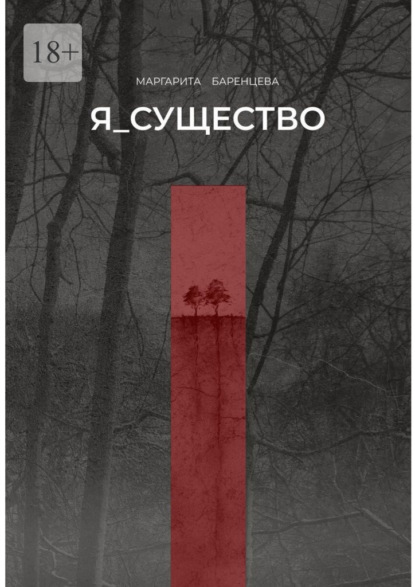
Полная версия:
Я_существо
Чёрт…
Здесь проходит какая-то немыслимо сложная линия.
Моё детство, в котором не было матери.
Та грань, где осталось детство мальчика, в котором никто и никогда не сможет конкурировать с той женщиной, которую он не знал. Когда ребёнок растёт с сёстрами или братьями, он учится конкурировать с ними. Когда ребёнок растёт один с родителями, он пытается конкурировать с родителями. Когда ребёнок предоставлен сам себе, он конкурирует сам с собой. Отсюда столько проблем.
Я всякий раз по-разному пытаюсь начать исповедь о своей матери, однако, с какой бы стороны ни подходил, эта пульсирующая мысль яростью замыкается на эмоциях, и я не могу об этом слишком спокойно рассказывать, нарушая последовательность событий и всяческие детали.
В истории моего появления на свет все части омерзительного пазла открывались мне не сразу.
Когда родился я, мой отец был далеко не молод, а мать, наоборот, была очень молода. Моё появление на свет стало результатом её провокации в отношении состоявшегося мужчины, которого так разбесила эта дикая деревенская нимфа, что он запер её в отеле и насиловал несколько дней подряд, чтобы унять свою ярость и похоть, которую она у него вызывала своими безумными выходками.
Чтобы картинка сложилась воедино, нужно пояснить: мой отец родился на территории бывшей Австрии в 1940 году, через пару лет после аншлюса. Когда ему было пять лет от роду, его, голодного и ободранного мальчишку, найденного в последний год войны на задворках уличного сортира в венгерском посёлке, взяла под опеку тётка моей матери – моя двоюродная бабушка. Одному богу известно, как он туда попал.
Тётка была пусть и не ортодоксальная, но иудейка, которая, как и многие, скрывала этот факт. И всё же она сжалилась над неизвестным ребёнком, узнав о судьбе мальчика: его родителей застрелили, сам же он чудом спасся и долгое время скитался с одним из солдат в качестве его ручной обезьянки. У того рука не поднялась пристрелить немецкого щенка, но и милостей ему он не оказывал. Поздним февральским вечером солдата настигла участь родителей Эриха: неизвестные расстреляли его прямо на уличном нужнике. А самого Эриха нашли неподалёку, продрогшего, почти голого, привязанного к покойнику длинной цепью. На первый взгляд мальчик был совершенный дикарь и не подавал признаков социальной адаптации. Однако впоследствии он будто переродился и быстро начал восстанавливаться. Вскоре он уже отлично читал, быстро научился писать, а в девять лет помогал своей спасительнице вести домашние дела, был услужлив и благовоспитан.
Знания давались ему легко и просто. Он обладал пытливым умом и усидчивостью. Семья тётки души в нём не чаяла, и очень быстро Эрих стал вхож в любой дом нашей многочисленной родни. Когда спустя несколько лет он инициировал розыск своих родных, тётка, разумеется, оказала ему полное содействие, подключив все связи. Выяснилось, что из всех родных уцелела лишь его старшая сестра Нина, которой также повезло оказаться в порядочной приёмной семье. Шли годы. Брат и сестра спелись и открыли совместное дело. Благодаря их крепкой связи дела резко пошли в гору. Всё свободное время они посвящали торговле, но собственными семьями так и не обзавелись. Впрочем, репутация их была настолько безупречной, что ни у кого не возникало на их счёт дурных помыслов. Работать с Эрихом и Ниной хотели все. Он вёл активную торговлю и плотно сотрудничал с еврейской общиной благодаря моей тётке, а Нина, как ярая католичка, наводила порядки в своих кругах.
Когда Эрих стал со своей сестрой посещать католическую церковь, все отнеслись к его выбору спокойно, потому как он уже давно жил отдельно и не только обеспечивал сам себя, но и помогал деньгами всем им. Никто и помыслить не мог, что, встретившись с Викторией в один прекрасный день, этот хладнокровный, крайне сдержанный и уже немолодой мужчина слетит с катушек.
Виктория залетела.
Обе стороны конфликта приняли решение сойтись в заговоре. Семья Виктории, избегая лютого скандала, а мой отец – уголовного преследования, совершили негласную сделку: они сохранят в тайне то, что случилось.
Для всех же история будет такова: юная Виктория якобы забеременела от неизвестного мужчины, а Эрих «усыновит» родившееся отказное дитя. И все разойдутся миром. И выгодой. Потому как Эрих, прикрывая своё преступление, предложил немалые отступные для закрепления договора. К тому моменту отец уже начал прокладывать амбициозный путь в мировую политику и потому искусно использовал свою власть, чтобы запутывать следы собственных грязных поступков. Скандал был ему ни к чему.
В те времена внебрачный ребёнок становился несмываемым позором и обузой для всех. Поэтому без лишних колебаний семья Виктории согласилась.
Чтобы скрыть роды, Эрих купил старый дом в окрестностях бывшего Кёнигсберга, где у него водились связи такого характера, что были способны утопить концы любой тайны в самой тёмной воде – и никто никогда не узнал бы правды.
После так называемой «сделки» Виктория оставалась в этом доме ровно столько, сколько понадобилось, чтобы узаконить роды и устроить вопросы с мнимым усыновлением. Когда же дела были улажены, она внезапно скрылась, так и не удосужившись ответить только на один волнующий всех вопрос: являлся ли я вообще сыном своего отца? Её репутация слыла далеко не идеальной ещё до их связи. Поэтому отец рвал на себе волосы от ярости и проклинал и её, и себя, и тот отель в Будапеште, где он закрылся с моей матерью.
Если бы я верил одним лишь слухам о своей матери, то резюмировал бы коротко: «Поговаривают, Виктория была необузданной еврейкой, которую я не знал. Точка». Но прозвучало бы это фальшиво, как если ты не хочешь говорить о том, что тебя особо сильно ранит, – и прячешь морду свою лукаво в рукав, скрывая что-то очень, очень личное. Рейс в Будапешт был не совсем праздным и весёлым хотя бы потому, что я летел к своей матери.
Каждую ночь на протяжении всех этих лет мысленно я писал ей так много писем, что от каждой несказанной фразы голова разрывалась от боли. Мне нужна была мать. Я ждал её каждый день. Искал её в каждой женщине, которой обладал или мечтал обладать. В каждом прикосновении. Везде.
– Ужин?
Надо мной вновь зависло улыбающееся лицо стюардессы.
– Я не ем, когда пьяный, спасибо.
– Что?
Она не разобрала мой скверный английский. Или сделала вид.
– Ничего. Ничего… Я не хочу ужинать, но, возможно, вы подскажете, где купить в Будапеште тюльпаны? Меня сейчас заботят только они.
– Тюльпаны?..
– Да, тюльпаны…
– Я не знаю, не скажу навскидку, но, когда мы завершим обслуживание, я могу узнать адрес для Вас. Тюльпаны в Будапеште есть, не сомневайтесь. Однако точного адреса я не знаю. Может быть, получится выяснить.
– Спасибо.
Когда самолёт сел, на руках у меня был номер телефона и, кажется адрес салона цветов, написанный от руки на обратной стороне личной визитки той самой стюардессы.
Мариска. Так её звали.
Стюардессы за те часы, что они проводят в воздухе, не только обретают бесценный опыт полётов, но и изучают пассажиров любого типа. Пожалуй, даже самого вздорного, печального или флегматичного. Стюардесса владела любым из всех возможных безупречных диалектов английского, какой ей только могли преподать в этих их кружках начинающих стюардесс, или, возможно (чем чёрт не шутит), она даже закончила какой-нибудь университет для того, чтобы выдавать стаканчики с апельсиновым соком всяким мудакам вроде меня. Однако пьяный английский был ей не по зубам, как и мой скверный характер.
Едва проспавшись после перелёта, я, раздражённый, восстал из не до конца состоявшегося похмелья и, умывшись, снова извлёк бутылку виски из мини-бара номера, в котором остановился. Только затем оделся, чтобы выйти на улицу и попытаться позавтракать, чтобы не терять сознание от уже притупившегося за двое суток голода. Этот серый город с отзвуками старой Европы сильно давил на меня, поэтому я зашёл по зову сердца в первый попавшийся бар, из которого орало жалкое подобие венгерского рока, лишь бы не слышать играющих на улицах бездарей с бубном и дудкой и мелодичные вопли местной булочницы, которой чем-то не угодили неразменные купюры у заезжих немцев.
В баре с дешёвым роком, ревущим из захудалых колонок, оказалось весьма прохладно, с такой плотной завесой не то тумана, не то ночного угара, что двигаться приходилось на ощупь. Однако на завтрак подавали что-то вполне уютное, с почти домашним вкусом и, по всей вероятности, действительно приготовленное только сейчас. Это был довольно неплохой омлет с обжаренным хлебом и странной сладковатой овощной закуской, вдобавок ко всему я дополнил кофе вином, и всё встало на свои места.
Виктория любила тюльпаны. Жалкие обтрёпанные бутончики, которые она называла «сила и нежность», и я ей стоически в этой странной любви потакал. Покупая эти цветы на каждый её день рождения всякий раз с таким лицом, как отец покупает дочери игрушку, которая для дочери очень важна, а для отца это всего лишь кусок пластмассового дерьма.
Найти тюльпаны в январе в незнакомом городе – миссия, которая усложнялась тем, что в этот раз при многократных переездах я не смог прихватить их с собой в Мюнхене, как это делал предыдущие несколько раз, а значит, нужно было искать их в порядке экспромта.
Телефон цветочной лавки с визитки, выданной мне в самолёте, не отвечал.
Мне не оставалось выбора, и я набрал номер самой стюардессы.
– Мариска, Вы ещё не ушли в новый рейс? Прекрасно! Это Берт. Простите. Простите за беспокойство, но я звоню всё по тому же делу. Помните меня, я тот угрюмый пьяный придурок из самолёта, рядом с которым никто не сидел? Надеюсь, не разбудил Вас. Надеюсь, Вы выспались, Мариска. Мне по-прежнему нужны эти идиотские цветы.
– Тюльпаны?
– Они.
– Вам нужны тюльпаны?
– Йес. Зей ар. Ай нид факин тулипс. Я не дозвонился по тому телефону, что вы дали. А цветы мне нужны очень.
– А, я понимаю. Я сейчас ещё раз посмотрю тот адрес.
Господи, да не набивай себе цену. Просто скорее дай мне адрес.
– Да, конечно, спасибо большое, Мариска. Я подожду.
Пауза. Международный роуминг.
Я начинаю подозревать неладное.
– Не то чтобы я не могу найти адрес, но, похоже, информация может быть ошибочной… Я гуляла там пешком и точно узнаю тот магазин, однако номера дома не подскажу.
Твою мать.
Я так и знал.
Клади трубку. Срочно клади трубку.
– Что вы имеете в виду?
– У меня сегодня выходной. Я не ухожу в рейс, и… Вы сможете приехать сюда? Я просто отведу вас к цветочнику. Это быстро.
Бормочу со стоном в голосе: «Мариска, я ведь вовсе не собирался гулять с тобой по Будапешту, я даже не хочу идти в твоей компании до долбаного цветочного магазина…» – но по-английски произношу:
– Диктуйте свой адрес. Я приеду.
К тому моменту, как такси неспешно подползает к крыльцу места обитания стюардессы, начинается «снегодождь». Она спустилась с зонтом и, нарушая полутораметровую зону комфортного общения, под предлогом благого дела прячет меня аккурат себе под зонт по левую руку. Плечо у меня всё равно облипает слоем белой пены и мокнет, а её роста не хватает, чтобы спицы зонта не цепляли моих волос, но нести сей предмет «сближения» из вежливости я тоже не хочу, пусть бы и вымок весь целиком.
– Вам удобно?
– Вполне.
– Не хотите понести зонт?
– Нет, спасибо. Я не хочу брать зонт. И промокнуть совсем не боюсь. То есть мне, если честно, всё равно. Я вообще не люблю ходить под зонтом. А тем более носить их. Можно сказать, у меня «зонтикофобия» и я люблю быть мокрым, как мышь, в такую погоду. Мокрым и жалким, как и полагается страдающему мудаку.
– Вы со странностями. Надеюсь, это странности перевода, но, по всей видимости, в суть этой тирады мне лучше не вдаваться, – Мариска широко улыбнулась и отвела взгляд в сторону. – Кстати, на каком Вы вообще языке разговариваете? Я слышала, что Вы что-то там бормотали, но ни слова не поняла.
– Поверьте, это неважно.
– Неважно? Ну хотя бы для поддержания беседы намекните мне.
– Я не хочу. Не умею намекать. И поддерживать беседу тоже. Извините, правда.
– Хорошо, хорошо. Идём. Тут уже рядом.
– Спасибо.
Ненадолго наступила какая-то пауза, но, видимо, тишина – это абсолютно не то, что нравится этой женщине. Она снова задала вопрос:
– Вы нормально перенесли полёт? Мне кажется, Вы совсем ничего не ели и были подавлены? Вы поели?
– Поел. Спасибо. А полёт?.. Да, я выспался и теперь чувствую себя хорошо. То есть сносно. Нормально. А Вы?
– Ну, я стюардесса. Это моя работа.
Да, как же я мог забыть. И шаблонно отвечать – Ваш девиз. И дежурная улыбка с красной помадой тоже. Счастье, что она вообще переоделась из униформы. Хотя, в общем, Мариска была довольно красивая, и она, конечно, об этом знала.
– А цветы, которые вы ищете, – они для кого?
– Для тебя.
– Что?
– Ничего.
Она потупила взгляд и игриво заулыбалась.
– Спасибо, конечно, но… Но я не очень люблю тюльпаны, можно розы – их и найти проще. Хотя и буду рада выпить с тобой кофе, Берт.
Я почувствовал, как её железобетонная уверенность в собственном превосходстве над ситуацией начинала меня накалять.
– Ну на самом деле я пошутил. Про цветы. Они не для тебя. Извини, Мариска. Это тюльпаны для моей матери. Тюльпаны для неё что-то значат, и я всегда покупаю их, когда прилетаю сюда, в Будапешт, чего бы мне это ни стоило. Чаще, конечно, просто беру их с собой. Я большую часть времени нахожусь в Мюнхене и знаю, где купить их там. Однако в этот раз летел не совсем оттуда, и вообще, сложностей было много, понимаешь?
– О, так у тебя здесь живёт мама. Это многое объясняет. А я уже было подумала, у тебя тут есть любимая женщина. Знаешь, как мы, женщины, любим нарисовать себе какую-то историю, вроде такой, какая могла бы быть у тебя: ты поссорился с ней и оттого был невесел, она улетела в Будапешт, а ты поспешил за ней. Конечно, искал её любимые цветы, расстроенный, опасаясь, что тебя не примут. А всё оказалось гораздо проще… – стюардесса облегчённо вздохнула, и на губах у неё появилась самодовольная ухмылка, вроде той, какая бывает у женщины, которая встречается с соперницей – и та ей неровня.
Вот это эрудиция. Я действительно увидел перед собой все образы дешёвых сериалов и фильмов про любовь.
– Нет. Женщины у меня нет.
– …Вот наш цветочник, я подожду тебя, а затем ты угостишь меня кофе.
Ну конечно.
Мы покупаем жалкий букет из озябших тюльпанов, у которых от утреннего холода сразу темнеют края лепестков, и направляемся в первый попавшийся кабак, где, сидя на высокой стойке, Мариска заказывает себе капучино, а я, неизменно, сухое белое.
– Так ты, получается, тоже венгр в какой-то степени? По матери.
У меня из груди вырывается совершенно неспецифический для подобного случая смешок, и стюардесса деликатно уточняет, что же такое позабавило меня в её вопросе. Я любуюсь этой простоватой, в общем-то, женщиной, мысленно глажу её по волосам и говорю, что нет, её вопрос здесь совсем ни при чём, а смеюсь потому, что я ровно такой же венгр, как и австриец по отцу, – и не знаю ни одного, ни другого языка, чтобы хотя бы сносно на них общаться, а мать – она и мать-то мне постольку-поскольку, к тому же еврейка. Я, конечно, её люблю, но лезть в наши семейные грязные панталоны лучше сейчас не стоит.
– Плюс ко всему ты, наверное, видишь, что я много пью. Потому что, скорее всего, я алкоголик. Конечно, мне диагноза не ставили, однако я пью почти каждый день. И эта дурная привычка мне как раз передалась от матери куда как более очевидно, чем то, что в какой-то степени я, наверное, венгр. Вот такие дела.
Мариска отвела глаза в сторону, как это делают всякие благопристойные дамы, которые вдруг осознают, что связались не совсем чтобы с тем самым принцем своей мечты, но вежливость не позволяет им, гордо подняв голову, удалиться с неудачного свидания.
– М-м-м, да, кажется, я понимаю… – тихо процедила она, поджав губы.
– Конечно же, ты понимаешь.
Я заказал ещё вина.
На этот раз бутылку. Самого дорогого, какое только было в этом баре, вина.
– Выпьете со мной вина, Мариска?
– Нет, что Вы, я не пью по утрам…
– Нет, что Вы?.. А на свидания? На свидания по утрам Вы напрашиваетесь… то есть соглашаетесь, очень даже легко?
– С чего Вы решили?
– Это не я решил, это Вы решили, что у нас сегодня свидание. Вы накрасили красным губы, оделись не по погоде, в белое, нанесли на запястье парфюм и наверняка надели красивое бельё, мы шли под руку, а значит, свидание? Или Вы всегда при параде и ходите под руку с пассажирами пить кофе по утрам? Что скажете?
– Вы очень странный человек…
– Вы так считаете?
– Да, считаю…
– Ваше право. Я согласен. Говорить в лоб в нашем обществе вообще какое-то хамство, правда?
– Вы выставили всё так, будто я какая-то шлюха.
– Нет. Вы вовсе не шлюха, я так не говорил и так не считаю, но Вы довольно отчаянная девушка, Мариска, если решили сходить на свидание с пассажиром, который пил ещё задолго до того, как сел в самолёт, пил в самолёте и пьяным пришёл на встречу с Вами. Либо Вы совсем не разбираетесь в людях.
– Скорее всего, второе. Я думала, что Вы заигрываете, когда спросили про цветы в Будапеште… Думала, что понравилась Вам и Вы ищете повода познакомиться. Ну зачем кому-то могут понадобиться тюльпаны в январе в Будапеште?.. Я же не знала…
– Конечно… Откуда бы тебе знать, Мариска… Откуда тебе знать, что сегодня день рождения у моей матери, а вместо шикарного венгерского ресторана я иду на еврейское кладбище, и мне невыносимо хочется только одного – обнять её и просто хотя бы минуточку поговорить… А эти тюльпаны… Эти долбаные тюльпаны… Единственное, что мне точно известно, – они ей нравились…
Глава 3. Кто такая Ева?
Видишь, Виктория. Я совсем не мёрзну. Надел пальто.
Ты когда-то переживала за мою спину. Говорила, нельзя быть таким высоким и не мучиться от болей в позвоночнике. Поэтому я утеплился.
Иногда я тебя понимаю, Виктория. Мама…
Это ужасно – ждать, когда твоё тело перестанет тебя слушаться. Ужасно ждать конца, когда ты немощен и одинок. Нет, я точно не планирую дожидаться такого финала. А знобит меня оттого, что ты мне ничего не сказала. Не поговорила со мной. И вот, кстати, да, опять принёс тебе тюльпаны. С днём рождения, мам…
Накануне субботы здесь пусто. Евреи готовят праздничный ужин, чтобы спокойно с закатом солнца встретить свой Шаббат, и тут так тихо. В прошлый раз мы были у тебя с Артуром. Мне кажется, воздух в тот день был сухой и свежий, а погода – самое то для прогулок по кладбищу с другом. Мы выпили с ним кофе. Вышли из пекарни с пакетом булочек. Возле машины сидела кошка. Чёрная и ощетинившаяся от холода. С короткой шерстью. Машина ещё не успела остыть, мы ехали всю ночь прямиком из Мюнхена, кажется, целую вечность, поэтому неудивительно, что мой ещё не остывший автомобиль ей так приглянулся. Я почесал её за ухом и задумался на минуту о том, чтобы взять животное себе. Уж больно вы с ней похожи. Но Артур возразил. Он всегда возражает против моего сумасбродства, но без церемоний, настолько рационально и резко, что я ощущаю себя полным придурком и быстро прихожу в себя: кошачьей переноски поблизости не сыскать, а эта дикая дама вполне очевидно разнесёт когтями всю белую кожу салона авто, пока мы будем ездить в поисках какого-нибудь зоомагазина. У неё были очень острые когти. Клянусь, мне тогда на минуту показалось, что такими когтями запросто можно разорвать грудную клетку и вынуть из неё сердце. Может быть, у этой дикой твари вообще был хозяин – такой же служитель дьявола, как и она сама. А может быть, и котята – исчадия ада, которые ждали её. Поэтому я отнёс её в сторону от дороги и уехал. А потом, когда мы шли сюда, мне показалось, будто такая же точно кошка – или даже та же самая – сидела вон возле той каменной купели и лакала оттуда воду, презрительно поглядывая на меня исподлобья. Будто это ты за мной подсматриваешь. Сегодня там нет воды – только листья и лёд. И та кошка, наверное, уже сдохла от такой холодной зимы. Понимаешь, о чём я? Сегодня холоднее намного. И без конца идёт мерзкий мокрый снег. Похоже, ты не очень мне рада. Может, сердишься, что я не забрал эту чёртову кошку? Не удивлюсь, если ты переселилась в неё. Было бы так на тебя похоже… Я ещё ни разу, ни на минуту не усомнился, что ты была ведьмой…
Надо мной послышалось хлопанье крыльев: две вороны расселись на ветках и с любопытством рассматривали одинокого гостя на кладбище. Было что-то мистическое в белой вуали усиливающегося снегопада, и посреди светлого полотна неба эти две чёрные огромные птицы, застывшие в оглушительной тишине на разбросанных в высоте голых ветвях деревьев. Замерев в немом приветствии, я протянул руку к птицам. Одна из них спустилась ниже, но приманить её было нечем, поэтому вскоре обе они, потеряв интерес, вскинули тяжёлые крылья, ветка прогнулась от прыжка, и мои незваные спутницы исчезли в густой поросли деревьев.
А скамью бы надо почистить, Виктория…
Если бы ты была обычной земной женщиной, разве осталась бы ты сейчас в таком одиночестве? К тебе совсем никто не приходит, кроме этих огромных чёрно-синих ворон, обгадивших единственную скамейку на всей аллее. Не приходит и не убирает. Не сидит тут рядом с тобой и не разговаривает, полагая, что ты горишь сейчас таким сильным пламенем, что оно того и гляди перекинется, как чума, на любого, кто придёт навестить тебя. И только мне известно, что статус в преисподней у тебя там вполне особенный. Ты не догораешь там – ты шляешься где-то рядом и смеёшься теперь надо мной. И, может быть, даже злишься, что надел только пальто и не надел шапку и не принёс тебе отменного белого вина вместо этих дебильных тюльпанов.
Помню, как ты ответила на моё уже не первое по счёту письмо. К тому времени я успел окончательно потерять надежду познакомиться с женщиной, которая родила меня, и узнать, кто ты такая.
Мы часто ссорились с отцом из-за тебя. И он наконец дал мне твой адрес.
Когда его не стало, он оставил для тебя опечатанную увесистую коробку с документами, предназначенными только тебе. И лишь спустя много лет ты всё же приехала в Калининград забрать эти чёртовы документы.
Мы съездили на его могилу, и по дороге обратно ты сухо сообщила мне, что не будешь против, если я куда-нибудь отлучусь. Я понял, что тебе нужно побыть одной, и провёл эту ночь в баре.
Вернувшись утром, увидел, что ты не ложилась. Стоишь у окна в том же платье и куришь. Ты что-то нашла там, в той коробке, которая предназначалось одной лишь тебе. Мне не было дозволено её открыть, но я чувствовал: в ней было многое из того, что отец от нас всех тщательно скрывал. И оно напрямую касалось меня.
Тем утром я увидел, что глаза твои полны горя. Увидел, как отчаянно ты борешься с демонами прошлого в своём сердце. Как выкуренные одна за другой сигареты этой ночью оставили глубокие тёмные складки на твоём лице.
Я встал как вкопанный на пороге комнаты и не нашёлся что сказать. Ты тоже молчала. И броситься бы к тебе, обнять бы тебя. Но мне было невозможно стыдно. Потому что я всем нутром чувствовал, что что-то не так. Что там ты нашла утраченную мою память. То, о чём я забыл. В чёртовой коробке была исповедь Эриха. Его рассказ. Его расследование о том, куда делись те годы жизни, которых я сам не мог вспомнить, как бы ни силился.
В то утро я был в ночном угаре и сильно пьян. Мне казалось, не имею права быть таким жалким рядом с тобой. А потом, через каких-нибудь полгода, ты всё сама перечеркнула. Ушла из этого чёртового мира. Моя слабая и милая. Всё сама. Невыносимо больно, что я так тогда тебя и не обнял.
Письма Виктории были всегда безупречно оформлены на особой бумаге и шли по почте первым классом. Сначала в той переписке она была очень жестока. Я злился и сокрушался, что вообще решился открыться незнакомой женщине, которая была моей биологической матерью. Тогда я ничего о ней не знал, кроме нескольких догадок о своём происхождении на свет и того, что жила она уединённо и не имела других детей. Фрагментом помню её в своём детстве как маленькую вспышку, когда в разгар пневмонии она возникла на пороге нашего дома, чтобы лично убедиться в том, что я жив. Хотя, быть может, это воспоминание было всего лишь сном.
Я помнил её так, будто она была маленьким цветным стёклышком, вдруг выпавшим из ниоткуда в пустом калейдоскопе. Воспоминание из того полусна детства, бьющееся о зеркальные стенки и отражающееся бесчисленное количество раз на бледном круге просвета в моей потрёпанной памяти.
Невысокая и хрупкая. С длинными, непослушными, выгоревшими под солнцем каштановыми волосами, разбросанными по плечам до самой талии. Вишнёвого цвета кардиган, завязанный на поясе поверх белой блузы. Она стоит в дверном проёме моей комнаты, закусив рукав, и плачет. Глаза – и без того цвета талой воды – сочатся влагой, уползающей струями на усыпанное веснушками, ещё совсем молодое лицо.



