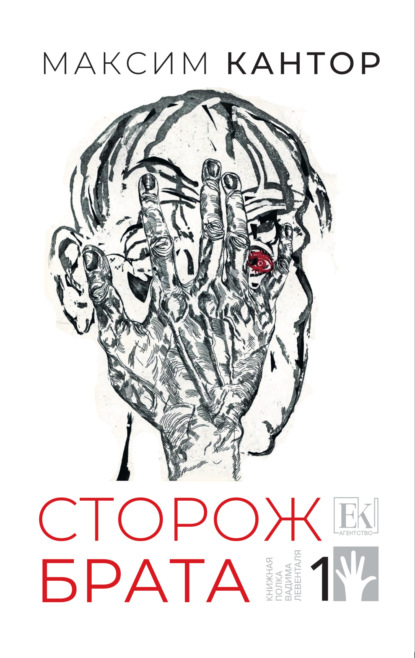
Полная версия:
Сторож брата. Том 1
Отец-казначей выдержал паузу, затем продолжал:
– Скоро война. Затяжная. Миру нужна война.
– Неужели? – А что на такое скажешь. – Мне лично война не нужна.
– А вы эгоист. – Посмеялись. – Мир устал без войны.
– Начнется на Украине?
– Увидим. Вернемся к нашей проблеме. На рубеже веков Нацбанк купил банк на Украине, – любезно пояснил адмирал. – Для поддержки пророссийских политиков. Вложили порядка трех миллиардов. Рекомендация лорда Вульфсбери, он глава казначейства. – В голосе адмирала лязгнуло железо. Таким вот металлическим голосом отдавал адмирал жестокие команды на Фолклендской войне. – Лорд Вульфсбери позаботился о наших деньгах. Да. Позаботился и вложил. Восемь лет длится гибридная война на Донбассе. Активы банка арестованы Украиной. Юристы российского Нацбанка подали в Стокгольмский арбитраж, чтобы активы вернуть. Вы следите?
– Лорд Вульфсбери – это тот человек с лысиной?
– Не отвлекайтесь! Деньги предписано вернуть. Но лучше легально интегрировать капитал в европейский бизнес. Ведь Украина теперь Европа! Наш колледж вложил туда все средства.
– И что же?
Отец-казначей высказал возмущение. Рихтер обязан понять, что деньги колледжа заморожены арбитражем Стокгольма. Российский Нацбанк должен отозвать иск, чтобы извлечь капитал.
– Желаю удачи, – сказал Рихтер.
Отец-казначей терпеливо пояснил:
– Принимая во внимание статус Нацбанка, решение может вынести Российское правительство. Начинается война. Времени мало.
– Сочувствую, – сказал Рихтер.
– Нам есть что предложить российским чиновникам, – сказал адмирал. – Можно освободить из-под ареста их недвижимость. Мы выводим свои активы, они – выводят свои. Во время войны следует соблюдать кодекс чести.
– Вам виднее, – сказал Марк Рихтер.
– Политику или финансисту неловко вести переговоры в России. Мы пришли к выводу, что вы идеально подходите, – сказал бурсар.
– Почему я? – до Марка Рихтера дошел абсурд предложения. – Почему же не лорд Вульфсбери? Он, если правильно понимаю, секретарь казначейства. Он бы мог…
– Лорд Вульфсбери? Вы смеетесь? – Адмирал нахмурился. Даже штатский должен соображать кое-что в субординации.
И в самом деле: не пристало лорду Вульфсбери ехать в Москву кого-то просить. Лорд Вульфсбери – человек, обремененный государственными делами: проблемы войны и мира, инвестиции в военную промышленность… Ракеты, нефть, – дел по горло. Дальше поля для гольфа лорд редко выезжает. Ну, разве что порой на яхте – проветриться с друзьями. Ну, возможно, к себе в Дорсет, побродить по лесу с ружьем.
Адмирал произнес:
– Миссия в Москве достойная: помощь брату. Так или иначе, придется идти наверх. Предлагаем совместить оба дела.
И, доказывая, как просто в жизни совмещаются события, легкий ветер Зефир принес к их группе Жанну Рамбуйе.
– Ехать поездом решили? Правильно. Пограничники злые в русском аэропорту – хотя где они добрые? В Хитроу волки на контроле, норовят все страницы в паспорте проверить. В поезде веселей.
– Сам люблю поезда, – заметил мастер колледжа, флотоводец. – Едут, знаете ли, ровно. Не штормит.
– Поедем через Европу; после соборов пойдут степи… польские, русские. В Москве познакомлю с нужным человеком.
Жанна Рамбуйе объяснила: едет на открытие музея современного искусства, в создании экспозиции которого принял участие ее добрый друг, американский коллекционер. Французский муж Жанны также едет в путешествие; они люди без предрассудков, не мещане. Тем более, у барона какие-то переговоры в Москве: брюссельские штучки, знаете ли…
Приблизился к собеседникам Алистер Балтимор, галерист.
– Увидеться с Фишманом необходимо: ваш брат арестован по иску его партнеров. За подложные экспертизы.
И Медный тоже подошел.
– Марк, вот пример исторической логики. Полюбуйтесь, как стройно: Нацбанк – война на Украине – арест имущества олигархов – музей современного искусства – Фишман – Жанна Рамбуйе – арест вашего брата, – и Медный рассмеялся, – и вуаля! – Польский профессор радовался логике исторического процесса. – Одно вытекает из другого. Ваш выход!
Забыл сюда добавить мою жену, меня и акварелиста, подумал Рихтер. Впрочем, мы в этой партии – фигуры на размен.
Медный изобразил на салфетке схему – словно объяснял студенту, как сопоставить предикаты философского рассуждения. Схема выглядела убедительно. Рихтер представлял себе иную схему: киевский еврей Клапан эмигрирует по программе, основанной на раскаянии за Холокост, в Германию, оттуда переезжает в Англию. Борется за то, чтобы Украина, с которой он уехал, вошла в Европу. Участвует в кампании, призывающей Германию и Англию разрушить Россию. Киевский еврей громче всех кричит о том, чтобы Германия стреляла в Россию. Все запутано. Рихтер был пьян и логики событий не понимал.
– Итак, отправляетесь в литерном купе – в Россию! Ну просто как Ленин и большевики – из эмиграции на Финляндский вокзал, – сказал иронический Медный.
– Присоединяюсь к компании большевиков, – сказал Алистер Балтимор, – меня ждут на открытии выставки авангарда в Москве.
– Кому-то нужно русское искусство? – буркнул бурсар. – Полагал, вопрос закрыт навсегда.
– Русская культура себя исчерпала, – согласился адмирал. – Банк лопнул, if you know what I mean. Но средства вложены, их необходимо вернуть.
– Однако забыли про портвейн, – сказал бурсар.
И руки собеседников потянулись к стаканам.
И снова прозвучало: «Мы одна семья!»
– Ой, давайте не будем притворяться! – говорила веселая Жанна, Сибирская королева. – У каждого из нас есть свои интересы в Москве!
И никто из ученых воронов Сибирской королеве не возразил. Конечно, профессор Блекфилд не брал взяток у банкира Полканова, но он консультировал советника по международным делам в парламенте, который давал нужные рекомендации премьер-министру, который был тесно связан с миллиардером, который был партнером российского олигарха Полканова с общим бизнесом в Африке. А уж каким образом вознаграждение за эти скромные услуги достигало счета профессора Блекфилда – разве это важно? Разумеется, беглый банкир Башкиров, укравший два миллиарда, не являлся «политическим беженцем», а те, кто дал ему этот статус, не пеклись о выгоде, но как-то само собой выходило так, что Башкиров покупал поместье за сто миллионов и лучшие люди Англии пили там шампанское, а профессора Оксфорда учили его детей.
Московская «семейственность» (непотизм, клановость) известна всем – неправовой общественный механизм оскорбляет демократическое сознание западного человека. Собственно говоря, речь идет о феномене, получившем в советские времена определение «номенклатура». Сходный продукт возник и на Западе: там, где понятия «номенклатура» как будто бы не существовало. Появился в западном обществе персонаж, видовыми характеристиками напоминающий представителя «номенклатуры» в России.
Появился такой персонаж по той причине, что позднейший этап капиталистического хозяйства (так называемый «сервисный капитализм») вернулся к раннекапиталистическим принципам в организации общества – обесценил профсоюзы. В организации труда возникла своего рода «рассеянная мануфактура», в которой производство выходит за пределы того общества, которое обслуживает, используя рабский труд вовне. В обществе, где роль трудящихся элиминирована за ненадобностью: ведь трудятся рабы за пределами общества – в таком обществе менеджеры создали особую страту, не нуждающуюся в тех, кем они управляют. Управляющие менеджеры связаны не трудовым процессом, но системой отношений договорного, семейного характера. Скажут (так и говорят), что договорные отношения и есть форма «производства» сегодняшнего дня. И это – правда, поскольку страта менеджеров видит свою «правду» именно так. Их собственная «семья» значительно важнее для общества, нежели союз пролетариев, тем паче что пролетариев более нет. Демократии предстояло решить важнейшую проблему: может ли существовать демократия без народа? Вопрос был решен положительно: может!
«Внутренняя демократия» менеджеров – или (используя их собственное выражение) «сервисный капитализм» – нуждалась в народе как в потребителях продукта, а для этого важен не столько продукт, сколько его реализация, реальное качество продукта вторично. Вещи сделаны так, чтобы выйти из строя через два года, автомобиль меняют столь же часто, как меняют президента страны – это детали, подверженные ротации. Собственно говоря, демократический принцип был внедрен в товарное производство: ротация и немедленное устаревание товара – при том, что принцип ротации важнее качества вещи.
Потребитель (народ) поверил в то, что ротация продукта важнее самого продукта, ротация президента важнее идей президента, и мало кому пришло в голову, что в числе прочего ротации может быть подвержен и он сам. В сущности, война есть не что иное, как принцип глобальной ротации, и, запуская механизм войны, страта менеджеров ничем не погрешила против основного принципа демократии. Никто из тех, кто рьяно голосовал за то, чтобы конвейер и ротация доминировали над ремесленным трудом, не подумал, что он, его дети, его дом – все это легко заменяемые детали; их надо менять, и их будут менять.
В принципе, можно изготовить автомобиль, который будет служить тридцать лет, и избрать президента, у которого есть программа на тридцать лет; можно даже не убивать людей на войне – но важно, чтобы вещи менялись.
Профессора Камберленд-колледжа – Пировалли, Блекфилд, Диркс и все остальные – учили студентов принципам демократии и свободы, но еще более властным учителем была сама жизнь.
Иногда этот процесс именуют «коррупцией», вкладывая в это определение то, что финансовый интерес может управлять политикой, и государственный чиновник оказывается марионеткой финансиста. На деле все сложнее.
Государственный чиновник и финансист, как правило, одно и то же лицо. В послевоенном мире было объявлено, что «демократия» и «рынок» – процессы взаимосвязанные и даже комплементарные: рынок, мол, невозможен без демократии, а демократия невозможна без свободного рынка. Возникло это соображение на том основании, что и «рынок» (свободный обмен), и «демократия» (свободные выборы достойного) будто бы преследуют одну и ту же цель: выявление лучшего путем честного соревнования. Сделав данный тезис основополагающим в развитии общества, постепенно пришли к тому, что лидер на рынке автоматически становился лидером в демократическом процессе; и если не всякий раз успешный бизнесмен занимал руководящую должность в демократической партии и правительстве, то безусловно и без исключений всякий сверхбогач влиял на ход политических избирательных кампаний. Политика в реальности решала задачи, поставленные перед ними корпорациями и, что критичнее, кланами. И как могло быть иначе? Влияние политических чиновников на экономические решения было (и могло быть только так) использовано на то, чтобы те лидеры рынка, которые их провели во власть, оставались лидерами рынка.
Уходя даже от Ост-Индийской компании еще дальше, к Фуггеру, «демократическое» общество поставило партийный плюрализм в зависимость от финансовых интересов и, таким образом, возникла одна общая партия – партия феодальной номенклатуры. Дело не в лоббировании интересов, а в принципиальном слиянии рынка и демократии, при котором оба понятия – и «демократия», и «рынок» – утратили первоначальное значение свободного соревнования.
Номенклатурный феодализм Российской империи и феодальная номенклатура Западного мира встретились, образовав единый продукт – субъекта, воплощающего этот тандем. Возник «номенклатурный феодализм», и номенклатурный феодал отныне полномочно представляет как рынок, так и демократию.
Иные говорят «олигарх» – но что такое «олигарх»?
Марк Рихтер ошибочно (как ему многие говорили) полагал, что и Россия, и Украина разграблены по одному сценарию: олигархия возникла в обеих странах.
– Объясните же мне, – говорил Марк Рихтер, который был уже пьян и настойчиво сворачивал разговор все к той же теме – аресту брата, – объясните же мне, прошу вас! Почему арестовали моего брата, и почему не трогают ваших партнеров-олигархов? Объясните мне – не понимаю! – почему вы считаете войну между Россией и Украиной – войной империи и демократии, если олигархия в обеих странах?
И он действительно не понимал.
Замечательно и вполне доступно разъяснил ситуацию швейцарский посол Клод Пуссьер:
– В России существует олигархия, это факт, но на Украине – плюралистическая олигархия, вот в чем радикальное отличие!
– Как это понять? Разве олигархия совместима с плюрализмом?
Слово «плюрализм» ласкало швейцарское ухо. Не столь важно, что само понятие «олигарх» (то есть субъект, управляющий социумом на основании капитала) в принципе исключает понятие «плюрализм». В тонкости мсье Пуссье не вдавался: везде имеются свои проблемы, не так ли? Скажем, дача мсье Пуссье была в Бургундии, но из вин он предпочитал бордоские – надо относиться к противоречиям философски. Важно не то, что у власти «олигархи», а то, что «плюрализм», выраженный в разнонаправленности движений финансовых кланов, соответствует демократической модели Просвещения. Не вселяет ли это надежду в жирное сердце демократа?
Марк Рихтер устал от спора, к тому же все, что было им сказано сегодня, не объясняло главного.
Таинство евхаристии завершилось, и – в процессе вкушения плоти и крови – стало ясно, чья это была плоть и чья кровь.
Историю формирует социальный тип человека, думал Рихтер. Когда появляется феномен сознания, со своей этикой и эстетикой, этот тип сознания формует исторический процесс. Возникшая фигура «номенклатурного феодала» представляет такую же определяющую историю силу, как и возникшая в двадцатых годах прошлого века фигура «авангардиста-фашиста». Подобно тому, как история, начавшаяся в двадцатых годах ХХ века, в одночасье став историей фашизма, уже не умела никуда свернуть и клокотала в русле фашизма – будь то германский, испанский, британский, российский, итальянский или румынский – так и история XXI века, нащупав наконец свое русло, понеслась вперед, управляемая идеей номенклатурного феодализма – столь же властной доктрины, какой был фашизм.
Феномен «национал-социализма» столь же сложен и содержит в себе противоречия, сходные с противоречиями, заложенными в понятие «номенклатурный феодализм». В принципе, социализм, как общество равных тружеников, не может базировать свои программы на чувстве национального – поскольку трудящийся Португалии – брат по классу трудящемуся Ирландии. И напротив, «национализм» исключает социалистический принцип, поскольку интересы нации не могут состоять в равенстве всех граждан мира. И, однако, возник продукт «национал-социализм», который уже в самом своем существе нес войну.
Германские рабочие убивали советских рабочих, руководствуясь социалистическими, братскими идеалами, и не видели в этом противоречия. Так же точно случилось и при образовании «номенклатурного феодализма». Феодалы, оспаривавшие права иных феодалов на том основании, что те вышли из вертикальной номенклатуры, а не из «плюралистической олигархии» – использовали народ как инструмент: и те и другие употребляли термин «демократия». Войны, которые возникали в первые годы нового осознания истории меж разными типами номенклатурного феодализма, были столь же неизбежны, как войны меж разными типами фашизма – делящего мир согласно амбициям разных фашистских концепций. Река истории уже не могла покинуть свое русло. Швыряя камни и вырывая деревья, уничтожая провинции и ввергая малые народы в резню, мутная вода неслась вперед – и итог мог быть один: большая бойня.
И теперь понятно, что это будет. Завтра или послезавтра. Лорд Фредерик сказал, что война начнется через полтора месяца, а ведь он джентльмен информированный.
Адмирал сэр Джошуа предлагал принять участие в выяснении отношений между двумя типами «номенклатурного феодализма»; и поручил щекотливое дело оксфордскому профессору.
Ничего личного в миссии не было. Нет личного греха и нет личной добродетели – все равномерно распределено как функция страты. Ты – часть договорного союза; все предательства и все соглашения – внутри регламентированных отношений. Нет индивидуального греха. Так происходит в политике, на рынке науки, на рынке современного искусства, и в любви происходит точно так же.
Имеются здравые правила рынка любви; его любовница соблюдала их весьма точно; какие могут быть претензии. Вот жена Марка Рихтера о рынке любви не подозревала; так ведь и нищая бабка в Воронеже не подозревала о том, что государство приватизировало нефтяные скважины.
Впрочем, пьян был не он один. Тянулись к выходу усталые ученые вороны, мантии переброшены через плечо, в руках смятые салфетки.
Черный кэб умчал верховного судью сэра Николаса Тузпика: ему завтра вести заседание в Лондоне. Удалился в гостиницу и швейцарский посол: он переночует в Оксфорде, но утром уже деловой завтрак в столице.
И священник Бобслей – рука об руку с Астольфом Рамбуйе и Бруно Пировалли – вышел на холодный оксфордский двор; сзади группу подпирал веселый лорд Вульфсбери. Северный ветер трезвил, ветер трепал редкие волосы на плеши лорда, забирался за воротник Рамбуйе, студил худые ноги Бруно, облаченные в тонкие брюки. Пора трезветь: high table миновал, завтра всех ждали дела. Рамбуйе должен с утра писать важный отчет в Брюссель, лорд Вульфсбери отправляется в Лондон в казначейство, а Бруно Пировалли – впрочем, чем именно занимался Бруно Пировалли, никто толком не знал.
Глава 6
Демократическая империя
Беда случилась с Москвой в начале ХХI века: город разрушили. Взялись за дело резво, и не осталось дворов с сиренью, сонных переулков с бабушками на лавках, деревянных особняков. Ломали все подряд. Город дал себя распотрошить новым феодалам – с той же легкостью дал, с какой доступная женщина отдается новому кавалеру. Прежде Москву рушили татары, французы, немцы и большевики. Одни изнуряли Москву набегами, другие палили огнем, третьи бомбили, а большевики курочили динамитом, взрывая церкви. Но что-то еще шевелилось в городе, не все до конца испепелили, оставались спрятанные кухонные закутки с янтарными абажурами, где ворковали над чаем. А пришел новый порядок – и добили Москву. Выяснилось, что самый эффективный метод разрушения – жадность.
Суть «перестройки» и так называемой «приватизации» состояла в том, что страту советской номенклатуры – перевели в статус феодалов. Термин, внедренный в социологию Милованом Джиласом, обозначал привилегированную касту чиновного аппарата в стране, которая якобы строит социалистическое общество равных. «Номенклатура» управляет богатствами страны и распоряжается самой жизнью народонаселения на том основании, что воплощает идеологию правящей партии. Население живет по правилам идеологии, а номенклатура идеологию воплощает в своем упитанном теле.
Номенклатура, окончательная форма, в которую отлилась партия, представляла собой «служилое дворянство», образованное из опричников.
Существует, тем не менее, досадная разница между «номенклатурой» и «дворянством»: разница в том, что номенклатура не передает привилегии (дачи, посты, чины, ордена и квартиры) по наследству, а вот дворянство свои сословные привилегии по наследству передает. И даже не имеющий титула западный богач передавал свои яхты и поместья по наследству. И даже менеджер среднего звена «Бритиш Петролеум» мог передать скромные миллионы детям, а советский чиновник – не мог. Таким образом, «плюралистическая олигархия» (высшая точка развития западной демократии) обладала привилегиями перед советской «номенклатурой» (высшей точкой развития социалистического общества). Мог ли смириться с таким положением дел оскорбленный российский чиновник? В его лице была унижена вся страна: на примере номенклатуры мог оценить свое бесправное положение и советский интеллигент.
– Профессор вашего уровня, – говорили Роману Кирилловичу Рихтеру, – имеет в Бостоне особняк с бассейном! Вас не ценят в вашей стране!
Роман Кириллович, старший брат Марка Рихтера, московский профессор, специалист по русской культуре девятнадцатого века, отмахивался: ему, воспитанному на идеалах бескорыстных просветителей, было все равно – в каком особняке живет профессор в Бостоне.
– Вы лукавите, Роман Кириллович, неужели вы не замечаете, в какой помойке и нищете мы живем?
– Разве Диоген жил лучше?
– При чем тут Диоген?! – восклицали осведомленные граждане. – Вот журналист Цепеш эмигрировал на Запад, теперь работает на «Радио Свобода», у него пятикомнатная квартира.
– Какой еще Цепеш?
– А надо бы знать! Человек нашел себя!
– И что же нашел журналист Цепеш? – презрительно цедил Роман Кириллович. Оглушительная бедность делает неуязвимым даже для зависти.
– Цепеш разоблачает русскую культуру, издает журнал «Дантес»!
– Не желаю разоблачать русскую культуру! – старый профессор тяжело морщился. – Какой-то… – Роман Кириллович не использовал бранных слов, поэтому шевелил губами, подыскивая нужный оборот, – некий позер издает журнал, названный в честь убийцы Пушкина… Что за мода такая – плевать в свое прошлое? Зачем мне знать про это?
– Разве вам никогда не хотелось жить иначе?
– Разумеется, нет. У России имеется своя история.
– Неужели вам нравится все это: косые деревенские домики и церковные лампадки?!
– Как же вам, голубчик, объяснить простые вещи? Я занимаюсь историей своей страны. Вот брат мой убежал – в Британии отсиживается. А мне поздновато бегать.
Роману Кирилловичу достаточно было домашней библиотеки. То была огромная, собранная еще дедом и отцом библиотека, куда и он, и его брат (пока Марк жил в Москве) добавляли новые тома. Все поколения семьи Рихтеров жили вместе – квартиры хватало на всех, и библиотека была общей. Никто не считал себя обиженным теснотой: ведь хватало этой тесной квартиры на тысячи томов, а за каждой из книг стоял целый мир.
Семьи не стало, все разъехались; а книги остались. Роман Кириллович ночами читал. Около дивана скопилась стопка книг по истории России, старик протягивал руку, брал наугад. Надо всегда читать сразу десять книг, только так можно увидеть проблему. Тургенев хочет видеть Россию европейской, Данилевский и Трубецкой – евразийской, Соловьев – софийской, экуменической. А какая она на самом деле, Россия, этого не знает никто. Впрочем, думал старый ученый, никто даже не знает того, что такое «на самом деле». Может быть, никакого «на самом деле» и нет.
С тех пор как жена и дочь уехали в Израиль, не мог спать; таблетки не пил, боялся за сердце. Есть способ уснуть под утро – в детстве учила бабка: надо сильно замерзнуть, окоченеть, а потом накрыться очень теплым одеялом. Угреешься – и уснешь. Роман Кириллович открывал ночное окно, холод охватывал комнату, сжимал старое одинокое тело. В Москве жене было страшно оставаться, дочь должна быть с матерью, старик это понимал – а сам он не мог уехать от своей родины, от своей библиотеки, от судьбы своего отца; жена и дочь это тоже понимали. Когда старик засыпал под утро, то видел во сне дочь – и просыпаясь, не сразу понимал, что это был сон. У Чехова есть рассказ про то, как мучают собаку, дают ей проглотить кусочек мяса на веревочке – собака глотает, а мясо из нее выдергивают, рвут прямо из желудка. Так вот и со мной во сне происходит, думал Роман Кириллович. Потом он думал о том, что так происходит и с Россией, и с Украиной. Им дают кусочек свободы на веревочке. Они глотают, а потом свободу выдергивают. Правда, никто не знает, что такое свобода; вот в чем дело. Дают что-то несуразное, а потом и эту дрянь выдергивают обратно. Никакого «на самом деле» не существует: есть то, что есть. И только. Но как же поздно это понимаешь. Я ведь хотел видеть Россию – Европой.
Хорошо хотя бы то, думал Роман Кириллович, что отец приучил нас жить небогато. Сегодня российской интеллигенции трудно – знания уже ни к чему, зарплаты профессорам не платят, институты закрыли. А я держусь. Держусь.
Безбытность семьи Рихтеров не была типической чертой русского интеллигента. Типической чертой была зависть к цивилизации. Там, далеко, за дальними границами холодной России, существовал просвещенный западный мир, где у профессоров были пятикомнатные квартиры, где профессора обменивались просвещенными мнениями и получали высокие оклады. Основной принцип российского либерализма в том, что проявляется либерализм как стадное чувство, а не индивидуальный выбор: личной свободы и благосостояния все хотели с единодушием, кое пристало разве что большевистской партийной ячейке.
Роман Кириллович был человеком уникального дарования, но постепенно проникся общим духом русского либерализма. Жилищные условия, если вдуматься, – это оценка обществом твоей личной свободы. Нет-нет, российскую интеллигенцию нельзя обвинить в мелкой корысти – наемных работников умственного труда тяготила забота о демократии. Что такое «демократия», доподлинно узнают лишь на войне, когда массы принуждают умереть за выбранного лидера, но в мирное время о демократии мечтают. Никто из служилых интеллигентов (нанятых на работу олигархом Полкановым) никогда не читал ни Токвилля, ни Джефферсона, но даже гуру демократии Бруно Пировалли, и тот не читал. Никому не интересно, почему аристократ Токвилль ратовал за демократию и состоял в министерстве Наполеона Третьего. В мечтах «демократия» выглядит так: тирании нет, имеется свобода слова и собраний, а также неприкосновенная частная собственность.



