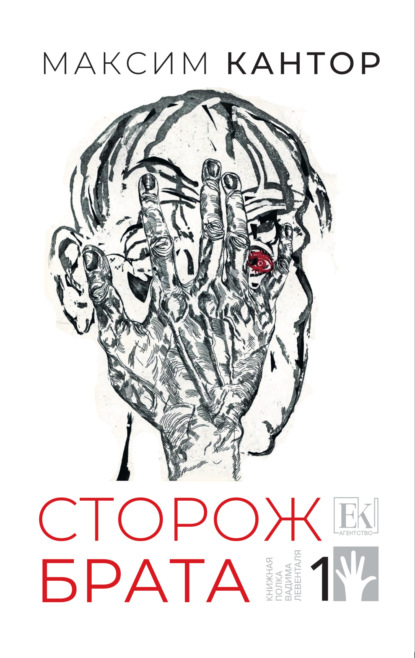
Полная версия:
Сторож брата. Том 1
Раз уж свобода во всем, рассудил он, так пусть будет и свобода передвижения. И уехал. А есть ли в мире более притягательное место для молодого ученого, нежели Оксфорд? Нет такого места. Британию русские интеллигенты традиционно чтят: консерватизм в почете. В Британии не то, что здесь, в России, – так говорили люди умственные, – у нас произвол, а там закон! В Британии королева – воплощение традиции и права (отчего традиция непременно связана с правом и чье это право – не уточняли), да к тому же еще имеется Черчилль! «Remember Churchill» выбито в камне на пороге Вестминстерского аббатства, но крепче и глубже, чем в граните, выдолблено это славное имя в сознании русского интеллигента. Когда сегодняшнего расстригу, молодого тогда еще человека, друзья спрашивали: «За что ты так любишь англичан?», – он со смехом отвечал: «А кого же любить? Молдован, что ли? Цыган, может быть?» Британия манит русского человека, даром что более последовательного противника у России сроду не было.
Факт принадлежности к обновленной России на первых порах способствовал укоренению в Оксфорде.
– Теперь все по-новому? – спрашивали у новоприбывшего. Интересовались, желая заглянуть в бездны русского бесправия.
– О да, – отвечал гость просвещенной части света. – Во мгле брезжит надежда.
– А раньше было плохо?
– Чудовищно. – И собеседники прикрывали глаза, воображая сталинские застенки и психиатрические больницы, где Брежнев, по слухам, гноил диссидентов.
Интерес к сталинским репрессиям угас быстро, как только завершился процесс приватизации. Пока делили недра и расписывали собственность на нефтяные скважины – еще обсуждали кровавого тирана и его гнет. Связь между сталинским произволом и приватизацией народной собственности была самая прямая: фигура злодея пригождалась всякий раз, как заходил спор о воровстве природных ресурсов – тут же вспоминали слова поэта: «Ворюга мне милей, чем кровопийца», и собеседник соглашался, что воровать хорошо, а строить лагеря плохо.
Нувориши (ловкие люди, ставшие в одночасье миллиардерами и собственниками угольных бассейнов и нефтяных скважин) покровительствовали свободной печати. Выходили отчаянные по смелости газеты «Сегодня», «Независимая» и еще что-то столь же непримиримое к преступлениям семидесятилетней давности – основали эти издания олигархи, разворовавшие бюджет страны. Сколь важно было узнать жителям Череповца и Архангельска о произволе тридцатых годов прошлого века! Их собственное бесправие рисовалось беднякам в розовом свете: если выбирать между собственностью карьеров, где добывали сырье для алюминия, и правдой – необходимо выбрать правду. Эту истину внушили населению, и большинство выбрало правду; единицы, впрочем, предпочли карьеры, где мужички добывали глинозем, обогащенный магнием и кремнием. Но, согласимся, парящий в поисках свободы дух редко бросает взгляд на глинозем.
Едва с приватизацией месторождений было покончено, тут же и критика подлой советской власти перестала быть актуальной; о сталинских лагерях говорили реже; пенсионеры-правозащитники еще норовили выступить перед иностранцами с воспоминаниями о вологодском конвое – но пыльных говорунов приглашали лишь политологи, что сочиняли книги о кремлевских интригах. А когда политологи написали каждый по три книги, и книжные магазины уже отказались брать разоблачения лагерной системы Крайнего Севера, тут нужда в правозащитниках испарилась.
Но к тому времени он уже защитил диссертацию, стал жителем Оксфорда, привык к скверному климату и простудам, а пуще того привык к уюту Камберленд-колледжа и каминам. Россия отодвинулась далеко, тамошние волнения и гражданские протесты против новых феодалов долетали в стены колледжа, но уже не волновали воображение; где-то там далеко построили, как они выражаются, «суверенную демократию»; смешно, конечно, но какая разница? Рассказывали, что в России реформы свернули; но находились также и свидетели того, что реформ в России хоть отбавляй: решительно все приватизировано, с социалистической собственностью покончено навсегда. А если кто-то не вписался в рынок, так на то и рыночная экономика, is not it?
Сейчас приеду и сам все увижу, говорил он себе. Хотя не ждал ничего и никакого интереса к разворованной стране не испытывал. Ведь и раньше что-то звало домой – но, пока жил в Оксфорде в своей семье, голос Родины звучал глухо и тихо. Обратного пути в Россию не существует в принципе. Всякий интеллигент знает про это.
Мандельштам в статье о Чаадаеве высказался на этот счет определенно. Осип Эмильевич описал историю Петра Чаадаева, вернувшегося из долгого путешествия по Европе домой, в Басманный переулок. Вот удивительно: уезжал российский говорун в Германию, к философу Шеллингу, ума набраться, а вернулся домой и стал общепризнанным идиотом, царь Чаадаева сумасшедшим объявил. Мандельштам заключил: «Нет обратно пути от бытия к небытию». Сам Осип Эмильевич успел поучиться в Гейдельберге, вдохнул, так сказать, воздух Просвещения непосредственно в месте изготовления такового. Вдохнул, вернулся, выдохнул и как раз угодил в Воронеж. А потом на пересыльный пункт во Владивостоке попал, там и сгинул. Оказалось, что имеется путь от бытия к небытию – мы сами себе не хотим признаться в наличии такового. А путь этот имеется, если вдуматься, по нему идет все человечество.
Вспоминал эти строчки Мандельштама он всякий раз, когда в первые годы эмиграции подумывал, не вернуться ли. Тогда не вернулся, а вот сейчас пришла пора.
Едва сказал себе: «Еду обратно», как оказалось, что желтые стены колледжа, серый твидовый пиджак, прогулки вдоль холодного канала, обеды с профессорами закрывали зияющую черноту.
Садовник Томас высказался положительно насчет отъезда из Оксфорда.
– Валить отсюда надо, ты прав. Хорошо тебе, есть куда податься. Была бы квартира в Москве, дня бы здесь не пробыл. Тьфу, – Томас харкнул на тюльпаны.
– Нет у меня там квартиры.
– Женщину найдешь. С жилплощадью.
– Мне шестьдесят скоро.
– И что? А то женщин не знаешь. Набегут.
– Да, это они умеют.
От садовника Томаса жена ушла к пожилому профессору философии, сама поступила в университет, даже защитила диссертацию, из садовницы стала ученой дамой. Правда, впоследствии ее избранника-профессора арестовали за распространение детской порнографии, и семейная жизнь у новоиспеченной ученой дамы не сложилась. Но и садовнику от того легче не стало. Правды ради, не только она, но и весь колледж расстроился.
Едва мысли двинулись в направлении дружной семьи колледжа, как мимо прошел сам мастер колледжа, сэр Джошуа Черч, мужчина осанистый, краснолицый. Адмирал Королевского флота двигался враскачку, как свойственно морякам. Взгляд флотоводца, привыкший смотреть на серую гладь океана, не опознал в садовнике одушевленный объект, но задержался на капеллане и его собеседнике.
– Ну, что ж, решение принято, – сказал адмирал расстриге, – соответственные распоряжения отданы. Желаем удачи.
Насчет «попутного ветра» адмирал не прибавил ни слова, поскольку службу нес не на парусных судах. Он сказал обычную в таких случаях фразу: «Приятно было вас здесь видеть. It was nice seeing you here», – и двинулся далее.
– Ты посмотри на него. Вот он, хозяин жизни, – рассуждал Томас, глядя вслед шелестящей мантии. – Этот парень и на Фолклендах воевал, и в Ираке отличился, и в правительстве посидел… – Классовая ненависть – чувство, которое признали анахронизмом – колыхнулась в голосе садовника.
– Известно, куда ты едешь? – спросил капеллан Бобслей. – На родину едешь, разве не так?
– На родину, – он был рад, что беседа ушла в сторону от Черча.
Основным принципом обучения в Оксфорде является устранение генеральной посылки. Требуется увести рассуждение от общего к частному, показать ошибки в деталях и сделать бессмысленным обобщение. Ну, для чего знать, что дважды два – четыре, если мы толком не понимаем, что такое «два»? К чему погоня за результатом, если в слагаемых нет уверенности?
– А вот и герой дня! – К ним приблизились два аккуратных человека, одинакового роста и одетых почти одинаково, их можно было принять за родственников, настолько прилежно второй копировал жесты и интонации первого. То был профессор германистики и славистики (дисциплины иногда совмещают) Адам Медный со своим аспирантом Иваном Каштановым, немолодым русским юношей, решившим писать диссертацию по Ницше. Каштанов был из тех немногочисленных российских аспирантов, что не являются сыновьями олигархов; приехал с Урала, из города Челябинска, и каждый день выражал признательность колледжу и лично профессору Медному. Тихие жесты Каштанова, негромкий голос, невыразительное лицо – все это мешало запомнить аспиранта; мешало даже его научному руководителю.
– Рекомендую, это Каштанов, – сказал Медный, уже неоднократно представлявший подопечного за последние два года, но постоянно забывавший об этом. – Этот юноша всерьез увлечен германской философией. Уверяю, нас ждут открытия. Не так ли, Каштанов?
Иван Каштанов ответил тусклым взглядом из-под красноватых век; так смотрит ящерица, прячась в траве. Серое лицо немолодого юноши, в складках, как лицо рептилии, было неуловимо. Так ящерицы покажутся и тут же прячутся в траве, мелькнут и исчезнут. Капеллан Бобслей сказал аспиранту несколько ободряющих слов.
– Вот как, значит, Ницше, – сказал капеллан.
Медный между тем тронул рукав «героя дня».
– На прощание решили всех удивить, не так ли? Рассказывают, мастер попросил вас представить колледжу Алистера Балтимора, галериста из Лондона, а вы публично назвали милого джентльмена спекулянтом. Шутка острая, но уместная ли?
– Разве то, что я сказал, кому-то неизвестно?
Медный прикрыл глаза, выражая терпеливое несогласие.
– Осмелюсь предположить, – сказал Медный, – что мастер колледжа пригласил в колледж гостя, взвесив обстоятельства его биографии.
– Послушайте, Медный, меня просили представить галериста. Чем конкретно приторговывает Балтимор – русским авангардом или современными кляксами, – я этого не знаю. Неужели я сказал «спекулянт»? Сожалею о сказанном.
– Алистер Балтимор – щедрый донатор; уверен, вы в курсе его пожертвований колледжу. Воображаю, вам стало впоследствии неловко.
– Помилуйте, Медный! Уж не из-за торговца абстракциями я уезжаю отсюда.
– О, конечно, конечно, – Медный снисходительно улыбнулся. Медный был поляком, и, если бы дал волю пылкостям шляхтича, профессор расхохотался бы над наивностью отставного коллеги; однако годы пребывания в колледже высушили эмоции. Подобно итальянскому профессору Бруно Пировалли, поляк Медный стал подлинным островитянином. – Колледж не может себе такого позволить. Впрочем, вы уже не несете ответственности. Как быстро мы стали чужими! – Медный негромко посмеялся, затем придержал смех.
Медный был аккуратно слеплен природой, не допустившей излишеств ни в чем. Подобно прочим оксфордским коллегам, он был одет в пиджак и брюки слегка поношенные, но опрятные, имевшие неброский цвет. Что же касается до аспиранта, то пиджак Каштанова был поношен сверх меры, так что возникало подозрение, что причиной изношенности явилась бедность. Аспирант невзрачен, а профессор Медный – в расцвете сорока пяти лет, успешный розовый экземпляр ученого.
– Нам, fellows, вас будет не хватать, – мягко сказал Медный. – Вы оставляете здесь друзей. Это не только мое мнение.
– О, неужели? Oh, really? – два человека, которые не были британцами, но выучились вести себя по-британски, улыбнулись друг другу фальшивыми улыбками.
– Уверяю вас. Не правда ли, Каштанов?
Аспирант профессора Медного тихо кивнул.
– Знаете ли, за ланчем, когда мы услышали о вашем увольнении…
– Как, и приказ уже подписан? Черч проходил здесь недавно. Я не думал, что он успел.
– Черч немного слишком формалист, вы знаете. Но мы склонны прощать адмиралу эту пунктуальность, не правда ли? Эти военные… Но на военных и держится Британия. Так вот, когда мы услышали о вашем увольнении, я спросил у окружающих… сидел напротив Стивена, а Майкл Ситон был слева, Джон Гордон справа… да, так я спросил у них, как они к этому факту относятся. И, знаете, был приятно удивлен: они недвусмысленно дали понять, что им вас будет не хватать.
– Я тронут, Медный.
Медный взмахом руки отмел благодарность.
– Столько лет бок о бок! Я догадался, почему наш друг уезжает, – сообщил профессор Медный капеллану Бобслею и аспиранту Каштанову. – Не сразу, но понял. Этот человек решил повторить поступок Эразма, простившегося с Оксфордом из-за тогдашнего Брекзита. Ха-ха. Признайтесь!
Аспирант Каштанов прилежно прокомментировал реплику научного руководителя:
– Эразм Роттердамский уехал из Оксфорда и не принял предложения короля остаться. Многие считают, что виной тому казнь его друга Томаса Мора и выход Британии из католической веры.
Медный поощрил аспиранта улыбкой.
– Но ведь вы никого не потеряли, друг мой? – мягко полюбопытствовал Медный. – Не случилось ли трагедии? Никого не обезглавили?
На такие вопросы не принято отвечать. Если вас спрашивают how do you do, это не значит, что интересуются анализами.
– Брата арестовали, – ответил расстрига. В колледже ничего нельзя скрыть. Британская сдержанность призывает молчать о частных проблемах, но узнают о них все.
В Оксфордском университете не любят казусов, бросающих тень на колледж. Под Рождество, когда все замерло в ожидании подарков и чудес, совсем не кстати слово «арест». Не столь давно бойкие активисты из молодого поколения профессуры бросились защищать оппозиционера в России, а потом выяснилось, что затравленный властями борец – педофил. Таких faux pas следует избегать.
– Oh, no! – сказал Медный, разумно выдержав паузу. Англичане всегда говорят «о, ноу», когда хотят выразить несогласие с бедой. Скверно, когда происходит беда – нехорошее следует отрицать. И поляки, живущие в Англии, научились этой в высшей степени здравой манере речи. – Oh, no! I can’t believe! Я не верю!
– У вас есть брат? И его арестовали? – большие глаза капеллана выражали сострадание. Священнику полагается понимать how do you do буквально.
– Ну да. В Москве. Арестовали.
Медный, чье славянское происхождение обязывало знать о России, объяснил капеллану, как обстоят дела в северной стране.
– В сегодняшней России, дорогой Бобслей, возродили империю. Аннексия Крыма, война с Украиной, аресты. Тридцатые годы вернулись.
– I am so sorry! – воскликнул капеллан, вложив в слова всю искренность.
Про Крым давно забыли, лишь наиболее рьяные из студенческих активистов задиристо задавали вопросы на семинарах по политологии: «Так чей же все-таки Крым?», да акварелист Клапан (в то время, когда не делал иллюстрации к Мюнхгаузену) выходил с плакатом «Долой тиранию». Что касается брата Рихтера, жившего в Москве, тому, насколько знал расстрига, несвойственно было конфликтовать с властью. Уж не из-за крымского вопроса старика арестовали.
Аспирант Каштанов решил сделать самостоятельное замечание.
– Вы знаете причину ареста?
Научный руководитель Каштанова поднял бровь. Лицо профессора Медного выражало сдержанный гнев: причина ареста в сегодняшней России должна быть очевидна любому. Протест против произвола, не так ли? Аспирант спрятал лицо ящерицы в тень, замолчал.
– Когда едете? – Медный спросил.
– Решил на поезде. Отсюда до Парижа, потом на поезде до Москвы.
– Романтика русской дороги, – сказал поляк Медный, ненавидящий Россию. – Сани, метель.
– Вы герой, – искренне сказал капеллан.
– Не преувеличивайте.
В то время многие граждане пользовались словарем романтических, устаревших понятий, не находя слов для современных событий. Так, сформированные в России и засланные на Украину отряды диверсантов сравнивали с греческими повстанцами, сражавшимися с Османской империей, а командиров отрядов – то с лордом Байроном, то с Че Геварой. При этом забывали, что за Байроном не стояла Британская империя, а за Че Геварой не стоял мощный арсенал ядерного оружия. Равно и тех оппозиционеров, что выходили с плакатами против режима, называли героями Сопротивления, хотя большинство из них работали в тех офисах, что финансировались олигархами, так или иначе повинными в том режиме, против которого голосовали бунтари.
– Не преувеличивайте. Никакого героизма тут нет.
– Рассчитывайте на меня! – воскликнул капеллан. – В сегодняшней проповеди я упомяну вашего брата. Как его зовут?
Профессор Медный подумал, что следует поддержать гуманистическую составляющую в деятельности колледжа, и сказал:
– Вы понимаете, друг мой, если потребуется вмешательство колледжа… Поддержка нашей общей семьи, так сказать… – Медный оглядел собрание, добавил значительно: – В зависимости от характера вопроса, разумеется. В политику не вмешиваемся.
– Постараюсь зря не беспокоить.
– Вы знаете Черча. Он в таких делах педант.
– Разумеется.
– И это свойство мы ценим в адмирале, не правда ли?
– Безусловно. Надеюсь, мне разрешат пользоваться моей комнатой в колледже еще пару недель.
– Приложу со своей стороны все усилия, – сказал великодушный Медный. – Но, как вы знаете, есть очень мало того, что я могу здесь сделать (there is very little what I can do here), – поляк использовал глянцевый английский оборот.
– Полагаете, выселят?
– О, не все так драматично. Уверен, несколько дней у вас есть. Бесспорно, вы можете рассчитывать на колледж. Можете не волноваться, друг мой. Три дня безусловно. Ну, в крайнем случае, два дня. Считая сегодняшний день, разумеется. – И сослуживец по вольному отряду откланялся. Медный удалялся шагом человека, день которого расписан по минутам и отдан важному для коллектива делу.
Аспирант Каштанов последовал за своим наставником, но, отстав, робко сказал:
– Могу ли предложить вам, уважаемый Марк Кириллович, пожить пока в моей комнате? Я живу в общежитии. В удобной комнате, знаете ли. Туалет, правда, общий, но чистый и недалеко по коридору.
– Знаете, Иван, я, пожалуй, соглашусь. Спасибо вам. Надо ж быть таким идиотом, чтобы остаться без крыши в Оксфорде под праздники!
– Мне будет очень приятно, – сказал Каштанов.
– Гостиницу сейчас не достать. Все родители съехались под праздники.
– И дорого, – сказал Каштанов. – Вы заметили, как все подорожало?
– Расскажете, как вас найти? – спросил Марк Рихтер.
Глава 2
Общежитие
– Come, piggy, come, – приговаривал Колин Хей, подбрасывая большим пальцем резиновую свинку. В пабе на Коули-роуд, не столь знаменитом, как вошедший в путеводители «Ягненок и флаг», а в заведении простецком, «Индюк и морковка», сидели рабочие парни, распивающие пиво в предрождественский вечерок.
Играли в «свинюшек»: проигравший ставит на круг новую порцию пива. Маленьких резиновых свинок кладут на край стола и подбрасывают щелчком большого пальца. Истинные мастера добиваются того, что свинка, перевернувшись в воздухе, становится на пятачок, тогда как обычно свинка валится на бок, что приносит ничтожные очки.
– Come, come, piggy! – приговаривал Колин. – Давай, свинка, давай!
Его соперники, Саймон и Питер, опередили Колина уже на десять очков. Все трое работали печатниками в мастерской эстампов – труд нудный и вредный, много возишься с кислотой. В Англии любят эстампы, в Оксфорде эстампы чтут. Жены профессоров во время вакаций склонны набрасывать в блокнотах виды курортов, и, возвращаясь на родину, дамы желают запечатлеть свои произведения в гравюре – мастерская трудилась над видами Везувия и Аппиевой дороги, над образами нищих из индийских деревень и пестрыми фигурками румынских цыган. Они такие колоритные, эти цыгане, if you know what I mean. С недавних пор стали поступать заказы от украинцев – в основном красочные эмблемы национальных батальонов; требовалось напечатать изображения воинов с перекошенными от праведного гнева ртами. Попадались и редкие заказы от русских: те еще тщились пробиться к британскому пирогу. Питер, некогда печатавший офорты для русских эмигрантов (русское искусство никогда не цвело в Англии, но славянские эмигранты пытались делать карьеру), рассказал, что русские в своей азиатской стране играют в «коробочку», игру, похожую на «свинюшек», но только вместо резиновых свинок подбрасывают спичечный коробок.
– Не может быть! – ахнул Колин. – Спичечный коробок? Бедные идиоты! А французы во что играют? В чеснок, полагаю?
Посмеялись. Черным от кислоты и типографской краски пальцем Колин наподдал свинюшке, толстушка полетела над столом. Друзья следили за полетом.
Вульгарные работяги – неподобающее соседство для университетских профессоров, однако подсел к игрокам и капеллан Бобслей, священник с печальными глазами. Бобслей ценил общество «Индюка и морковки»:
– Ну-ка, парни, дайте мне по Борису щелкнуть!
И впрямь, вылитый БоДжо – гладкий, толстенький, кувыркается: святой отец наподдал свинье под хвостик.
Колин Хей хохотал, они с капелланом Камберленд-колледжа давно дружат.
– Валяй, запусти Бориса в космос!
За Британию жизнь отдадут, власть уважают; но тут другое: общая игривость.
– Бобслей победил. Кому платить? Саймон, тебе проставляться.
Печатник Саймон, парень на кривых ногах, отправился к стойке. Вернулся с четырьмя холодными пинтами в красных ладонях.
– Подорожало, однако, – сказал Саймон. – Почти на фунт. А тебе, Бобслей, в колледже бесплатно наливают?
Вы, конечно, представляете себе Оксфорд. Даже если не получали открыток с готическими видами, так вам, наверное, рассказывали, или вы во сне видели первый университет мира. Улочки, мощенные камнем, домики, вросшие в землю, в окошках лавочек предлагают кексы с черникой, шарфы с гербами колледжей и мантии для магистров и докторов. Кому черные мантии с красным кантом, кому сплошь черные, кому черные с меховой оторочкой – зависит от степени и рода наук. И вот, когда спешат по улицам питомцы академических заведений (себя именуют «академиками»), то кажется, будто стая воронов слетелась – черные крылья хлопают за спиной, черные хвосты полощутся в лужах. И летят, как все вороны, на мертвечину, на то, что веками пылится в библиотеках и что не успели расклевать другие. Точь-в-точь такие вороны скачут по лужайкам готического замка Тауэр, и хохолки на их головах напоминают профессорские шапочки с кисточками.
Крепость Тауэр архитектурой схожа с колледжами, что рассыпаны по Оксфорду. В воротах колледжей, чванные, как тауэрские сторожа, стоят привратники в форменных котелках и посторонних не пускают. Разве что голову в ворота просунешь, подивишься подстриженной красоте, и сразу хочется пробраться внутрь, зайти этак небрежно в lounge room, нацедить чашку кофе из кофейного аппарата, развалиться в просторном кресле. Это семейный дом, и нравы теплые. Там и пива, и виски забесплатно нальют, печеньице с полки возьмешь задарма, газетку сегодняшнюю пролистаешь – но только посторонним нельзя войти, допущены лишь ученые вороны. Вот прошла в ворота колледжа гордая ученая птица, зыркнула на любопытствующих просвещенным глазом, а пичужки поскромнее – клювы разинули: чирикают бедолаги, а каркать не умеют. Дрессированные вороны Оксфорда каркают на языке сверхученой премудрости, их карканье чтут даже те, кому вход в хоромы заказан. Обитатели городка в семью и не приняты, но кормятся от щедрот: кто работает при воронах шофером, кто посуду моет, кто розы стрижет. Если адмирал Черч пожелает свою фотографию на фоне розового куста превратить в открытку и послать флотским товарищам, он навестит мастерскую на Коули-роуд. И тогда Колин Хей добродушно спросит: «В небо синьки добавить? Вдруг подумают, что дождь идет». Печатники Колин, Питер и Саймон всегда при деле: что ни вечер для ученых воронов нужно изготовить меню застолий, а это не пустяк. Садясь за high table, ученый ворон желает знать, что сегодня насыпали в кормушку.
– Сказать, что у вас на обед, Бобслей? – Колин спросил. – А то сосисок камберлендских налопаешься, а гусь не влезет.
– В такую погоду, – сказал Бобслей, – два раза пообедать можно.
– Скажи, Бобслей, брать заказы от украинцев?
– Если на пиво хватит.
– Только боюсь, БоДжо в отставку отправят, тут и политика переменится. А у меня заказы: плакаты про войну с Москвой. Не выйдет так, что печатали пропаганду?
Колин употребил странное выражение wrong propaganda (неправильная пропаганда), словно бывает пропаганда правильная. Капеллан указал на то, что любая пропаганда, помимо призыва любви к ближнему, является не вполне правильной; затем успокоил собеседника.
– Мы, Колин, живем в свободной стране. Печатай, что хочешь.
– И то верно.
– Нормальные ребята, – сказал Питер, – я с одним русским работал. Парень как парень.
– Так мы про украинцев говорим.
– Сюда столько народу набилось, я их путаю. Давай, Бобслей, тебе щелкать.
И свинюшка полетела над столом.
Погода скверная, зато настроение удалое. Катится мимо окон паба пестрая молодая толпа, и кто-нибудь обязательно пьяненький (студенчество, как иначе!), и большинство в шлепанцах на босу ногу, пусть лужи и дождь. Толстые розовые английские девицы (таких именуют sausages, сосисками) щеголяют голыми мясистыми икрами – не берут их рождественские холода. Погода такая, что норвежец будет ежиться под ветром. Но сосискам – жарко! Шлеп-шлеп по лужам – и прямиком в паб, а там шум, гам, и там sausages получат настоящие камберлендские сосиски с кетчупом и много дрянного пива.



