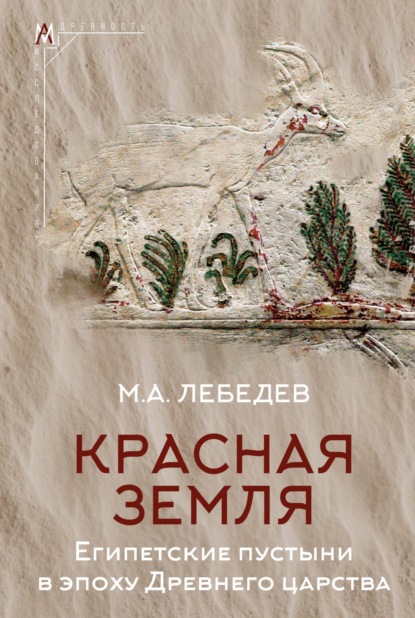
Полная версия:
Красная земля. Египетские пустыни в эпоху Древнего царства
Убежденный коммунист, пострадавший от нацистского преследования и перешедший после известий о сталинских репрессиях на антикоммунистические позиции, К. Виттфогель получил травмирующий опыт взаимодействия с тоталитарными системами. Его перу принадлежит, пожалуй, один из самых нелицеприятных для многих наших современников образов древнеегипетского государства – основанной на всепроникающем контроле, страхе и насилии восточной деспотии, в центре генезиса которой лежала задача централизованного регулирования ирригации[79]. Совершенно другая модель предложена А. Е. Демидчиком, имеющим продолжительный опыт жизни в стране с ярко выраженным делением регионов на «доноров» и «реципиентов». Он полагает, что существование древнеегипетского территориального централизованного государства было в первую очередь вызвано потребностью населения отдельных номов в периодической продовольственной помощи извне[80]. А живущий в испытывающей кризис идентичности и демократических институтов Западной Европе Р. Буссман считает, что древнеегипетскому государству была совершенно чужда забота о благополучии населения, поскольку главной его задачей было простое сохранение царской власти[81]. Изучив аргументацию данных авторов и подбор ими свидетельств, рискну допустить, что каждый из этих подходов отразил в той или иной степени личный жизненный опыт ученого, наложившийся на конкретные научные интересы и, соответственно, используемые источники. Если это так, то в рамках классической модели исторического исследования это будет слабость, а в рамках неклассической и неоклассической моделей в этом можно увидеть силу и ценность, ведь предложенные взгляды могут дополнять друг друга, а не исключать.
Сегодня процессуализм и постпроцессуализм, по сути, соседствуют на передовой археологической науки, где продолжают существовать и другие направления мысли, такие как классический марксизм, неомарксизм, бихевиоризм (потеснивший классический процессуализм)[82], эволюционизм (дарвинизм) и др.[83], которые здесь не рассматривались лишь потому, что оказали пока несравненно меньшее влияние конкретно на египетскую и суданскую археологию. Впрочем, одна из современных теорий в области эволюции живых организмов все же проникла в египтологию последних десятилетий. Речь идет о теории прерывистого равновесия, которая была приспособлена историками и археологами к анализу развития социальных систем. Наиболее видным ее сторонником является крупный исследователь Древнего царства М. Барта. Согласно этой теории, развитие социальных систем протекает не равномерно, а сочетает длительные периоды без значительных изменений (периоды равновесия) с короткими периодами фундаментальных изменений, на основе которых устанавливается новое равновесие, учитывающее изменившиеся внешние и внутренние условия. Радикальный характер преобразований в периоды нестабильности связан с инерцией социальных систем, которые могут долго сохранять устойчивость, сопротивляясь изменениям за счет внутренних ресурсов, но слишком тесно связаны между собой, из-за чего изменения в одной области неизбежно вскоре перекидываются на другие. В истории Древнего царства М. Барта насчитывает четыре периода быстрых изменений: правление Нечерихета (Джосера) в начале III династии, правление Снофру в начале IV династии, рубеж IV и V династий и правление Ниусерра в середине V династии. После Ниусерра, по его мнению, наступило время значительно более частых изменений, закончившееся гибелью централизованного государства[84].
Современная египетская археология продолжает двигаться в сторону теоретического синтеза, где процессуализм и постпроцессуализм (как наиболее влиятельные пока направления, воплощающие идеи рационализма и релятивизма, модернизма и постмодернизма) начинают дополнять друг друга. Одновременно некоторые египтологи выказывают интерес к проблематике школы «Анналов», изучая как структуры большой длительности, существовавшие в социальных связях, культуре, религии, политике, экономике и палеоэкологии на протяжении столетий, так и краткосрочные процессы или индивидуальные события. Нередко они отстаивают использование в египетской археологии междисциплинарного подхода[85].
Как и любая другая наука, археология консервативна и не склонна избавляться от однажды возникших теорий полностью[86], поэтому разнообразие в ней теоретических подходов сегодня не просто велико, но и продолжает расти. Все чаще появляются работы, посвященные относительно новым темам – проблемам пространственного измерения древнеегипетской цивилизации, взаимодействия людей прошлого с природными и культурными ландшафтами, идентификации и самоидентификации, мировоззрения, восприятия собственного тела и возраста, гендерных границ и взаимодействий, диахронических тенденций в культуре и пр.[87] Все большее значение приобретает постколониальная теоретическая повестка, в том числе в изучении взаимодействия древних египтян с населением ныне пустынных областей[88]. Конечно, историография по каждому из этих вопросов уходит своими корнями в XIX в., однако сегодня в распоряжении специалистов оказываются не только традиционные письменные и изобразительные источники, но и более качественные археологические данные, а также новые возможности, которые дают цифровые и естественно-научные методы.
Два последних крупных обзора археологии Древнего и Среднего царств написаны специалистами с ярко выраженным интересом к социальной истории и истории простых людей (истории снизу), но исповедующими разные подходы – антропологический[89] и социологический[90]. Это кажется вовсе не случайным: одна работа отражает тренд на сближение археологии с антропологией и написана под влиянием проблематики школы «Анналов», а другая испытывает сильное влияние марксистской методологии и является одним из вариантов неоклассического ответа на проникновение в египтологию постмодернизма. Объективно говоря, современная историческая наука в целом все теснее сближается с антропологией и дрейфует в сторону социальных наук (хотя остается при этом и наукой гуманитарной). Тенденция эта закономерна, поскольку с момента своего зарождения историческая наука стремится использовать любые новые возможности для того, чтобы как можно более полно реконструировать прошлую действительность. Кроме того, на фоне общемировой тенденции к падению авторитета науки и экспертной оценки, только социальные науки, стремящиеся использовать эмпирические методы познания и формализацию знания, могут пока еще претендовать на тот же статус и влияние на общество, что сохраняют до определенной степени науки точные. По двум указанным причинам у историков древности проявился интерес к социальной географии, экологии, наукам о поведении и пр., а в качестве мостиков между гуманитарной и социальной опорами истории стали перекидывать не только археологию с ее традиционным вниманием к естественно-научным методам[91], но и другие дисциплины, например, социоестественную историю[92]. Последняя нашла значительное развитие в отечественной египтологии в работах Д. Б. Прусакова[93].
Один из главных вопросов, стоящих перед социальными науками, можно сформулировать следующим образом: как и в какой степени на общества влияют универсальные и специфические факторы? Он актуален и для этой работы. С одной стороны, если сильно огрублять, на чаше весов находятся биологическая сторона нашего вида и биологические инструменты адаптации, с другой – культурное многообразие и культурные инструменты адаптации. По сути, по данному «водоразделу» (с одной стороны примат универсальных факторов, с другой – специфических) проходят границы между материализмом и идеализмом, рационализмом и релятивизмом, процессуализмом и постпроцессуализмом или, что будет ближе некоторым отечественным исследователям, классическим марксизмом и неомарксизмом[94].
О последнем стоит сказать отдельно. Интерес исследователей Древнего мира к историческому материализму за пределами стран бывшего социалистического блока (где он имел и продолжает иметь бóльшую укорененность в теории исторических исследований) демонстрирует некоторую закономерность. Времена экономических кризисов или обострения противоречий между Западом и Востоком (а сегодня – скорее между Севером и Югом) традиционно активизировали интерес западных исследователей к марксистскому подходу в истории[95] и археологии[96]. Это кажется логичным, если предположить, что крупные кризисы часто стимулируют поиск общих закономерностей и надындивидуальных объяснений, а спокойные времена порождают интерес к индивидуальным особенностям и недоверие к общим моделям ввиду того, что они неизбежно упрощают рассматриваемый объект.
К началу XXI в. классическая марксистская теория исторического процесса, безусловно, безнадежно устарела[97], как устарела и классическая модель исторического исследования в целом. Однако это не отменяет того, что исторический материализм все так же предлагает ряд эффективных базовых инструментов и методов для критического исторического анализа в рамках неоклассической модели. В этом он напоминает современную себе эволюционную теорию Ч. Дарвина. Наилучшим образом исторический материализм применим к тем древним обществам, от которых в достаточном количестве сохранились источники, позволяющие тестировать традиционные марксистские модели (происхождения государства, взаимоотношения классов, соотношения базиса и надстройки, нарастания противоречий как движущей силы развития общества и др.). Иными словами, он вполне подходит для изучения Древнего Египта[98].
Сближение классического марксизма со структурной антропологией обновило его теоретическую базу. Современный неомарксизм уделяет значительное внимание сложному разнообразию способов производства, признает важную роль идеологии и может объяснять изменения в обществах не только борьбой за власть и контроль над ресурсами, но и, например, противоречиями между родственными, возрастными или гендерными группами. Что неомарксизм продолжает отрицать, так это способность внешних факторов спровоцировать социальные изменения, хотя иногда рассматривается их сдерживающее или активизирующее влияние.
Последнее, о чем следует здесь сказать, – это теоретический застой, в котором оказалась египтология как историческая наука. Здесь мы не одиноки: XXI век не породил пока никаких существенных теоретических инноваций в области истории ни на уровне теоретической рефлексии, ни в применении новых интересных концепций, ни в области междисциплинарной интеграции. Есть тенденции, которые начались во второй половине XX в. и продолжают развиваться сегодня, а также аналитические процедуры и методы, позаимствованные из прошлого столетия[99]. Принадлежность одновременно к двум группам наук о человеке создает для историков очевидные проблемы сочетания теории и метода. Это особенно актуально в том случае, если в историописании начинают использоваться теории социальных наук, созданные для работы с совсем другими объектами исследования, т. е. опирающиеся на методологию, которая в той или иной степени подразумевает общение или длительное наблюдение за объектом[100]. Такой подход может привести либо к продвижению теории без должного подкрепления данными (которых не будет в достаточном количестве), либо к необоснованной модернизации древних культур. Там, где В. Граецки видит влияние современного общества и идеологии на египтологов, пишущих о Древнем Египте в категориях свободного рынка, раннего капитализма, индивидуализма, феминизма и т. д.[101], порой, возможно, логичнее усмотреть результат приложения теорий современных социальных наук к неподходящему для этого материалу[102].
К началу XXI в. энтузиазм по поводу возможностей открытия новых общих законов развития общества и формулирования универсальных теорий существенно снизился как среди историков и археологов, так и представителей чисто социальных дисциплин[103]. В несколько меньшей степени это касается веры в достижимость в обозримом будущем более глубокого междисциплинарного синтеза на основе естественно-научных или цифровых методов. Осознание плато, на которое вышли социальные и гуманитарные науки, породило неизбежную дискуссию о вероятном тупике, в который зашла к началу XXI в. историческая и археологическая теория[104]. Среди египтологов похожие настроения удачно выразил Дж. Бэйнс: «Некоторые положения о Древнем мире могут быть опровергнуты в случае появления четких и подходящих контраргументов, но это нечастая ситуация; и очень редко что-то может быть подтверждено, если только речь не идет о суждениях, которые настолько очевидны, что не представляют серьезного интереса. Гораздо чаще новые свидетельства обогащают и усложняют картину или вместо ответа на старые вопросы лишь задают дополнительные»[105]. Одним из результатов наступившего кризиса стало исчезновение больших исторических нарративов. Вот уже более 30 лет[106] истории Древнего Египта и Куша, если речь не идет об учебных пособиях, пишутся исключительно для широкой аудитории в научно-популярном формате или подменяются коллективными сборниками обзорных статей и энциклопедиями[107].
Как это часто случается, за большими надеждами и планами приходит время кропотливой работы с учетом обогащенной теоретической и методологической базы. В качестве примера таких исследований на материалах Древнего царства по теме настоящей книги можно привести работы М. Ленера и П. Талле, стремящихся использовать максимальное разнообразие данных (археологических, в том числе данных экспериментальной археологии, археоботанических, археозоологических, геоморфологических, письменных, изобразительных и др.) при изучении древнеегипетской инфраструктуры эпохи IV династии[108], или работы М. Одлера, посвященные производству, использованию и значению предметов из меди[109]. Междисциплинарность уже не исчезнет, и кажется очевидным, что она будет определять развитие исследований об эпохе Древнего царства в ближайшие десятилетия. Важно при этом отметить, что осознание пределов возможностей социальных наук не только укрепило статус гуманитарных способов познания, но и привело к повышению внимания к традиционным историческим методам со стороны представителей социальных и даже некоторых точных наук. Это вполне объяснимо, ведь социальные науки заточены под изучение процессов, институтов, агентности (способности индивидов, ландшафтов и вещей воздействовать на окружающий мир), а гуманитарные науки имеют дело со смыслами, их инструментарий позволяет уловить вещи более эфемерные, но часто не менее значимые[110].
1.3. Пределы наших возможностей
«Письмо к женщине», С. А. Есенин
И предал я сердце мое тому,
чтобы познать мудрость
и познать безумие и глупость:
узнал, что и это – томление духа;
потому что во многой мудрости
много печали.
Эккл. 1: 17–18Один из парадоксов научного познания заключается в том, что, расширяя объединенными усилиями область знания, ученые одновременно увеличивают границу ее соприкосновения с областью незнания. Иными словами, чем точнее наши сведения о Древнем царстве и чем сложнее и разнообразнее вопросы, которые задаются источникам, тем конкретнее обрисовываются масштабы (еще) непознанного. Превращая незнание в сформулированную задачу, мы можем двигаться вперед в своей научной работе. На этом пути мне видятся три крупных вызова: 1) оценка границ и качественных характеристик нашего незнания; 2) согласование разных типов и видов данных для получения более полной общей картины; 3) определение масштабов изучаемых явлений и траекторий развития выявленных процессов.
1.3.1. Границы нашего незнания
Первая проблема кажется наиболее серьезной. Лакуны в научных данных могут быть порой настолько значительны, что некоторые из них из-за своих масштабов будут попросту не очевидны. Представим, что какие-то категории населения древнеегипетской Нильской долины не находили регулярного отражения в сохранившихся письменных и изобразительных источниках, связанных преимущественно с культурой правящего класса и государством. Они, конечно, должны были оставить свой след в материальной культуре, которая отражает более широкий спектр акторов, агентов, процессов и действий, но интерпретировать ее часто еще сложнее. Как в этом случае можно определить границы нашего незнания, скажем, о структуре древнеегипетского общества? Это, по меньшей мере, непросто.
Выявленные лакуны в данных можно залатать с помощью аналитических методов, но они не компенсируют сами данные. Поэтому заплаты эти регулярно отваливаются и заменяются новыми. Рассматривая наиболее типичные логические ошибки, встречающиеся в египтологических работах, Дж. Ги особенно выделяет игнорирование противоречащих гипотезе свидетельств, поспешные обобщения и использование более ранних допущений в качестве истин[111] или, выражаясь словами А. О. Большакова, «традиции, освященной авторитетом времени»[112]. Ими, конечно, ошибки не ограничиваются. Нередко, к примеру, велик соблазн принять отсутствие данных о явлении за доказательство отсутствия самого явления. Так же легко не заметить систематические ошибки отбора. Ошибок, искажений и упущений избежать нельзя, но можно уменьшить их количество и влияние на итоговый результат, если регулярно сверяться с известными ограничениями источниковой базы и используемых методов.
Эпоха Древнего царства отражена в источниках очень неравномерно. Это касается как текстов и изображений, так и археологических памятников, количество которых колеблется от царствования к царствованию, демонстрируя лишь общую тенденцию к увеличению с III по VI династии, после чего их число снижается. Неравномерность, конечно, наблюдается не только в области хронологии (более поздние источники, как правило, более многочисленны), но также в области материалов (неорганические материалы часто сохраняются лучше, чем органические), географического распределения (столичные памятники изучены лучше, чем провинциальные), типов памятников (гробничные и культовые комплексы часто исследованы лучше, чем поселенческие, производственные или инфраструктурные), их престижности (памятники, создававшиеся для правящего класса, известны подробнее, чем предметы и их комплексы из менее элитных контекстов) и массовости (массовые категории памятников традиционно изучены лучше, чем редкие).
Вероятно, следует признать, что подавляющая часть событий и значительная часть процессов, которым были свидетелями древние египтяне, никогда не были ими отражены в письменном виде[113]. Из тех, что были задокументированы, очень немногие сохранились до нашего времени. Из тех, что сохранились, далеко не все были найдены. Из тех, что были найдены, не все опубликованы. Не все опубликованные тексты представлены достаточно полно, чтобы их можно было легко использовать в доказательной базе[114]. Наконец, порой бывает, что не все хорошо опубликованные надписи находятся в поле зрения или доступны конкретному исследователю. Оценить лакуны, возникающие на каждом этапе такого отбора, непросто. Это же в целом справедливо и для изобразительных источников с той лишь разницей, что появились они раньше, а сфера их употребления не была тождественна сфере употребления письменных памятников, хотя с ней значительно и пересекалась. Данные вызовы хорошо осознаются профессионалами, привыкшими работать с традиционными историческими источниками. Позднее я коснусь их подробнее в главе 8, посвященной государственным экспедициям за пределы Нильской долины. А пока перейдем к археологии.
Для историков, филологов или искусствоведов, которых среди специалистов по Древнему миру большинство, ограничения археологов могут быть не всегда очевидны. Формально любое физическое действие оставляет в материальном мире тот или иной след. Однако эти следы сразу начинают преобразовываться, подвергаясь естественным тафономическим процессам: органические материалы разлагаются, металлы подвергаются коррозии, архитектура – эрозии, следы стираются, изначальное положение артефактов (вещей) и экофактов (мягких тканей некогда живых организмов, скелетов, макро- и микроостатков растений и т. д.) нарушается, культурные ландшафты изменяются. Человеческая деятельность влияет на сохранность исторических «улик» о конкретном событии, явлении или процессе столь же сильно: постройки разбираются, памятники переиспользуются, металлические изделия переплавляются, погребения разграбляются, культурный слой нарушается, ландшафты преобразовываются. Парадокс артефактов и экофактов заключается в том, что иногда они могут казаться очень красноречивыми и объективными, но это зачастую иллюзия. Сами по себе, подобно уликами на месте преступления, они молчат, начиная говорить лишь благодаря аналитическим способностям следователя и технологиям. Иными словами, все материальные свидетельства являются таким же конструктом, полученным в результате интерпретаций, как и любые другие свидетельства. С одной стороны, это порождает свойственный археологам, – в особенности изучающим бесписьменные общества, – эпистемологический пессимизм, с другой – стимулирует творческие научные инновации в теории и методологии[115]. Проработав более 20 лет в различных археологических проектах, вынужден согласиться с расхожим мнением о том, что археологи, занимающиеся письменными обществами, а тем более письменным обществом с такой яркой и, казалось бы, красноречивой материальной культурой, как древнеегипетская, в среднем менее склонны к рефлексии относительно инструментов, используемых для превращения археологических данных в археологическую информацию и археологические свидетельства. Это не отменяет того, что они проводят с артефактами, экофактами или древними ландшафтами ту же интерпретативную работу, что и их коллеги из других регионов, просто качество этой работы может быть ниже, а результаты – хуже.
Возьмем для примера контакты жителей Нильской долины с территориями современных пустынь, и мы увидим множество лакун даже по трем самым очевидным вопросам:
1) Что египтяне искали?
Египтяне эпохи Древнего царства получали из-за пределов Нильской долины широкий набор минералов и органических ресурсов[116], а также дичь, скот и людей. Работая преимущественно с эпиграфическими источниками, а не хозяйственной документацией, которая почти не сохранилась, исследователю стоит готовиться к тому, что свидетельства о редких, но важных с политической, идеологической или культурной точки зрения событиях будут доминировать над свидетельствами о регулярных и вполне рутинных поставках или перемещениях ценностей и людей, которые потенциально имели большее хозяйственное значение[117].
Многие египетские термины, использовавшие для обозначения минералов[118] и органического сырья, поставлявшихся из ныне пустынных областей, не поддаются пока переводу. За редким исключением мы почти ничего не знаем о фактических объемах таких приобретений, конкретных источниках материалов, происхождении животных или переселенцев/пленных[119]. Археология здесь обычно может дать только самые общие ответы. К тому же археологам куда проще проследить перемещения предметов и материалов, чем выявить стоявшие за этим институты и ответить на вопрос о том, кем были добыты те или иные ресурсы. Нам действительно очень сложно судить, какие минералы и с каких месторождений египтяне были готовы добывать самостоятельно, а какие лишь обменивали у местных жителей в контактных зонах. В особенности это касается не самых ходовых минералов вроде слюды, графита, халцедона, полевого шпата, граната, горного хрусталя и пр.
Даже если мы оставим в стороне органические или малопрестижные дары пустынь и саванн, такие как шкуры, рога, смолы, лечебные растения, необычные камни и окаменелости, раковины, дерево, пигменты или мед, о которых – помимо археологии – данных практически нет, и возьмем лишь камень, шедший на строительство, саркофаги и скульптуру, ситуация все равно будет оставаться непростой. Даже проводившаяся в почти идеальных условиях попытка оценить объем добытого и использованного в Древнем царстве базальта (известны всего одни крупные каменоломни этого времени и практически весь добытый там камень шел на уже раскопанные царские погребальные и поминальные комплексы) дала результаты с двукратным разбросом[120]. Что уж говорить о других материалах, таких как травертин, кварцит, граувакка, диорит, которые разрабатывались на нескольких месторождениях, а затем находили широкое применение не только в более задокументированной сфере царского строительства и производства, но и далеко за ее пределами. Добавим сюда традиционную для египтологии проблему с определением материалов «на глаз» с последующим воспроизведением этих интерпретаций в литературе. Петрографические исследования с целью точного установления породы камня и источника его добычи очень редки, а когда они все же проводятся, полученные результаты не гарантируют безошибочных выводов[121].
То же самое касается другого важнейшего вида сырья – металлов. Возьмем, к примеру, медь. Нам известны основные районы добычи использовавшейся в Древнем царстве меди: Синай и Восточная пустыня, Нубия, Азия и Пунт, – но оценить фактическое значение поставок из этих регионов, их соотношение в общем балансе поступления металла в египетскую Нильскую долину и дельту в конкретные исторические периоды мы пока не можем. Изотопный анализ свинца в медных сплавах помогает установить происхождение руды, из которой был сделан предмет. Но ограничением остается очень небольшое количество опубликованных сравнительных данных изотопных исследований образцов с древних месторождений. Такая ситуация не позволяет пока даже приблизиться к оценке роли не только конкретных разработок, но и целых регионов добычи в обеспечении населения Нильской долины важным металлом[122]. На это накладывается и проблема существующей выборки: находившиеся в обороте медь и бронза очень ценились, и изделия из них многократно переплавлялись, поэтому большая часть дошедших до нас металлических предметов происходит из погребений или контекстов, связанных с культом и ритуалом[123], где у них шанс археологизироваться был выше. Если географическое происхождение медной руды имело значение в культуре (если, например, какие-то месторождения считались символически более значимыми или священными) или экономике (если, например, у государственных и частных мастерских были разные источники сырья), то имеющаяся у нас выборка может оказаться к тому же еще и нерепрезентативной для изучения источников минералов и объемов их добычи.



