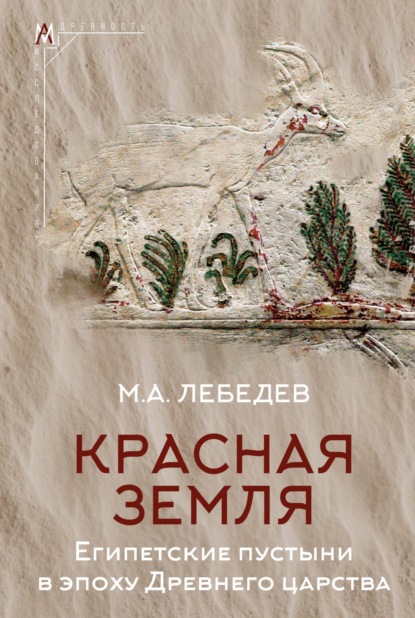
Полная версия:
Красная земля. Египетские пустыни в эпоху Древнего царства
Египетскую администрацию эпохи Древнего царства можно разделить на центральную (связанную с решением общегосударственных вопросов) и местную, или провинциальную. В какой момент бóльшая часть решений, связанных с функционированием государства, стала приниматься не в рамках института царской семьи или неформальных связей, а через бюрократию – сказать сложно. Скорее всего, бюрократия отвоевывала командные высоты на всем протяжении египетской истории. М. Барданова полагает, что патримониальная бюрократия могла существовать параллельно с более древней иерархичной системой патримониальных домашних хозяйств[47]. Значение бюрократии в таком случае на протяжении египетской истории не было постоянным и менялось в зависимости от эпохи и конкретной сферы деятельности. Изначально администраторы должны были набираться из среды родственников царя, а затем личных слуг и зависимых людей, которые декларировали преданность правителю и веру в его особый божественный статус. Такая модель не подразумевала существования политического и экономического разделения на частное и служебное, наличия структурных или символических альтернатив правящему классу и возможности функционирования государства в отрыве от личности правителя. C рубежа IV–V династий в число администраторов начинают попадать люди из-за пределов большой царской семьи (за счет экспатримониального рекрутирования)[48]. На протяжении V династии этот процесс становится все более заметным и значимым. К концу V династии начинают быстро развиваться провинциальные центры, в них фиксируется появление стабильных служебных элит с собственными традициями преемственности.
Древнеегипетская администрация выступала гарантом социального порядка в интересах правящего класса. При этом явных свидетельств ее заинтересованности в глубоком проникновении в жизнь локальных сообществ, за исключением сфер сбора податей и контроля повинностей, в эпоху Древнего царства не наблюдается. Р. Буссманн предлагает рассматривать III тыс. до н. э. как время постепенного роста масштаба древнеегипетского государства, происходившего за счет переформатирования «традиционного» Египта в соответствии с абстрактными моделями, которые транслировались из царской резиденции. Среди таких моделей, унифицировавших жизнь по всей стране, он называет представление о Египте как единстве «двух земель»[49], а также деление территории страны на номы и владения отдельных богов. По мнению Р. Буссманна, государство настойчиво продвигало эти модели в жизнь, в том числе за счет внутренней колонизации и монументального строительства, пока к началу Нового царства, т. е. спустя примерно полторы тысячи лет, они не стали наконец соответствовать реальной практике на местах[50]. Как в Древнем царстве управлялись жители многочисленных селений, а также всевозможные скотоводы, охотники и собиратели, занимавшие окраины культурного ландшафта Нильской долины и дельты, практически не известно. Вероятно, в этой среде была велика роль неформальных (с точки зрения государственной администрации) лидеров, но как их власть или авторитет реализовывались в конкретных исторических условиях далеко не всегда ясно[51].
Институты. Когда речь заходит о деятельности государства, то обычно имеются в виду институты, посредством которых правящий класс стремится достигать своих целей. В романо-германских языках, которые, собственно, преимущественно и используются для изучения Древнего Египта, существует разделение между терминами «институт» (организация с определенными задачами) и «институция» (может обозначать как организацию, так и обычаи, практики или законы, например, брак, семью, частную собственность). В отечественной науке второй термин используется редко. Это создает ловушку и нарушает однозначность научного языка. Привычные отечественным коллегам словосочетания вроде «социальный институт» или «экономический институт», обозначающие формы совместной деятельности людей, для большинства иностранных коллег, по сути, имеют смысл только в названиях каких-либо организаций[52].
Осознавая сложившуюся ситуацию как данность, я буду использовать термин «институт» в привычном для отечественной историографии расширенном значении. То есть буду понимать под ним и совокупности формальных и неформальных норм, такие как царская власть, правосудие, семья или наследование, и организации – совокупности людей, объединенных для решения каких-либо задач на основе разделения обязанностей. Организации возникают в уже существующих институциональных рамках, но затем начинают выступать в качестве агентов институциональных изменений. Связанные с государством организации я буду делить на органы, занимавшиеся преимущественно реализацией государственной власти, и учреждения, занимавшиеся преимущественно производством, хранением и распределением. Оговорка про преимущественную функцию не случайна. Поскольку деление это условное и весьма модернизационное, оно, по всей видимости, не вполне соответствует древнеегипетским практикам, в условиях которых одна и та же организация, вероятно, вполне могла выполнять несколько указанных функций одновременно. Поскольку о реалиях управления в III тыс. до н. э. мы все еще осведомлены довольно слабо, то под термином «государственный институт» в большинстве случаев вряд ли получится описать что-то более конкретное, чем сфера деятельности.
Правящий класс. Под правящим, или господствующим, классом будет пониматься совокупность людей, которые получали в структуре древнеегипетского общества максимальные блага. Внутри правящего класса принимались основные управленческие решения, из него рекрутировались все или почти все кадры для институтов государственной власти и его следует отличать от остальных – более широких – слоев (страт) общества. Иногда, особенно при рассмотрении культурной роли правящего класса, в качестве синонима будет использоваться термин элита [53].
Экономика и хозяйство. Под экономикой в настоящей работе будет пониматься комплекс отношений между людьми и институтами в сферах производства, обмена и распределения продукции, а под хозяйством – совокупность естественных и созданных человеком благ, которые использовались для обеспечения жизнедеятельности и улучшения существования людей.
Глава 1
Исторические исследования и египтология
D'où venons nous? Que sommes nous? Où allons nous?
Название работы Поля Гогена1.1. Как мы познаем прошлое?
Из-за своей малочисленности египтологи по всему миру часто заняты большим объемом рутинной работы по сбору, переводу, описанию и базовому анализу источников, а потому, как отметил Дж. Бэйнс, «не очень-то открыты к вопросам теории и методологии», а «на уровне интерпретации нередко работают без осознания управляющих ими предпосылок»[54]. С этим можно соглашаться или спорить, но, вне зависимости от склонности конкретных исследователей к рефлексии, следует помнить, что каждая историческая эпоха рождает свои доминирующие способы приобретения знания. В отечественной египтологической литературе обсуждать их не принято, поэтому, возможно, стороннему читателю будет интересно, если я остановлюсь на данном сюжете чуть подробнее. Итак, как мы узнаем то, что мы знаем?
Египтология – историческая наука, зарождение и развитие которой пришлось на Новое и Новейшее время. Соответственно, в ней представлены те модели исторического исследования, которые были предложены в XVIII–XXI вв.: классическая, неклассическая, неоклассическая и даже частично постмодернистская[55]. Эти модели можно отнести к первому, философскому уровню методологии исторического исследования. Они по-разному определяют предметную область исторического познания, его когнитивную стратегию, основные познавательные средства и, наконец, роль ученого в получении нового исторического знания. Внутри каждой модели конкурируют различные парадигмы, которые определяют постановку и решение исследовательских задач – это второй уровень. Внутри парадигм, на третьем уровне, такая же конкуренция наблюдается между историческими теориями с конкретной предметной привязкой – здесь мы впервые оказываемся непосредственно в области египтологии. Наконец, на четвертом уровне в рамках теорий конкурируют отдельные методы[56].
Классическая модель исторического исследования – это порождение рационалистической культуры эпохи Просвещения с характерной для нее верой в познавательные возможности человеческого разума и критикой здравого смысла и обыденного опыта. Окончательно классическая модель сложилась в рамках позитивизма XIX в. Это была первая попытка создания исторической теории, которая будет столь же доказательной и общезначимой, как и теории в естественных науках. Исторический позитивизм развивался под лозунгом объективизма (принципиальной возможности познания исторического прошлого таким, каким оно в действительности было) и подразумевал существование общих закономерностей исторического процесса. Поскольку предметом классической модели исторического исследования выступала надындивидуальная реальность прошлого, сторонников этой философской позиции в первую очередь интересовали социальные отношения, процессы и структуры. А в силу того, что в исторической науке описание фактов (обязательное условие накопления эмпирического знания) неразрывно связано с повествованием, традиционной формой классической модели исторического исследования стал событийный нарратив. Так в египтологии появились большие истории Древнего Египта, охватившие, в частности, описание прошлого прилегающих к Нильской долине областей[57]. Классическая модель породила целый набор теорий, из которых при изучении Древнего мира оказались востребованы преимущественно формационный подход, стадиальная теория цивилизаций и миросистемный подход.
Уже к рубежу XIX–XX вв. идеалы Просвещения перестали устраивать часть исследователей прошлого. Расширялась реакция на кризис позитивизма, который никак не мог превратить историческую науку в аналог естествознания. Трагические события первой четверти XX в. сформировали в Европе острое ощущение ценности жизни и убеждение в важности каждого конкретного человека как источника творческого начала. Новый тип рациональности требовал искать не только типичное, надындивидуальное, но и видеть индивидуальное. Это привело к изменению представлений о предмете исторической науки: от поиска общей логики исторического процесса исследователи стали переходить к поиску неповторимого и личного. Если для позитивистов работа историка – это взаимодействие нейтрального исследователя (субъекта) и совершенно внешнего по отношению к нему исторического объекта, то в неклассической модели человек из иной эпохи тоже начинает восприниматься субъектом со своей мотивацией и внутренним миром. Монолог исследователя о прошлом заменяется на диалог с прошлым[58], который по сути есть еще и диалог культур. Представление о том, что в прошлом люди базово обладали той же рациональностью, что и наши современники, способствовало реабилитации индивидуального здравого смысла в науке при одновременном отступлении теории. Потенциально это делало правдоподобие чуть ли не главным критерием научности, что таило в себе определенные опасности. К неклассическим направлениям в исторических исследованиях относятся, например, цивилизационный подход, история повседневности и микроистория. Все они в той или иной степени нашли применение в египтологии.
Во второй половине XX в. был предложен еще один ответ на кризис ценностей и идеалов Просвещения – постмодернизм. В его рамках отвергается самое базовое положение классической модели исторического исследования – принципиальная возможность получения объективного истинного знания о прошлом. Постмодернисты полагают, что так называемые исторические факты, которыми оперируют историки, – это суть конструкты, создаваемые самими исследователями под влиянием собственной личности, опыта и задаваемых источникам вопросов. Иными словами, историческая реальность недоступна, доступны лишь представления историков о ней, зависящие от точки зрения и инструментария исследователя: при их изменении будет изменено и представление о прошлом. Указывалось, что никакой уровень мастерства историка не способен преодолеть исследовательскую субъективность и помочь специалисту перейти от конструирования прошлого к его реконструкции. Поэтому самым продуктивным для историков будет поиск в прошлом чего-то единичного и уникального, а при изучении конкретного предмета – свободное комбинирование максимально большого числа методологических подходов. В XXI в. в своем наиболее вульгарном виде постмодернизм проник в сознание отдельных политиков, которые в своем увлечении прошлым стерли грань между изучением истории и пропагандой. Нет нужды говорить, что постмодернизм не нашел среди египтологов, как и среди других представителей исторических наук, значительной поддержки. Однако некоторое воздействие идеи постмодернизма на археологию Нильской долины все же оказали в рамках постпроцессуализма; кроме того, иногда влияние постмодернизма можно углядеть в проникновении в египтологические исследования неолиберальных идей и концепций (хотя это далеко не единственная причина данного явления).
Естественной реакцией на распространение постмодернизма, угрожающего самому статусу истории как науки, стало появление в конце XX в. неоклассической модели исторического исследования. В ее основе, как и в случае с классической моделью, лежат историзм (признание важности изучения объектов в связи с конкретно-историческими условиями их существования), объективизм (уверенность в возможности объективного познания прошлого) и холизм (признание приоритета целого над его частями). Однако неоклассики учли критику со стороны представителей неклассической модели и постмодернистов, отказавшись от наиболее уязвимых положений. Многие их них отошли от сущностного отождествления исторической науки и естествознания, признали важность изучения – помимо общих закономерностей – индивидуальной исторической реальности, единичного и уникального, подвергли критике представление о неизбежности прогрессивного движения в истории, признали принципиальную недостижимость абсолютной нейтральности ученого по отношению к объекту своего исследования и зависимость содержания научных фактов не только от исторической реальности, но и от представлений историков. Кроме того, неоклассический подход критикует стремление к созданию универсальных теорий исторического развития и практику заимствования теорий из общественных и социальных наук. Многие положения неоклассической модели нашли реализацию в египтологии, которая на современном этапе в теоретическом плане демонстрирует фрагментарность и разорванность, свойственную, впрочем, и другим историческим дисциплинам. Можно предположить, что рост консервативных настроений, правого и левого популизма и политической напряженности по всему миру вернет в обозримой перспективе интерес историков к большим теориям в духе классических моделей исторических исследований.
Отечественная египтология развивалась своим особым путем. Оставаясь значительную часть XX в. довольно оторванными от мировой науки и проходивших там дискуссий, советские и затем российские египтологи продолжали разрабатывать методы, присущие в основном классической модели исторического исследования. В этом можно увидеть как очевидные минусы, так и плюсы. К последним можно отнести готовность отечественных специалистов заниматься фундаментальными вопросами[59]. Те же политические обстоятельства привели к тому, что археология и, шире, полевые исследования стали неотъемлемой частью отечественной египтологии только в последние два десятилетия[60], а до этого фактически отсутствовали[61]. Это существенно отличало специалистов из СССР даже от их коллег в других социалистических странах и привело к тому, что археологическая теория фактически не оказала на отечественную египтологию никакого влияния, а ее достижения не учитывались. Поэтому сейчас самое время присмотреться к египетской археологии чуть пристальнее.
1.2. Изучение Древнего Египта через призму археологии
Изучение человеческой деятельности в египетских и суданских пустынях и саваннах (илл. 8а-б, 9а-б) имеет длительную историю, которая началась задолго до рождения собственно египтологии и кушитских исследований и уходит своими корнями в античную традицию. А современная история изучения окружающих Нильскую долину областей начинается с Египетского похода Наполеона Бонапарта (1798–1801 гг.), когда в стране пирамид вместе с солдатами революционной Франции оказалась первая по-настоящему комплексная научная экспедиция, воплотившая идеалы и достижения эпохи Просвещения. Хотя в 1822 г. египтология родилась как наука, занимающаяся прежде всего работой с текстами, этому рождению предшествовал длительный «внутриутробный» период, наполненный не чтением оригинальных письменных источников, а многочисленными раскопками и работой с оригинальными памятниками материальной культуры. С тех пор, если выражаться словами С. Кёрка, «египтология занимает необычное положение в академическом ландшафте, где-то между археологией и историей»[62]. Это наблюдение справедливо для многих национальных школ, хотя в отечественной египтологии археология только становится самостоятельным полюсом притяжения.
Если взять археологическую составляющую египтологии, то историю нашей науки можно с некоторыми оговорками разделить на три этапа: эпоху антикварианизма, типологический этап и этап контекстуальный. Подобно любой простой модели, это деление не отражает, конечно, всей сложности происходивших в науке процессов и разнонаправленных движений, однако результирующие векторы движения она определяет, как мне кажется, верно. За это время в центре сущностных дискуссий попеременно оказывались предмет, тип и контекст. А если настроить оптику на историю изучения пустынных областей, то в центре внимания на этих этапах мы увидим поочередно поиск надписей, группировку надписей и помещение их в археологический контекст.
Эпоха антикварианизма характеризуется интересом к древностям как таковым, а также стремлением обладать ими. После похода Наполеона широкий круг европейцев, в том числе ученых, впервые познакомился с египетскими природными ландшафтами и отдельными, наиболее яркими категориями древних памятников. В результате Египет стал популярен среди широкой публики, египетские древности нашли свое место в крупнейших музейных и частных коллекциях, а иероглифическое письмо в итоге было расшифровано, что положило начало египтологии как науке. Продолжающиеся раскопки накапливали свидетельства разнообразия древнеегипетской материальной культуры, что создало предпосылки для перехода к следующему этапу.
Господствовавшая тогда классическая парадигма исторического исследования в своем стремлении к целостности неизбежно выводила на представление о египетской истории как единстве, имеющем определенную логику развития. Для выявления этой логики требовалась систематизация имевшихся данных. Новый, типологический, этап начался в конце XIX в. благодаря активной деятельности Флиндерса Питри и его современников. Основным вкладом археологии в исторические исследования в это время стала относительная хронология предметов материальной культуры. Именно тогда были описаны и обоснованы главные типологические последовательности, которыми египтологи пользуются по сей день – от архитектуры до керамики. Составление типологий требовало продолжительных раскопок большими площадями и крупных региональных исследований. Археологи типологического этапа работали преимущественно в рамках культурной истории, отвечая на три главных вопроса: «Что? Где? Когда?». А в основе классификаций тех времен лежали в основном форма, материал и стиль. К концу этого этапа исследователи уже многое знали о памятниках в пустынях – в особенности о надписях, доисторических петроглифах и архитектуре, – их датировке, содержании и типах.
На контекстуальном этапе добываемые археологами памятники и свидетельства стали широко привлекаться для изучения культурных и исторических процессов, а в типологии стали учитывать функциональное назначение, роль и даже агентность (способность вещей воздействовать на людей и другие вещи)[63]. Основные актуальные вопросы предыдущего этапа была заменены на «Как?» и «Почему?». В немалой степени началу этого этапа способствовало появление так называемой новой, или процессуальной, археологии, развивавшейся с 1960-х гг. в странах Запада (прежде всего в США и Великобритании)[64].
Процессуализм – это попытка приблизить археологию к социальным и точным наукам в плане методологии и качества данных. В этом случае, как считалось, археология сможет перейти от простого описания прошлого к его объяснению. Процессуальный подход подразумевает, что главной задачей археолога является изучение динамики развития древних культур и происходивших там процессов[65]. Это предполагает наличие у культуры определенных законов развития, которые можно изучить. Необходимым условием достижения поставленной цели процессуальные археологи считают получение как можно большего количества и разнообразия данных. Эти данные должны быть надежными, т. е. добытыми с использованием корректных научных подходов и методов, и пригодными для последующего дедуктивного анализа с целью получения информации и свидетельств[66].
Процессуальный подход развивался в парадигме позитивизма и затем постпозитивизма. Поэтому неудивительно, что «новые археологи» стремились как можно активнее привлекать к своим работам естественно-научных специалистов. Кроме того, они полагали, что значительную помощь им может оказать опыт современных этнологов (антропологов)[67]. Соответственно, в качестве отдельного направления в археологической науке появилась этноархеология[68], задачей которой является реконструкция образа жизни древних обществ, исходя из материальной и нематериальной культуры более поздних, но хорошо описанных обществ. Она была дополнена экспериментальной археологией[69].
Интерес к кросскультурным исследованиям для выявления общих и особенных характеристик ранних государств – еще одна важная черта процессуальной археологии. Вероятно, не в последнюю очередь он зародился как следствие набиравшего обороты процесса глобализации. С конца 1970-х гг. в таких сравнительных исследованиях стал появляться и Египет[70], в результате чего были получены многие неочевидные наблюдения[71]. Главная проблема, пожалуй, заключалась в том, что работающие в данной сфере исследователи не выработали пока общепринятого мнения о том, какие категории свидетельств могут использоваться в сопоставлениях эффективно, а какие нет. Кроме того, поскольку у исследователей обычно нет возможности сравнивать данные напрямую, сравниваются традиционно интерпретации коллег[72], изменения в которых сложно порой отследить. Впрочем, интерес к кросскультурным исследованиям сохраняется, и представление о том, что если специалист знает лишь одну цивилизацию, то он в действительности не знает и ее, регулярно озвучиваются в литературе[73].
Работая в рамках позитивисткой парадигмы, процессуалисты не могли со временем не подвергнуться критике за механизацию культуры, чрезмерное внимание к природным факторам и игнорирование в исследованиях тех аспектов человеческой деятельности, которые сложно представить в виде простых данных – например, моральные ценности, религиозность или эстетические вкусы. На волне критики процессуализма возникла так называемая постпроцессуальная археология[74]. Как и во многих других случаях, приставка пост-, по большому счету, означает лишь то, что направление это еще полноценно не сложилось и не имеет достаточной теоретической базы, а следовательно, не может быть более точно определено терминологически.
Один из основателей постпроцессуализма британец Иэн Ходдер оказал большое влияние на методику ведения раскопок и документацию американской экспедиции в Гизе под руководством Марка Ленера[75], а через нее – на десятки специалистов, прошедших там практику и ведущих сегодня раскопки по всему Египту. По сути, представители постпроцессуальной археологии, разочарованные в процессуализме, структурализме и марксизме, встали на сторону релятивизма как альтернативы рационализму, предложив две вполне ожидаемые в рамках неклассической и затем постмодернистской науки инновации. Во-первых, они расширили понимание археологического контекста, добавив в него еще один элемент – самого археолога, который этот контекст выявляет и интерпретирует, его опыт, мировоззрение, интересы и убеждения. Во-вторых, они изменили приоритеты, перейдя от исследования культурных процессов к преимущественному изучению акторов, агентов[76] и их индивидуальных характеристик (гендер, идентичность, этничность, агентность, идеология и т. д.)[77].
Даже самые профессиональные исследователи во время работы вряд ли могут быть абсолютно свободны от общества, в котором они сформировались, институциональной организации науки в тех странах, где они трудятся, системы обучения или собственного социального статуса и личных воззрений. Впрочем, следует помнить, что научно доказать можно только наличие влияния внешних факторов на выводы ученого, а вот его отсутствие доказать нельзя. Размышляя над собственной работой, а также наблюдая за профессиональным развитием своих коллег, я должен согласиться с тем, что исследователи в среднем склонны более критично относиться к тем гипотезам, моделям и теориям, которые в наименьшей степени соответствуют их жизненному опыту и воззрениям, а принимать и развивать те из них, которые с ними согласуются[78].



