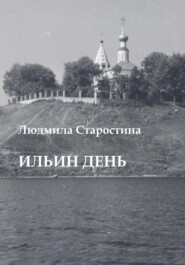 Полная версия
Полная версияИльин день
Моя мама не раз замечала, что Тоня (впоследствии – моя любимая тетка Антонина Ивановна, я звала ее по-домашнему Лелечкой) в старости и внешне, и по характеру стала очень похожей на свою бабушку Прозорскову, та была такая же – небольшого роста, немного полная, но необыкновенно мудрая и уравновешенная. Рассказывали также, что бабушка Прозорскова всегда носила поверх платья очень чистый, наглаженный черный фартук. Будучи в гостях, она с удовольствием выпивала несколько чашек горячего чаю, и когда ей от чая становилось жарко, она аккуратно вытирала лицо подолом своего чистого фартука, и это у нее получалось очень естественно и достойно.
Удивительно, что это была за жизнь? Какими были отношения между людьми? Понятно, что все эти многоуровневые родственники, регулярно приезжавшие в гости к Смолиным, наверное, не хотели терять связи с семьей всеми уважаемого Ивана Васильевича. Но ведь они приезжали в дом, где хозяйкой была совершенно чужая им женщина, живущая нелегкой жизнью, обремененная большой семьей. Любому понятно, что угощать гостей, убирать за ними – это дело женщины, и вся работа делается ее руками. И также любому было понятно, что лишней копейки в доме не было. И комната 7 квадратных метров. И, тем не менее, гости приезжали почти каждое воскресенье, и хозяева всех радушно принимали. Этот порядок вещей, много лет сохранявшийся в доме Смолиных, говорит о многом.
Хозяйка дома, Екатерина Алексеевна, моя будущая бабушка (племянники звали ее тетя Катя) все это принимала как должное, делала все, что требовалось, и впоследствии ни разу никому не пожаловалось, что когда-то ей было тяжело обихаживать всю эту кучу народа. Наоборот. Мне всегда казалось, что ей приятно было вспоминать, как много людей бывало в ее доме, с каким уважением все относились к ее мужу и к ней самой, как люди ценили ее умение приготовить угощение и угостить гостей. Наверное, это, действительно, можно считать подтверждением верности известного утверждения: «Истинная роскошь – это роскошь человеческого общения». Бабушка наверняка не знала этого афоризма, но суть его ей удалось понять и прочувствовать самостоятельно: главное – это то, что людям хочется к тебе придти, люди ценят возможность общения с тобой, а каких усилий и подчас даже жертв это стоит тебе самому – не так уж и важно.
Глава 22. «ЛОЖИТЕСЬ С БОГОМ!»
Разумеется, изредка приезжали в гости и родственники Екатерины Алексеевны из Едимонова – брат Илья Алексеевич Мордаев и его жена Анна Ивановна, Нюша. Хотя они, в отличие от прочих, хорошо понимали, что две комнатки в коммунальной квартире – не слишком подходящие условия для приема иногородних гостей. Но поскольку регулярное общение с родными было естественной потребностью всех членов «клана» Мордаевых независимо от их возраста, они всегда радушно приглашали московских родственников в гости к себе в деревню. Тем более, что в начале 30-х годов еще были живы и здравствовали дедушка и бабушка Мордаевы – Алексей Яковлевич и Евдокия Павловна.
Семья Ильи Алексеевича жила в одном доме со стариками-родителями. По неписанным законам русской патриархальной жизни, пока живы оба родителя, главой семьи является дед. В семье Мордаевых так оно и было. Поэтому все родственники, кто бы ни приезжал в дом к Мордаевым в этот период времени, должны были знать, что приехали в гости, в первую очередь, к старикам, к отцу с матерью. А сын с невесткой – Илья и Нюша, несмотря на то, что имели к тому времени пятерых детей и давно уже были главной рабочей силой в семье, находились на более низкой ступени семейной «иерархической лестницы».
Дом Мордаевых был сравнительно небольшой. Главных комнат было две: в одной из них располагалась большая русская печь – центр жизни семьи, другая комната была, в известном смысле, парадной, в ней всегда было чисто, пол был застелен новыми половиками, на окнах висели белые крахмальные занавески.
Мою будущую маму, бывшую в те годы 7-8-летней девочкой Анечкой, иногда, в летние месяцы возили в Едимоново в гости к дедушке с бабушкой. Анечка и ее родной брат Костя живали в семье Мордаевых по нескольку недель в компании троих двоюродных братьев (Василия, Петра и Константина) и сестры Нины. Четверо мальчиков были годов рождения с 1919 г. по 1923 г. Девочки были чуть помладше – Анечка с 1923 года, Нина с 1926 года. Кроме уже названных ребят, у Ильи и Нюши в 1932 году родился самый младший сын Витя. Заведовала этой веселой компанией общая бабушка Евдокия Павловна.
У моей мамы в памяти сохранилось не слишком много воспоминаний о тех детских днях в деревне. Она рассказывала только, что братья жили своей мальчишеской, бурной и веселой жизнью, а девочки старались держаться от них подальше. Когда наступал вечер, и приходило время укладываться спать, в передней избе, там, где всегда чисто (эта комната называлась «прируб», туда никто не ходил в уличной обуви), на полу в ряд стелили несколько сенных постельников – сенников (это такие матрацы из грубого льняного полотна, набитые свежим сеном). Постельники покрывали простынями, клали подушки (не обязательно по числу «ночлежников», а столько, сколько было). И на эту широкую, благоухающую сеном постель укладывали спать всех ребятишек в рядок. С краешку постели укладывалась бабушка Евдокия Павловна. Перед тем как лечь, она старалась всех ребят успокоить, угомонить, каждого перед сном крестила и много раз повторяла: «Ложитесь с Богом, ложитесь с Богом!». Самым шустрым и веселым из мальчишек был Костя Мордаев (в последствии – всеми нами любимый дядя Костя). Он моментально подхватывал бабушкину фразу и говорил: «Нет, ба, я не лягу с Богом, я лучше с тобой лягу!». Все хохотали, веселье продолжалось еще какое-то время, потом все спокойно засыпали и чувствовали себя прекрасно.
Кстати, спать на полу на сенных постельниках было вполне нормальным делом для деревенских жителей. Семьи были большие, разве на всех кроватей напасешься? Да и избы не строили большими. Даже если дом и был с виду большим, то это не значило, что все помещения внутри дома отапливались. Были сени, горница, просторный коридор – так называемый «мост», связывающий все части дома, – в этих помещениях не было печей, зимой в них спать было нельзя. Главные, теплые комнаты в домах – избы – всегда были небольшими. Поэтому в холодное время года многие спали в теплых комнатах на полу. Постельники, разумеется, на день с полу убирали и хранили их в холодных сенях свернутыми в рулоны. Такой «круговорот» постельников из теплых комнат в холодные сени и обратно был залогом чистоты и гигиены. В холодных сенях в мороз постельник за день промерзал. Поэтому в нем не могли угнездиться никакие насекомые, никакие бактерии, никакие дурные запахи, сено не могло начать гнить. И когда вечером сухие холодные постельники приносили из сеней в избу, дом наполнялся особым ароматом свежего сена и мороза. Поскольку сухое сено быстро наполняется воздухом, постельники очень скоро прогревались и спать на них было вполне тепло. Это мне известно из рассказов моей дорогой мамы, которой, как вы помните, первые семь лет своей жизни пришлось прожить в деревне.
Моя мама, в те годы – девочка Анечка, хорошо запомнила, что пока был жив дедушка Алексей Яковлевич, в доме Мордаевых члены семьи и дети всегда садились за стол в одном и том же порядке. В будни, разумеется, завтракали, обедали и ужинали за столом, который стоял в той комнате, где русская печка. В углу комнаты, противоположном от входной двери, располагалась широкая скамья, имеющая форму буквы «г», то есть скамья была «встроена» в угол. У скамьи стоял стол. Получалось, что по двум сторонам стола – в торце и по длинной стороне – люди сидели на скамье, по двум другим сторонам – на табуретах.
Во главе стола, в торце, спиной к окну всегда сидел глава семьи – дедушка Алексей Яковлевич. По левую руку от него на скамье подряд сидела детвора – внучата. Рядом с ним, по правую руку от него, на табурете сидел его сын Илья Алексеевич, далее рядом с Ильей садилась его жена Анна Ивановна с маленьким Витенькой на руках. Бабушка Евдокия Павловна устраивалась у другого торца стола. Таким образом, дед видел все, что происходит за столом, и дети знали, что дед их видит и беспорядка не допустит. Бабушка со своей стороны так же следила, чтобы все ели аккуратно, не баловались, руками над столом не размахивали и не толкались. Видимо, такой строгий порядок был необходим, потому что мальчишек за столом было много, и все были очень активные. Поскольку детьми за столом занимались дед и бабка, молодые родители Илья и Анна могли спокойно поесть. Анна по мере необходимости могла заниматься маленьким ребенком.
Тот же самый порядок расстановки мебели сохранился в доме Мордаевых и в 60-е, и в 70-е годы 20-го века, так что мне тоже пришлось посидеть за столом на этой скамье, и я тоже ее прекрасно помню. Судя по тому, как плотно скамья прилегала к стене, я предполагаю, что она была к стене прибита. Над скамьей, почти под потолком висела «искоска» – угловая полочка, на которой стояли иконы, может быть, их было три, может быть, больше, я точно не помню. Чтобы иконы стояли не на «голой» деревянной полке, на искоске всегда лежала белая, видимо, специальная крахмальная салфетка с кружевными краями. По середине искоски, перед ликом самой большой иконы на тонких цепочках висела белая в цветочек фарфоровая лампадка в форме довольно большого пасхального яйца. Временами я видела, что лампадка зажжена, но горела ли она всегда или ее зажигали только время от времени, я не знаю.
В Едимонове был большой каменный храм в честь святого великомученика Димитрия Солунского. Он стоял на высоком берегу Волги, на самом высоком месте и, безусловно, был центром культурной и духовной жизни едимоновских жителей. К сожалению, его постигла участь тысяч православных храмов России. Его снесли перед началом Великой Отечественной войны.
Но в 30-х годах, когда люди в деревнях еще старались придерживаться прежних, веками установленных правил жизни, храм еще стоял на своем месте. И жизнь вокруг него шла своим чередом.
В семье Мордаевых было принято посещать церковь регулярно, как предписывают правила православия. Дедушка Алексей Яковлевич много лет был старостой церкви и относился к своим обязанностям очень серьезно. Староста – это такая общественная должность при православном храме. Староста должен был приходить в храм не к началу службы, а несколько раньше, следить, чтобы в храме все было аккуратно убрано, раскладывать по местам церковную утварь, свечи. Если праздник – позаботиться о том, чтобы храм был должным образом украшен. В праздник Троицы – березовыми веточками, в канун Рождества – елочками, в другие праздники – цветами. Возможно, в его обязанности входил и контроль за церковной кассой.
Невестка Алексея Яковлевича Анна Ивановна, жена Ильи, как мы помним, с детства пела в церковном хоре. У нее был замечательный голос, высокий и сильный, все в деревне об этом знали, и ей, конечно, было приятно в праздник придти в церковь и петь на клиросе во время службы. Она знала, что все слушают, как она поет, и радуются.
Дети, пока были маленькие, ходили в церковь за компанию с бабушкой. Позже, когда мальчики подросли, их усердие в этом деле поуменьшилось, да и дедушка к тому времени уже умер. А Нина, даже будучи подростком, ходила с бабушкой в церковь, видимо, не без удовольствия. Очевидно, для молодежи поход в церковь был своего рода «выходом в свет». Моя мама вспоминала, что сестра Нина, собираясь с бабушкой в церковь, всегда наряжалась и старалась выпросить у своей матери какой-то необыкновенный яркий шарф малинового цвета, который она щегольски повязывала вокруг головы и на виске выпускала нарядный бант. И тогда бабушка отправлялась в церковь с особым удовольствием, в сопровождении своей красавицы-внучки. Москвичка Анечка, когда подростком приезжала в деревню, никаких особенных нарядов с собой не привозила. В церковь с бабушкой и сестрой Ниной, конечно, ходила, но для нее эти походы не представляли большого интереса.
Глава 23. «БОЛЬШАЯ» КОМНАТА
Тем временем в Москве, в семье Смолиных, жизнь не стояла на месте. Иван Васильевич предпринял усилия для расширения жилплощади своей семьи. В конце коммунального коридора располагалась довольно просторная терраса, устроенная еще прежними хозяевами дома – домовладельцами. Иван Васильевич добился разрешения обустроить эту террасу, утеплить ее и превратить в полноценную комнату. Таким образом, семья получила вторую, так называемую «большую» комнату. Площадь большой комнаты составляла примерно 15 квадратных метров. Маленькая и большая комнаты находились в разных концах коридора. Тем не менее, для семьи это стало существенным улучшением жилищных условий. Молодежь – Тоня, Костя и Анечка переехали спать в большую комнату.
Тоня закончила обучение в училище и пошла работать. Первое место ее работы почему-то находилось очень далеко от дома, в районе, который назывался Большие Котлы. Район с таким названием существует в Москве и по сей день, он расположен где-то недалеко от Рязанского проспекта.
В те годы рабочий день на всех предприятиях начинался очень рано, не позже семи часов утра. Очевидно, потому что работали в две или даже в три смены. Линия метро в 30-е годы в Москве была одна – от станции Сокольники до станции Парк культуры. До Больших Котлов на метро было доехать невозможно. И Тоня, молодая девушка, ездила с Большой Богородской улицы до Больших Котлов на нескольких трамваях с пересадками. Представьте себе, сколько времени могла занимать дорога на работу. А в Москве, как известно, зима длится практически полгода, и ранним утром бывает очень-очень темно и холодно. Чтобы успеть на работу к семи часам, Тоне приходилось вставать, я думаю, не позже пяти часов утра, а может быть и раньше, бежать по темноте и снегу на трамвайную остановку, прыгать в холодный трамвай (трамваи в те годы не отапливались) и ехать более полутора часов, пересаживаясь с одного трамвайного маршрута на другой. После работы – тот же путь в обратную сторону. При этом хочу отметить, что когда Антонина Ивановна рассказывала о том, как она в молодости ездила на работу в Большие Котлы, она не жаловалась, что ей было трудно. Наоборот, она рассказывала об этом со смехом и сама удивлялась: казалось бы, должно было быть очень тяжело, а было вроде бы нетрудно, вполне естественно. Она вспоминала, что тогда по дороге на работу у нее была одна проблема – в холодных трамваях очень сильно замерзали ноги.
Костя очень хорошо учился в старших классах, готовился поступать в институт. До него никто из родственников об институте и не думал. Рассказывали, что он был необыкновенно разумным, добрым и веселым молодым человеком. Им очень гордилась вся семья.
Поскольку жилищные условия семейства Смолиных существенно улучшились (появилась вторая комната площадью 15 метров), расширились и возможности для оказания помощи родственникам. У Мордаевых в Едимонове подрос старший сын Василий. Разумеется, никто не хотел, чтобы он остался жить в деревне, поступать на работу в колхоз и т.д. Ему нужно было получать городскую профессию. И Екатерина Алексеевна с согласия мужа взяла племянника Васю жить к себе. Таким образом, наша «большая» комната на 2-й Прогонной улице получила четвертого жильца, а на попечении хозяйки дома оказалась команда из четверых молодых людей: дети Тоня, Костя, Анечка и племянник Вася.
По теперешним временам, подобная ситуация могла бы оказаться чрезвычайно сложной. Кому бы из взрослых сейчас под силу было справиться с такой компанией? Но тогда, видимо, общая атмосфера в жизни была другой. И в семье был полный порядок. Каждый занимался своим делом, к старшим относились с большим уважением, никто не дерзил, никто ни с кем не ссорился. О том, чтобы выпивать, никто из молодежи и помыслить не мог.
Бабушка Екатерина Алексеевна рассказывала, что как-то вдруг она почувствовала, что от Василия временами пахнет табаком. Ему было примерно 17 – 18 лет. Она спросила: «Вася, ты что, куришь?». Видимо, юноше в таком возрасте признаться старшему в том, что он курит, было бы стыдно. Он, разумеется, сказал – нет. Далее бабушка вспоминала такой случай. Однажды едет она в трамвае, и видит – на передней площадке стоит Василий и ее не замечает. Она потихоньку двигается к нему в трамвайной толпе и видит, что у него из кармана брюк торчит пачка папирос. Она сделала вид, что полезла к нему в карман, он встрепенулся, схватил ее за руку и тут увидел, что это не воришка, а его родная тетя Катя, которой он намедни клялся, что не курит. Получилось, что попался «с поличным». Как бы сейчас отреагировал 17-летний юноша, если бы тетка нашла у него в кармане пачку сигарет? А тогда Василий страшно смутился, извинялся за то, что врал, и обещал курение немедленно прекратить. Бросить курить, разумеется, и не подумал. Но какова была постановка вопроса? Стыдно было признаться тетке в том, что ты куришь.
Возможно, сейчас кто-то скажет, что все это неправда. Жизнь не могла быть такой правильной и чистой. Не могу спорить, тем более что все это происходило в семье задолго до моего рождения. Но могу свидетельствовать: все люди, о которых я пишу, сохранили такие же чистые и добрые отношения между собой до старости, практически до конца своих дней. А об атмосфере, царившей в семье в конце 30-х годов, можно судить по фотографиям, сохранившимся в альбомах у нас и у наших родных.
Например, в семье была традиция по воскресеньям и по праздникам всем вместе ходить гулять в парк Сокольники. Сохранилось несколько фотографий, сделанных во время этих прогулок Костей Смолиным (он увлекался фотографией). На фотографиях все: молодые девушки – Анечка, Тоня, их подружки, молодые люди – Вася, Тима – будущий муж Тони, есть на этих фото даже глава семьи Иван Васильевич, который тоже с удовольствием ходил гулять с семейством в парк. Девушки в легких светлых платьях, мужчины – в белых рубашках, все веселые, гуляют среди берез, смеются. Такие вот есть маленькие черно-белые свидетельства давно ушедшей жизни.
Глава 24. ПИОНЕРСКОЕ ДЕТСТВО
Анечка Смолина, моя будущая мама, в 30-х годах училась в школе, была активной пионеркой, танцевала, пела в различных кружках, принимала участие в самодеятельных концертах. На лето ее отправляли в пионерские лагеря. Свою пионерскую жизнь мама вспоминала очень часто и всегда с удовольствием. Она считала, что пионерские лагеря в том виде, в каком они существовали в 30-е годы, давали детям огромные возможности для развития и физического, и интеллектуального. Знания и опыт общественной жизни, которые ребенок приобретал в пионерском лагере, были бесценны, особенно для детей из скромных пролетарских семей.
По счастливому стечению обстоятельств родители имели возможность отправлять Анечку в очень хорошие пионерские лагеря. Однажды ей даже удалось провести лето в пионерском лагере на Черном море, в городе Анапе, что в Краснодарском крае. Стоит отметить, что в те времена даже в хороших пионерских лагерях дети часто жили в палатках, а не в домиках, как это было заведено позже. Мама рассказывала, что в Анапе это были настоящие армейские палатки, большие и прочные. Они стояли прямо на песке, на широком пляже вблизи моря. В одной палатке обычно помещался один пионерский отряд, это примерно 30-40 человек. В таких же палатках располагались столовые, клубы и другие общественные помещения. Когда детей привозили в лагерь, палатки уже стояли на своих местах и образовывали собой настоящий палаточный город, состоящий из нескольких улиц.
Одно лето пионерка Анечка провела в пионерском лагере в Карелии, в местечке, которое называлось Медвежегорск. Карелия – северный край. Летом там бывает значительно более прохладно, чем у нас, в средней полосе России. Но природную среду там создают вековые сосновые леса, растущие на песчаной почве, поэтому с точки зрения укрепления здоровья детей место для пионерского лагеря было выбрано весьма удачно. В Карелии палатки пионеров стояли на специальных деревянных подиумах, чтобы в случае дождей полы в палатках не заливало водой, и чтобы было не слишком холодно от земли.
Мама вспоминала, что в тех пионерских лагерях, в которых посчастливилось бывать ей, детей кормили очень хорошо. Вероятно, ставилась задача использовать все возможности для того, чтобы укрепить здоровье ребят. В те времена люди жили бедно, во многих семьях родители могли обеспечить детям только довольно скудное питание. А в пионерских лагерях детям на завтрак нередко давали какао с молоком, сливочное масло. На юге, в Анапе, где растет очень много фруктов, и фрукты в летний сезон, конечно, очень дешевы, дети в пионерском лагере получали фрукты в большом количестве. Мама запомнила, например, что на полдник давали по большой тарелке винограда. Вполне возможно, что в те годы в Москве, в простых семьях скромного достатка никто и не помышлял о том, чтобы покупать виноград. Поэтому детям пребывание в пионерском лагере, безусловно, приносило огромную пользу.
Во время войны, когда Анечка была уже студенткой, ей предложили во время летних каникул поработать в пионерском лагере пионервожатой. Тогда она узнала жизнь пионерского лагеря с другой стороны – со стороны взрослых людей, отвечающих за детей, за их здоровье, времяпрепровождение и т.д. Она вспоминала, что жизнь вожатых была несладкой: дисциплина была строжайшая, вожатые должны были утром подниматься очень рано, бежать к начальнику лагеря на инструктаж, потом готовиться к подъему детей. В течение всего дня вожатый был обязан находиться вместе с детьми. Каждый вечер после отбоя, когда все пионеры уже были уложены спать, начальник лагеря проводил совещание, на котором вожатые отчитывались за прошедший день: какие происшествия произошли в каждом из отрядов, не заболел ли кто-нибудь из ребят, не получил ли травму. Здесь же составлялись планы на следующий день: какой отряд чем будет заниматься – у кого футбольный матч, кто идет гулять в лес, кто готовится к самодеятельному концерту и т. д.
Шла война, юношей среди вожатых не было – все воевали. Вожатыми работали только девушки. В каждом отряде полагалось работать двум вожатым: одна девушка должна была заниматься преимущественно мальчиками, другая – девочками. Анечке досталось заниматься мальчиками. В ее отряде были ребята 10-11 лет. Она с удовольствием рассказывала, какой это был шустрый, веселый и непоседливый народ.
Вожатой приходилось очень много бегать со своими подопечными, играть в футбол, организовывать для них какие-то другие активные игры. Самый курьезный случай был такой: мальчишки раздобыли где-то вар. Это такая черная липкая масса, которую готовят на основе нефтепродуктов и используют, в частности, для заделки швов в трубопроводах, на кровельных покрытиях и т.д. Ребята набрали кусков этого вара, и чтобы пронести их на территорию лагеря, каждый спрятал куски вара себе под майку – на живот. Пока они бегали с этим варом на животах, вар немного расплавился от тепла тела, и у каждого живот оказался густо измазанным черным жирным нефтепродуктом. Особую остроту ситуации придавал тот факт, что на другой день в лагере планировался приезд родителей – так называемый родительский день. Мама вспоминала, что руководство лагеря отнеслось к проблеме с пониманием: вожатую не ругали, а выдали ей канистру керосина и велели оттирать керосином животы ребят до полной чистоты, чтобы назавтра можно было их предъявить родителям чистыми и аккуратными. Что вожатая Анечка и выполнила с помощью медицинской сестры.
Эту и многие другие истории о жизни в пионерских лагерях мама всегда вспоминала с большим удовольствием. И когда пришло время ей решать – отправлять свою дочь в пионерлагерь или не отправлять, мама не долго сомневалась. По своему опыту она была уверена, что ребенку в пионерлагере будет хорошо, и такой опыт в любом случае будет девочке полезен. В принципе, она не ошиблась. Хотя положение дел в пионерских лагерях в 60-е годы было уже несколько иным, чем в 30-е и 40-е годы, дисциплины и ответственности со стороны вожатых было уже существенно меньше, но можно сказать, что мне повезло – со мной не случилось ничего плохого. Благодаря тому, что мне пришлось побывать в общей сложности в трех пионерских лагерях, я приобрела новый опыт общения и с ровесниками, и с взрослыми людьми, опыт адаптации в другой среде и вообще узнала много интересного о жизни.
Глава 25. СЕМЕЙНАЯ ЭКОНОМИКА
Материально семья Смолиных жила очень скромно. Бабушка рассказывала, что на воскресенье (и только на воскресенье!) покупали сливочное масло, граммов двести или двести пятьдесят, и кусочек мяса с косточкой: из мяса варили суп или щи на мясном бульоне и делали котлеты. Также в воскресенье всегда варили компот. Таким образом, в выходной день, когда все были дома, в семье был настоящий воскресный обед. В будние дни сливочного масла не покупали. Если вдруг приходили нежданные гости, кого-нибудь из детей посылали в магазин и велели купить сырку, колбаски, селедочку. Хозяйка дома быстро варила картошечку, зимой из бочки, стоявшей в сарае, приносили квашеной капусты, и получался праздник.

